Текст книги "Беглая Русь"
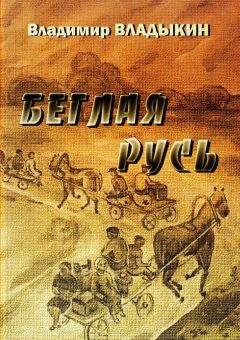
Автор книги: Владимир Владыкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Когда Кузьма Ёлкин стал неожиданно прибиваться к Соне Чесановой, это событие Староумову покaзалось весьма подозрительным. А всё потому, что в его сознании как-то неожиданно возникала, по существу, нелепая мысль, дескать, неспроста Матвей Чесанов привёл Кузьму к себе на ночёвку, который хотел выведать у Соньки нечто о нём, Староумове? Ведь до этого все трактористы жили в землянке, и Кузьме там находилось место. Значит, он подосланный особист в ипостаси тракториста! Калейкин нечто похожее тогда плёл, чем хотел взять его на испуг. Неужели он, Староумов, уже начал сходить с ума, с чего это ради стал плести такую ахинею? Ну, была Сонька его невесткой, хорошо знала уклад их семьи, умонастроения его, Староумова, да и всей семейки. Враки! Ничего Сонька от него не слыхала… «Ох, этот поганый страх, откуда он взялся, – думал он про себя. – Я же не чужое беру, а своё…» – оправдывал он себя, а в душе, однако, кто-то чужым голосом предвещал: «Ничего, когда-нибудь всё равно попадёшься. И от суда тебе ни за что не уйти уж точно, и тогда упекут туда, где Макар не пас телят!»
Но кладовщик одного не ведал, что тогда из города пришли грузовики за хлебом. Одна машина неосторожно разворачивалась и наехала на землянку, повредив перекрытие, которое потребовалось отремонтировать. Трактористов пришлось временно расселить по хатам. И шоферам надо было где-то переночевать. Они заняли пустовавшие землянки. А Кузьме места не хватило, тогда Матвей Чесанов пригласил парня к себе на ночёвку. И что ему, Староумову, влез в мозги этот тракторист, ну таскался с Алиной Ермолаевой, так все трактористы и шофёры с ней были, ославилась девка дальше некуда! Надоела она и Кузьме, вот и решил пощупать Соньку, она такая же блудница, как Алина. А Матвей привёл, будто не подозревает, на что способна его дочь… У мужика всегда верный нюх на податливую бабу, которая готова перед ним расстелиться без стыда…
Но как бы там ни было, Староумова не устраивало такое самоуспокоение. Подозрение становилось навязчивым, липким, как смола. Ему даже снились кошмарные сны, будто он спит в амбаре прямо в ларе с зерном, а к нему со всех сторон крадутся сотни людей с мешками в руках и обступают его плотным кольцом, оно сжимается вокруг всего амбара; люди простерли к ларям с пшеницей дрожащие от жадности руки. Вот двери легко слетают с петель, вот из окон выскакивают рамы, вот бьётся стекло. Вот лезут по крыше, вот хрустит черепица, вот она сползает, падает, колются на мелкие кусочки целые листы, вот оголилась обшивка и сквозь дырчатый потолок зияют просветы и провалы в черноту, вот со стен падают, соскакивают брёвна, раскатываются и растаскиваются жадными до чужого добра руками. И от амбара ничего не остаётся, сруба больше нет. Староумов спрятался за ларями, наполненными янтарным зерном. И к нему прорываются оскаленные, яростные рожи, страшные физиономии, с расширенными пятернями рук, и пытаются ухватиться за него. Староумов схватил палку и стал ею, крича исступлённо, отмахиваться от хищного нашествия обезумевших людей. Вот он явственно видит перед собой безобразно перекошенное лицо Жернова, выпучившего на него безумные глаза. А вот дед Роман машет ему кулаком, сдвинув решительно к переносице брови. И что-то ему кричит, брызгая слюной, однако, голоса его совсем не слышит. А вот и Семён насмешливо качает головой, при этом его борода вздрагивает и трясётся, как у козла, но он вдруг неожиданно отвернулся и бесследно пропал. И уже что-то сумбурно, истошно горланят, как сороки, бабы. Только его жена Полина стоит безучастно, созерцая печально мужа и с осуждением горестно покачивает головой.
А в следующее мгновение люди вытолкнули Ивана Наумовича из амбара, и отталкивая, отпихивая друг друга от закромов, став со всех сторон выгребать из ларей зерно, ссыпая его в мешки. И тогда, видя, что этому разбою не будет конца, Староумов схватил берданку и начал яростно, отчаянно палить то в небо, то в людей, учинивших натуральный грабёж, чтобы, наконец, они образумились, пришли в сознание…
Но тут Староумов проснулся, почувствовал сильное биение сердца, весь вспотел, увидел висевшую на стене берданку, стал успокаиваться. В горле, однако, застрял комок, время от времени его прошибал холодный, нервный озноб. Он вскочил с топчана, сорвал со стены берданку и опрометъю метнулся на улицу, окутанную мраком. Лишь вдали фонарь сонно освещал большую часть тока. Восточный ветерок тянул ночную свежесть, настоянную на степных травах, смешиваясь с запахами пшеницы, пыли и солярки. Почему-то он боялся делать обход, чтобы пригрезившийся кошмарный сон вдруг не обернулся явью. Повсюду было тихо, лишь всё тот же ветерок приятно освежал заспанное лицо. В чёрном, антрацитном небе сквозь волглую мглу еле проглядывали блёклые звёзды. Далеко за сонным посёлком, погруженным полностью во мрак, под самым городом на небе отражалось матовым, бледным свечением электрическое освещение городских улиц. И как раз там всходила полная луна, подёрнутая тонким слоем облаков. Где-то сонно, коротко взлаивала собака. Между прочим, Староумов их не любил, поэтому никогда пса не держал, полагая, что в его работе он бы только мешал.
Староумов обошёл элеватор, зернохранилище, веятельные машины и транспортёры, дизельную подстанцию. Кажется, он не услышал ни одного постороннего звука, хотя чувствовал – мыши не дремали. А вот и послышался их писк, значит, проворно таскали в свои норки зерно, колоски, остюки. Иван Наумович враз вспомнил о Мощеве, несшим на скотне дежурство. Но был ли он на своём месте, это надо немедленно выяснить. И, подумав так, Староумов пошагал по направлению к амбарам…
Когда Староумов впервые обнаружил под амбаром забитый в дыру чок, ему почти стало дурно: как он посмел проморгать расхитителей? А ведь они, наверное, так промышляли давненько, потому что под амбаром уже чуть ли не колосилась пшеница. Конечно, зерно могло проскочить сквозь щели в полу, хотя половицы были подогнаны довольно плотно. Тем не менее факт растащиловки он выявил, теперь только оставалось поймать тех, кто этим занимался. В первую очередь подозрение падало на Афанасия Мощева и Демида Ермилова, что-то часто ездившего в город, даже без ведома председателя и бригадира. Разумеется, в равной мере то могли быть и Роман Климов, и Пантелей Костылёв, и Мартын Кораблёв, и Семён Полосухин. Так можно пересчитать всех, без исключения, колхозников, и никого не угадать, поэтому надлежало разоблачить, поймать злоумышленников с поличным. Однако как раз этого Староумов чрезвычайно боялся. Ведь ночные воры могли видеть и его с мешком на плече. И пока он относил зерно домой, этим временем воры действовали безнаказанно. Но поскольку он дал председателю твёрдое слово, что расхитителей выявит, надо было незамедлительно действовать.
И вот Староумов крался к амбару осторожно, бесшумно, часто останавливался, прислушивался, всматривался в темень, к которой он так привык что, казалось, видел хорошо все объекты. Ветерок неугомонно колыхал траву, шуршал соломенными и сенными скирдами, стоявшим по краям полей слева и справа от колхозного двора. Перегонял запахи хлеба, жнивья, свежей пашни, пыли, трав, отработанных масел и даже остывшего шлака, шедшего от кузни, и всем этим дышала летняя, уже не столь душная ночь.
Oт тока до амбаров ходьбы – метров двести. На самом подходе к ним, Староумов стал пригибаться, не то его высокая фигура хорошо видна издали на открытом пространстве двора даже ночью. Несмотря на то, что вокруг стояла почти непроглядная темень, однако сторожу осторожность всегда не помешает. Ведь как-никак он хорошо различал контуры построек по всему колхозному двору. Вон чернеет с плоской, идущей под уклон кровлей, кузня, вон видна контора, а там чернеют длинные, как вокзальные пакгаузы фермы, сараи, птичник, конюшня…
С каждым годом колхозные владения ширились, умножались, последнее нововведение – птицеферма с вольерами для разведения уток, кур, гусей, кроликов – везде свои ночные дежурные. И то обстоятельство, что колхоз успешно развивался, порой Староумова донельзя раздражало, поскольку не извлекал от этого никакого ощутимого прибытка для своего подворья. А власти вместо того, чтобы помогать развиваться домашним подсобным хозяйствам, подвергали их контролю, чтобы люди не увлекались своими подворьями, а заняты были поголовно исключительно колхозным трудом. Вот оттого и злился тайно Староумов, какая это работа, если ото всех надо таиться, скрываться? Он должен жить почему-то с вечной оглядкой, чтобы не дай Бог не уличили в кулаческом уклоне. Даже с Жерновым Иван Наумович мог не всегда пооткровенничать да отвести душу. Хотя председатель чем-то тоже тяготился, уходил в себя, потайные мысли не выворачивал перед ним наружу. Да и зерно, которым Староумов наделял Жернова, он принимал с большой оглядкой. И то ладно, что в своё время пошёл с ним на сговор, однако он без конца его предупреждал, чтобы сильно не злоупотреблял своим положением и соблюдал неукоснительно меру приличия. Самое главное, чтобы их дружеская спайка на люди не просочилась, однако это уже произошло, когда к Жернову стали доходить вредные, пугающие его душевное спокойствие, слушки. А там того и гляди в район долетят об их подпольном промысле. Уж этого допустить никак нельзя, тогда дело совсем пропало…
Как-то Жернов выразил своё опасение, чтобы люди, глядя на начальство, не кинулись воровать всем колхозом, тогда их не остановишь даже напоминанием о строгом указе, предусматривающим за расхищение социалистической собственности суровое наказание. И надёжней всего надо держать народ в чёрном теле, в постоянном страхе неотвратимого возмездия, а иначе от воровского разгула не будет спасения. Но пока гром не грянет никто не перекрестится…
И когда Староумову стало доподлинно известно, что кроме него в колхозные закрома запускает некто хваткие и дерзкие руки, он решил их выявить. Причём ему казалось, что воры покусились на его исконные владения. Он действительно воображал, что является собственником несметного богатства, поэтому недопустимо поощрять растащиловку. И хорошо понимал, что борьба предстояла нешуточная.
Сообщением кладовщика Жернов остался чрезвычайно доволен, и приказал вывести воров на чистую воду. И как никогда председателя охватывало крайнее любопытство: кого Староумов ему представит для лицезрения: только тех, кто зерно тащил горстями, или матёрых мешочников навроде себя? А не пора ли самим кончать, ведь недаром говорится: рыба гниёт с головы. И он, Жернов, должен сам прижать Староумова, как главного расхитителя, не то он, председатель, может погореть вместе с ним. Как-то Жернов поинтересовался у Романа Климова о его сменщике Староумове, чтобы только отвести от себя подозрения людей.
– Как думаешь, Роман Захарович, Иван Наумович не оставляет объекты по ночам, чтобы самому заниматъся воровским промыслом?
– Павел Ефимович, я могу вопрос поставить иначе. Вы случайно у него это же самое обо мне не спрашивали? – прищурил лукаво глаза Климов.
– Зачем? Тебя-то я знаю, ты прямодушный человек, а Староумова хоть и больше знаю, чем тебя, но никак его не раскушу.
– Это верно, наобум можно брякнуть всякое, Павел Ефимович, – раздумчиво начал Климов, весьма плотный старик с небольшой окладистой бородкой, придававшей ему вид древнего мудреца. Было в его ясном взоре нечто библейское, прозорливое. – Сам я не видел, а кривотолки – не признаю. А там его воля, совесть ему судья. Скажу по себе, мне и в голову не приходило оставить колхозный двор. А ежли кража совершится лихоманами в моё отсутствие? Так что понимаю – на большой грех толкает соблазн поживы. Не к лицу сторожу быть вором на доверенных ему объектах. Кого он обманывает, колхоз, председателя? Я так понимаю, прежде всего, самого себя. А почему нельзя сказать, что Иван ладный хозяин? Кто старательно трудится, тот и загребает плоды, а он трудяга, каких у нас мало! Но что жаден до всего в хорошем значении, это не отнять. Зерно даже на дороге увидит – подымает, да еще пыльцу с него сдует, как с камушка драгоценного. А это значит – хозяин завсегда хлебу цену знает…
«Умён старик, неплохо отозвался о Староумове, и с ходу не разберёшь – врал о кладовщике или правду говорил? – думал про себя Жернов и продолжал: – А скорее всего, изловчился мудрёно сказать, зато Староумов о старике Климове отзывался дурно, с явным опасением, что будто тот под него яму роет». А потом и вовсе стал им, председателем, командовать, что Жернову, разумеется, не понравилось.
– Паша, найди деду Роману другое место, что-то он ко мне всё присматривается, будто я ему должок не вернул.
– На воре шапка горит, Ваня, где же он к тебе присматривается, ежели
ты дежуришь от него отдельно, в разных сменах?
– Дак было – разок-другой утречком. Я домой ещё не ухожу – работаю, а дед, глядь, приходит ко мне, покурит, побалакает… и уходит. Вот такие дела…
– Куда же он приходит, в амбар? Кстати, спросил бы у него, не видел ли ночью гостей?
– А зачем, Паша, разглашать тайну, ведь Климов тебе не доложил, почему? Не задумывался? Ненароком воришки узнают и затаятся, – увильнул он от вопроса председателя и ухватился за другое. Староумов лишь об одном пожалел, что не сумел переубедить Жернова, чтобы перевёл Климова на другой объект. А может, Жернов сам подсылал деда к нему? Но об этом он побоялся прямо спросить. А только сурово глянул.
– Чего зверем смотришь? Климова всё равно не сниму… К тебе я его не подсылал, можешь и не гадать…
Староумов прикусил язык, промолчал затаённо…
* * *
В эту ночь, кроме Староумова и Мощева, ещё не спало несколько человек. Демида Ермилова дома мучила бессонница; он помногу курил, пил холодную воду, испытывал неутешную душевную тревогу в связи с новыми сведениями о распутстве дочери Алины. И не ведал, что с ней делать, как исправить положение, в какое она ввергла их, родителей, отчего теперь стыдно людям в глаза смотреть…
А на конюшне, в своём закутке, покуривал дед Пантелей. Вот уже больше года он почти постоянно обитал на конюшне, давая тем самым сыну Макару возможность жить в ладу со второй женой Феней. Дело их ещё молодое, а ему и на конюшне хорошо. Работы хватает, чистить от навоза стойла для коней, чинить конскую упряжь. И так втянулся конюх в своё дело, что без него уже считал свою жизнь бессмысленной. Домой ходил только обедать, переменить исподнее белье, обмыться, сбрить бороду. И, взяв харчей в ночь, уходил. А днём к нему прибегали внуки, приносили поесть, говоря, что это мамка передала…
Макар сколько paз предлагал отцу сменщика, чтобы сам жил дома, но Пантелей ни в какую, дескать, сам справится хорошо. Жернов тоже был немало обеспокоен таким его упрямством, так как полагал, что Пантелей осложнял работу Староумову, который однажды ему предложил:
– Паша, Пантелей безвредный человек, но одному ему тяжело. Вот, как раз в конюхи можно перевести деда Романа, а то любопытен дюже, готов пересчитывать каждое зёрнышко, как в смену вступает. Я как-то на дороге поднял жменю зерна, продул его от пыли, вот как с полей возят хлебушек – сеют по просёлкам. А Климов усмотрел в моём замечании жадность. Ведь сам даже кучи зерна подмечает, какой они формы, как брезентом накрыты…
– Вот это правильно. Конечно, тебе он неудобен, Ваня, а колхозу сторож что надо! – весело отчеканил председатель.
– Так разве ты не знаешь, что я бережливей не меньше этого рачительного старого мудреца? – обиделся сторож.
– Ну и хорошо, вот и стерегите, чтобы комар носа не подточил! Тебя, Ваня, это касаемо в первую очередь, надобно кончать с растащиловкой. Да, да, ты на меня косо не смотри…
Староумов тотчас сообразил, куда клонит председатель, замял разговор. Спесь нашла на хозяина колхоза, потерпеть надо. И с тех пор о своём сменщике больше не заикался, затаив на председателя тихую обиду.
И лишь со временем, когда совместные дела с кладовщиком связывали их нерасторжимыми узами, Жернов сам стал безотчётно побаиваться Климова. Надо было освободить его от обязанностей колхозного сторожа. И потом долго ломал голову: какую работу поручить Климову? Определить его в конюхи? Но это решит проблему только частично. Можно назначить пастухом, но там их хватает: Фёдор Зябликов, Прон Овечкин, Гурий Треухов, Степан Рябинин…
Но тут как раз неожиданно слёг отец Мартына Кораблёва Платон, стерёгший и выпасывавший в степи последние годы большой гурт овец. То местечко называлось Камышевахой, поскольку там в балках высились густые заросли сплошного камыша, дно которых источено ключами, как пчелиными сотами. Кошара стояла в пологом логу, на пригорке. Таким образом, кошаре, удалённой от посёлка Новая жизнь почти за четыре версты, срочно требовался хозяин. И вот тогда Жернов воспользовался случаем немедля отослать туда сговорчивого деда Романа. Там к тому же некто тайно стриг овец, Платон молчал, он и сам не знал, как это случалось, что в отаре бегали стриженные.
– Роман 3ахарович, – начал прямо Жернов, – ты небось слыхал, намедни, что занемог Платон Кораблёв. Короче, ты назначаешься на его место в Камышеваху, как самый ответственный колхозник…
– Да, Павел Ефимович, в корень зрите. A чего, я всегда готов, – бодро, не без самодовольства произнёс Климов, почтительно, мягко глядя, с прятавшейся в глазах хитринкой, на угодившего так ему председателя…
И с того дня Роман Климов принял в степи кошару с приличным гуртом овец, куда его на бричке доставил Пантелей Костылёв с выделенным Роману Захаровичу провиантом.
* * *
…Под амбаром кто-то действительно шуршал о траву, скребя при этом чем-то, словно то был какой-то зверёк. Староумов крался к вору со стороны глухой стены достаточно осторожно, чтобы под сапогами ничто не хрустнуло: ни сухая былинка, ни камешек, ни стекло. И вот он прижался к стене амбара, ощущая в груди глухие удары сердца. А в ногах вдруг почувствовал ватную слабость, ладони, крепко сжимавшие берданку, замокрели, лоб и шея покрылись влажной испариной. Его глаза напряглись в темноту до предела, а под амбаром продолжало шуршать мягким стёком зерно. От сознания этого Староумову стало на душе муторно, тяжело, к голове приливала кровь, сердце полнилось лютым возмущением, как посмели покуситься на достояние колхоза, которым все эти годы он, Староумов, владел полноправно. А это в равной мере было почти одно и то же, если колхозное, – значит, его личное. И никто на него не имеет больше права, это его безраздельная собственность!
Староумов даже забыл, что держал в руках берданку, а когда о ней вспомнил, враз ощутил её тяжесть. К нему пришло полное бесстрашие, он сейчас мигом разоблачит расхитителя и вора. «Пущай сыплет зерно, а потом я его сцапаю, как зверя вонючего, – злорадно подумал он, и от прилива небывалой уверенности в правое дело, он стал гадать: – «Кто же находится под амбаром: Мощев, Ермилов, а может, Фадей Ермолаев? Но как бы хорошо было, коли бы сюда пожаловал Роман Климов. Тогда никаких хлопот с поимкой не было бы, но разве этот дотошный полезет в колхозный закром? Впрочем, нынче он далече, овец в степи стережёт, совсем запамятовал…»
На время Староумова взяло сомнение, что с Мощевым, если это он, одному не справится, убежит. Но его выручит берданка, два раза осечки она не даёт. Он снова мысленно вернулся к Мощеву, имевшему своекорыстное, замкнутое сердце. Впрочем, он, Староумов, тоже особенно никогда для всех открытым не был. Отношения он наладил только с Жерновым; из всех земляков лишь с ним Иван Наумович мог похвастаться своим размахом честолюбивого хозяина, о чём мечтал, чего хотел добитъся в условиях колхозной жизни, которая многому его научила, то есть умению выходить из положения. Ведь к Жернову сумел войти в доверие полностью, впрочем, даже больше, и председатель давно стал его сообщником. Поэтому он целиком в его руках, а для укрепления с ним дружбы, он, Староумов, представит председателю воришек, что станет поворотным событием в их дружбе и неопровержимым доказательством его преданности тому, чему они вместе служат…
Часть третья
Глава 19В конце августа летняя предвечерняя степь ещё дышала дневным зноем. Солнце зависало над самым окоёмом, что казалось, оно противилось медлило скатиться за дальним холмистым полем. И по всей блёклой, выцветшей, пожухлой степи плавно разливался ало-розовый закат, подёрнутый серо-лиловой дымкой. Ветерок мягкими, слегка освежающими землю, волнами колыхал перестоялые травы: овсяницу, полынь, пырей, конский щавель, череду, шалфей, тысячелистник, зверобой, душицу. А где-то по логам и лощинам прятались густые заросли конопли, татарника, репея. По взгоркам, буграм и полянам островками рос белорунный, как конская грива, ковыль и колыхался, там же фиолетился метёлками шалфей, голубели лепестковыми чашечками цветы цикория. Ветерок шустро пробегал, срывал дурманящие запахи со всех трав, ретиво смешивал их в крепкий прогорклый настой и развеивал его по всей необъятной степи…
Но вот с приходом синеватых сумерек закат потухал, дневной зной ощутимо спадал, из глубины балок и логов кверху поднималась лёгкая прохлада студёных ключей, смешиваясь с тёплыми, бархатными запахами трав и земли. И воздух становился острым и свежим, как целебный напиток.
По обе стороны широкой, разветвлённой балки простирались то полого-ровные, то холмогорые поля, кое-где в них врезались неглубокие лощины. И далеко уходили то полого распадистые, широкие, то с крутолобыми, обрывистыми буграми узкие, но довольно глубокие балки, по склонам которых обильно росли кусты боярышника и терновника, темневшие там и сям в складках местности, покрытой плотной травяной и жёсткой растительностью. И за теми дальними балками были видны, настолько маленькие поля, что издали они казались лоскутными, будто таявшими в сизой дымке, сливаясь с горизонтом. На ближних полях, раскинувшихся по обе стороны балки, произрастали пшеница, ячмень, меньше овёс. Но злаковые уже сплошь убраны, жнивьё в основном вспахано и готово под засев озимых. А вот напротив кошары по другую сторону балки стояла ещё рядками, как регулярное войско, зелёная кукуруза и слева от неё не убран подсолнечник, кое-где ещё желтеющий шляпками. Другая половина поля чернела свежей пахотой. Но под лучами закатного солнца, в тёплом золотистом мареве, она казалась текшей беспрерывно к балке бурой лавой. На краю поля желтели свежие скирды соломы, над которыми в лиловеющем поднебесье, на фоне заката солнца, кружило огромными стаями вороньё. Ещё где-то был слышен надрывный рокот работающего в поле трактора…
Овец пасли по логам, балкам и целине. К тому времени далеко не все здешние земли были возделаны. Однако некоторыми угодьями безраздельно владели соседние колхозы трёх хуторов: Мишкинского, Александровского, Красного, стоявших друг от друга на расстоянии от четырёх и до десяти километров. Но к Камышевахе самым ближним из них, однако, был посёлок Новая Жизнь, который в народе называли Бродовым, так как в год его закладки мнение людей разделилось. Одни хотели, чтобы посёлок основали на ровном месте, подальше от балки, другие сошлись на том, что строиться надо как раз у воды, поскольку в балке били ключи, где потом вырыли и возвели срубленные венцами колодцы. И тогда то ли в шутку, то ли всерьёз Семён Полосухин обронил: «Не зная броду, не суйся в воду»!..
Чабан иногда загонял овец на убранные поля, щетинившиеся жёлтой стернёй. Одно поле было только скошено, валки уже настолько уплотнились, что колосья сами по себе осыпались на землю. Роман Захарович взял пучок, чуть тряхнул, и зерно посыпалось, как мелкие янтарные камушки. Он сокрушённо покачал головой, сколько же хлеба тут пропало, почему проморгали, или всё ещё руки за пьянством не дошли? И ведь поле это принадлежало мишкинскому колхозу, славившемуся уборочными комбайнами с давних пор, когда у них в колхозе ещё их не было целый год…
За день, находясь под палящими лучами солнца, Роман Захарович поначалу уставал от одного нестерпимого зноя. Посматривая за овцами вместе с верным домашним псом Полканом, Роман Захарович собирал лечебные травы, которых здесь было много: и чабрец, и тысячелистник, и душица, и спорыш, и подорожник, и валерьяновый корень, и череда, и пустырник, и боярышник, и ягоды терновника и шиповника. Конечно, очень жаль, что многие травы на солнце почти погорели, поэтому приходилось выбирать самую зелёную, обладающую ещё целебными свойствами. По широкому ручью и сочившейся почве росло много камыша и чакана, осоки, откуда вспархивали с криком птицы, пение которых в зной было не слышно. И лишь жаворонки да перепёлки по утрам и вечерам и даже днём оглашали степь своими певчими голосами, а им как бы в пересмешку подымали таинственный пересвист серые, рыжеватые суслики…
Безлюдная, необжитая степь, где хозяйничал ветер да солнце, и укрыться от которого было почти негде, разве что за кустами терновника и боярышника. Но Роман Захарович спускался в балку, чтобы из студёного ключа набрать воды и самому ополоснуться по пояс холодной, освежающей, бодрящей влагой, пропахшей клейкой жирной глиной. Зато здесь долго не выдержишь от кишевших комаров, подымавших нудный звенящий писк. Кошара как раз пряталась на подходе к ней, в ложбине за склоном балки, и когда бы с какой стороны не дул степной суховей, здесь всегда сохранялся затишек. И только от солнца невозможно было укрыться; впрочем, кошара была обнесена надёжным двухслойным плетнём, укреплённым на промежутках столбиками. От солнца и дождя, снега и холода овец спасал обширный навес, покрытый плотно соломой. Поскольку овцы обитали в степи до самого предзимья, их подкармливали сеном, соломой и сухой люцерной.
В степи солнце безраздельно властвовало над всей природой, как злобная хозяйка, безжалостно помыкавшая своими работниками. Оно долго, точно зачарованно стоит в зените и медленно, как бы с неохотой, скатывается к западу, что кажется, и делает его немилосердным и оно с неубывающим жаром палит землю. Раньше срока высыхала и жухла растительность, которая лишь в глубине балок продолжала молодо и свежо зеленеть, да вблизи широкого заросшего камышом и осокой ручья. Даже кустарники боярышника, терновника, шиповника и айвы привяли под солнцем, хотя среди вылинявшей, пожухлой степи они зеленели там и сям, как островки оазисов. И были моменты, когда казалось, что солнце никогда-никогда не зайдёт за горизонт, представлявший собой длинное, широкое холмообразное поле, на котором в тот год росла кукуруза, очень напоминавшая собой издали плавно идущий в гору дремучий лиственный лес. Это поле как раз начиналось от самой кромки довольно просторной развалистой балки, которая вытягивалась с юга на север извилистым, причудливым, узловатым руслом. По её равнинному дну протекал прозрачный студёный ручей, поросший камышом и осокой. В иных местах отлоги и уступы балки даже в августе представляли собой ещё вполне зелёные пастбища, куда любил пригонять овец Роман Захарович…
По весне, когда зелёный мир свеж и сочен, когда вся природа дымится всходами трав и молодыми побегами озимых, тогда здесь степь особенно зазывно, как юная девушка, чарует глаз путника. Но совсем иное впечатление она производит в августе, изрядно опалённая солнечным зноем, вся серая, пыльная, как нищенка-оборванка, вызывающая к себе только жалость и сочувствие…
За неделю своего пребывания в Камышевахе Роман Захарович полюбил и обласкал своим взором степное раздолье. И читатель поймёт и простит за столь утомительное описание степных просторов, среди которых довелось жить человеку, и потому эта развалистая, крутобокая балка войдёт в сознание народа балкой Климова, тогда как от места, где стояла кошара, останутся одни воспоминания. Здесь Роман Захарович от одного уединения испытывал душевный покой, отчего у него возникало чувство нерасторжимой связи с природой, овцами, не говоря уже о его верном спутнике Полкане.
С того дня, как Роман Захарович, шестидесятипятилетний старик, повидавший на своём веку много лиха, стал, по существу, хозяином кошары, время для него как бы перестало существовать. Он лишь только знал, что длинный летний день сменяла короткая душная ночь. О семье он думал отвлечённо, потому что жизнь у родных – жены Устиньи, сына Устина, невестки Пелагеи, внуков Ильи и Зои – шла так же по своему относительно налаженному кругу, как и у него в степи. Зато охотней всего здесь, вдали от дома, вспоминалось давно пережитое. Ведь на его долю выпали такие неприятные, трагические испытания, как войны, революции, голод, нужда, коллективизация. Со сменой власти развитие России пошло по-новому, неизвестному доселе простым людям пути, выдуманному умниками-политиками и революционерами, ведшими страну якобы к справедливому строю. Но разве тогда можно было во всём доподлинно разобраться, куда идёт общество, какими жертвами благая цель достигается? И те события развивались с катастрофической скоростью, ничего нельзя было конкретно предвидеть и понять, что же людей ожидало в неведомом завтра?..
После благостного недолгого затишья, вызванного нэпом, матушку-Россию поистине до основания сотрясла опустошительная коллективизация, разорившая миллионы крестьянских гнёзд. А противников колхозного строя власти безжалостно сметали со своего пути, совершенно не думая о судьбе России. Впрочем, им были нужны дешёвые руки, чтобы послушно и безропотно прокладывали нехоженый путь будущим поколениям. И жертвуя тысячами, миллионами судеб, поднимали индустриализацию к мощи ведущих держав, и в этой неумолимой гонке, до своего победного конца, не жалели людей, и они почти все гибли в нечеловеческих условиях, в то время как вся верхушка от Москвы и до окраин жила припеваючи, ни в чём не нуждаясь. Но изничтожая себе подобных, похоронив лозунг: «Кто был никем, тот станет всем», они заложили под себя же бомбу замедленного действия, которая спустя десятки лет взорвёт и разметает их в пух и прах. Но не из тех оказался Роман Захарович – вроде бы послушный, сговорчивый: послали воевать с белыми – пошёл безоговорочно. И не думал, что останется в живых и выйдет из пекла Гражданской войны невредимым, а после победы красных вернулся домой и повёл размеренную крестьянскую, полную забот, жизнь. И всё бы пошло хорошо, если бы не народились колхозы, куда принуждали вступать насильно… Он, конечно, вступил, лишившись своего надомного хозяйства, что привело всё крестьянство к разорению, обнищанию, голоду и лишениям. И, не желая смотреть на гибель родной деревни, он со своим семейством уехал, оказавшись, как и многие тогда, на Донской земле…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































