Читать книгу "Аквариум как способ ухода за теннисным кортом"
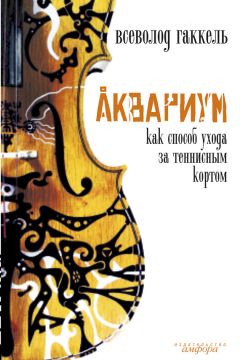
Автор книги: Всеволод Гаккель
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Всеволод Гаккель
Аквариум как способ ухода за теннисным кортом
Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»
© Гаккель В., 2000
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2007
* * *
Предисловие к третьему изданию
Я не литератор. Я не умею писать. Я не задавался целью написать роман. Просто моя жизнь была настолько богата событиями и впечатлениями, что в какой-то момент я решил, что их непременно нужно сохранить, поскольку память уже отказывалась их удерживать. Но жизнь оказалась настолько скоротечной – не успеваешь отслеживать и анализировать происходящее.
Меняется темп, меняются твои собственные оценки. Порой абсолютно исчезает смысл того, чему ты еще какое-то время назад придавал значение. Но самое грустное, что некоторые события этой повести потеряли смысл, потому что уже нет в живых их участников.
Нет смысла и в самом этом опусе. Мы всю жизнь пребываем в иллюзиях и придаем значение фактам, которые по прошествии времени теряют свою актуальность, а на поверку имеют значение только для нас самих. И может быть, было бы мудрее давать этим событиям стираться из нашей памяти и избавлять других от наших оценок – как остались за кадром некоторые факты, которым не придаешь значения или умышленно их опускаешь.
Но один раз это уже было мною сделано и стало достоянием истории. И теперь не имеет смысла что-то менять в этой книге. За это время произошло столько всего, что впору писать продолжение, но на это я уже не отважусь. Оказывается, писать о себе не просто неблагодарное и не очень умное занятие, но еще и достаточно рискованное.
Ты не знаешь, зачем пишешь, и когда делаешь это в первый раз, то не знаешь, как закончить свое повествование, потому что это не придуманная история, это твоя жизнь. Но в какой-то момент ты все-таки должен закончить – и в результате фиксируешь этот самый момент, какую-то конкретную ситуацию и какое-то состояние. И получается, что именно эту ситуацию, которая тебе кажется вполне стабильной, ты ставишь под удар.
Но говорить об этом дальше нельзя – я могу не остановиться и начать другую историю. Но похоже, я ее уже начал…
Автор-исполнительВсеволод Гаккель
* * *
Рано или поздно любого человека посещает мысль написать воспоминания. Это верный признак приближающейся старости. У каждого из нас она наступает в разное время, и, наверное, у меня она наступила раньше, чем у других. Все же основным побуждением взяться за «перо» оказалось желание проанализировать историю группы, в которой мне довелось играть, сопоставить ее с тем периодом, который я наблюдаю в течение вот уже десяти лет, и по возможности выявить ошибку, что закралась в схему, которая казалась мне идеальной. Но конечно же, это мои субъективные ощущения. Я не вел дневник, и, наверное, что-то не будет совпадать с хронологией событий, однако я попытаюсь вспомнить, как все происходило, хотя некоторые вещи уже стерлись из памяти. Я приношу извинения моим друзьям, которые будут появляться здесь по ходу повествования, если я что-то неправильно вспомнил или кого-то забыл.
декабрь 1999 года
Часть первая
Глава первая
Я вырос в очень открытой и гостеприимной семье. Моей матери Ксении Всеволодовне сейчас 83 года, и она по-прежнему живет со мной. Все эти годы мы с ней почти не расставались и сумели сохранить дружеские отношения. Она имела несчастье родиться за год до революции. Это произошло в имении ее дедушки Константина Павловича Арнольди в Курской губернии. (Имение не сохранилось, однако сельскохозяйственная школа, основанная моим прадедушкой, до сих пор носит его имя.) Ее мать, моя бабушка Мария Константиновна, познакомилась с дедушкой Всеволодом Рудольфовичем Молькентином в поезде, по дороге из Парижа, где она училась в университете. Он был офицером и в 1919 году, верный присяге своему царю и отечеству, был вынужден оставить свою семью и, отступая с Белой армией, оказался в Париже. Бабушка же осталась в России с тремя детьми без крова и средств к существованию. Она преподавала французский язык и через несколько лет, не имея возможности прокормить детей, отправила дочь Ксению в Рязань к своей сестре Лизе, а сына Костю – к родственникам мужа в Ленинград. Через некоторое время Ксения тоже присоединилась к брату в Ленинграде и поступила в Педагогический институт, а вскоре к ним приехала и их мать. О своем отце они не имели никаких известий. Мама получила диплом преподавателя французского языка в июне 1941 года и сразу же поступила в армию на службу в ПВО. Так они с бабушкой и прожили первую зиму блокады.
Мой отец Яков Яковлевич родился в 1901 году. Он закончил географический факультет Университета и всю жизнь проработал океанографом в Институте Арктики и Антарктики, участвуя во всех высокоширотных экспедициях на Северный полюс, включая экспедиции на «Сибирякове» и «Челюскине». Отец неоднократно делал предложение моей матери и настаивал на том, чтобы они с бабушкой эвакуировались вместе с институтом, в котором он работал. Он недавно овдовел, жил с матерью, и у него была дочь Нонна. В итоге моя мать согласилась, забрала бабушку, и они все вместе уехали в Красноярск, где два года жили в школе, в которой мать работала библиотекарем. В 1944 году, после снятия блокады, они вернулись в Ленинград и с тех пор жили в квартире отца на улице Восстания. Мама очень сдружилась с Нонной и, будучи мачехой, относилась к ней, как к младшей сестре. Правда, бабушки между собой не очень поладили, и Евдокия Ивановна называла Марию Константиновну барыней и «фрёй».
Мой дед Яков Модестович Гаккель был известным авиаконструктором, а после революции – создателем первого советского тепловоза и до конца жизни работал в Институте железнодорожного транспорта. Он оставил семью и почти не общался со своими детьми, был женат несколько раз и умер в 1945 году. Я застал в живых только его последнюю жену Надежду Ивановну.
Я появился на свет в 1953 году. К этому времени Евдокия Ивановна умерла. Нонна повзрослела, и у нее произошла размолвка с матерью. Потом Нонна вышла замуж и уехала в Баку. К моменту моего рождения в нашей семье уже было два сына, Алексей и Андрей. Я был самым маленьким и самым любимым. Мой старший брат до сих пор пытается отыграться за мое избалованное детство. Наверное, оно действительно было таким. К этому времени война была уже давно позади, и жизнь постепенно входила в колею. Мой отец стал крупным ученым, профессором и получал приличную зарплату, которая позволяла моей матери не работать. Так что ей, педагогу по образованию, никогда не пришлось преподавать. У нас вечно кто-то жил, всегда были гости. Летом родители снимали дачу на Карельском перешейке, на которую слетались все родственники.
В 1957 году через свою кузину Ирину, живущую в Швейцарии, мать получила из Парижа известие о смерти ее отца Всеволода Рудольфовича, и у нее случился инфаркт. Оказывается, уже давно, со времени смерти Сталина, отец пытался выйти с ней на связь и написал несколько зашифрованных писем, которые передал через свою племянницу Хельми, живущую в Таллинне. Он мечтал приехать и воссоединиться с семьей. Мать боялась отвечать, поскольку опасалась за работу мужа и семью и во всех анкетах всегда писала, что ее отец умер. Бабушка перенесла известие о смерти своего пропавшего мужа легче, только стала курить. Мать проболела все лето, прикованная к постели, и мы с бабушкой жили на даче без нее.
Я прекрасно помню нашу квартиру, где была масса книг и старинной мебели, а на стене висел огромный пропеллер с дедовского самолета. Наш дом был ведомственный, в нем жили почти все челюскинцы. Было такое ощущение, что они все время что-то праздновали. К нам приходили летчики, первые Герои Советского Союза, всегда в форме и с орденами. Полярники в то время были как космонавты и, наверное, всегда носили форму, чтобы было видно. Мой отец тоже имел звание генерала и тоже носил черную морскую форму, только без погон, но на ней были нашивки до локтей. Чуть позже, когда я повзрослел и уже знал толк в вещах, я как-то срезал все пуговицы с отцовской шинели и проиграл их в ушки. Но об этом потом.
Мама считала, что я неплохо пел. Когда приходили гости – а, как я уже говорил, они приходили все время – меня заставляли петь, но я очень этого стеснялся и забирался под рояль или прятался за дверь. Если скрыться не удавалось, я горланил какие-то идиотские песни из тех, что звучали по радио, вроде:
Если бы парни всей Земли
Хором бы песню одну завели,
Вот было б здорово,
Вот это был бы гром!
Давайте, парни, хором запоем…
Наверное, это было умилительно и трогательно, ведь я действительно механически заучивал всякую чушь, но такие публичные выступления у меня всегда вызывали протест. Однажды пришла какая-то тетя и сказала, что заберет меня в хоровую Капеллу. Я закатил истерику, заявил, что никуда не пойду, вцепился матери в юбку и тем самым был спасен. Тетечки появлялись не сами, это всегда была инициатива матери. И в этих ситуациях я почти не помню отца. Он вообще работал с утра до ночи или уезжал в экспедицию. К сожалению, он умер раньше, чем я смог запомнить о нем что-нибудь осмысленное. У нас была машина «победа», и мы с отцом иногда ездили кататься. Когда же мы купили участок в Белоострове и построили времянку, то в основном ездили только туда. Отец всегда уходил в отпуск в сентябре, когда на даче стихает суета и все дети разъезжаются в школу. Я приезжал на выходные, и мы вдвоем ходили за грибами. Совершенно отчетливо помню белый гриб, который мы нашли. И неспелый, почти зеленый, но сладкий арбуз.
Когда я учился в первом классе, со мной случился казус. Первого мая мы приехали на дачу. Поселок только строился, и везде было полно народу. Я встретился со своим дружком Юркой Максутовым, и мы полезли в соседский дом исследовать новое пространство. Соседи только возвели сруб, еще без крыши, и между бревнами свисала пакля. Мы стали отрывать пучки и поджигать их. Я поджог пучок пакли, и она мгновенно вспыхнула у меня в руках. Я инстинктивно отдернул руку, и огонь прыгнул прямо на стенку. Мгновенно пламенем был охвачен весь дом. По счастью, бревна были сырые, а вокруг было много воды и талого снега. Сразу сбежались люди со всех сторон, и огонь удалось затушить без помощи пожарных. Я убежал в лес на весь день, боясь вернуться домой. Но когда все-таки решился, меня никто не наказал, а я только получил прозвище поджигателя. Соседи не предъявили никаких претензий, обшили сруб вагонкой и живут там по сей день. В тот вечер на обратном пути с дачи все молчали. Город был прорезан лучами прожекторов, которые сопровождали гигантский портрет Ленина, паривший над городом на каком-то летательном аппарате, скорее всего это был цеппелин. Я был в полном восторге и быстро забыл свои горести.
В девять лет меня отдали учиться в музыкальную школу. Когда меня привели на отборочную комиссию и посмотрели зубы и пальцы, то предложили на выбор виолончель или балалайку; по всем другим инструментам набор уже был закончен. Я почему-то сам выбрал виолончель. Мать была счастлива, она всегда обвиняла бабушку в том, что она не стала ходить с Алексеем в музыкальную школу, «а ведь он был таким одаренным ребенком». Когда они ссорились, то иногда переходили на французский. Мать называла бабушку парижанкой и ханжой и говорила, что та могла бы учить своих внуков французскому. Это звучало очень красиво. Бабушка садилась за рояль и исполняла на нем «Турецкий марш», который она играла в юности, когда еще училась в Париже. Моим педагогом стал Анатолий Кондратьевич Филатов, артист Мариинского театра, который, как и все музыканты, подрабатывал в школе. Он был очень обаятельным, довольно молодым человеком, и моя мать была от него без ума. Вообще, музыкальная школа, в отличие от обычной, это отдельная среда. Поскольку занятия по специальности проводятся индивидуально, обучение более эффективно. Но сложнее отлынивать от уроков, потому что родители и педагоги находятся в гораздо более тесном контакте, чем в общеобразовательной школе. Поэтому тебя заставляют заниматься каждый день, в то время как вполне можно не приготовить уроки в школе, куда родители приходят на собрание раз в полгода. Я ничего не понимал в музыке, механически наматывал необходимые часы и ужасно стеснялся своей новой роли. Все ребята в школе в основном занимались спортом. До моего окончания музыкальной школы ни один из моих школьных дружков ни малейшего представления не имел о том, как я играю на виолончели. Когда же на каких-нибудь школьных праздниках учителя в сговоре с мамой пытались заставить меня выступить, то я под разными предлогами от этого уклонялся.
Чуть позже мой брат Андрей, который был на четыре года старше меня, самостоятельно поступил по классу контрабаса в музыкальную школу для взрослых, которая помещалась в этом же здании, что и детская школа. Андрей был удивительно замкнутый и серьезный юноша, и мы с ним не очень хорошо ладили, в то время как Алексей, который был на восемь лет старше меня, был моим героем и гораздо ближе мне по темпераменту. Но, к сожалению, постепенно, по мере взросления, я из младшего брата превратился для него в сопляка. У Андрея же с раннего возраста проявилась тяга к серьезной музыке, и он совершенно осознанно стал интенсивно заниматься на контрабасе. Он уже был в том возрасте, когда мог сам покупать пластинки. У нас был вполне современный по тому времени проигрыватель с корундовыми иголками, который включался через приемник «Балтика», и много пластинок на 78 оборотов. Но лишь с того времени, когда Андрей стал увлеченно слушать музыку и покупать пластинки на 33 оборота, музыка зазвучала у нас в доме. Также у нас был телевизор «Рубин» с большим по тем временам экраном, в то время как у всех были в основном телевизоры с линзами. Отец сконструировал антенну прямо на балконе, и смотреть телевизор к нам ходили все соседи. Это было священнодействие. Вообще в то время в глазах соседей наша семья являла собой образчик мещанского благополучия – квартира, машина, дача. А мы, дети ученого, именовались профессорскими сыночками. Это не имело большого значения во дворе, в кругу сверстников, это была категория оценки взрослых, в основном учителей и соседей.
Все свободное время я проводил, гуляя во дворе. У нас было паровое отопление, и двор был достаточно большой и свободный, в то время как дворы соседних домов с печным отоплением были застроены сараями, порой двухэтажными, сколоченными из чего попало. Каждая квартира или, может быть, даже семья имела свой сарай с дровами. Прогулки в таком дворе носили соответствующий характер. Мой брат Алексей учился в мужской школе, и суровые нравы такого воспитания переносились во двор. Наш двор был благополучней других. Он запирался на ночь и охранялся дворником с усами и в белом переднике. На воротах был звонок и висела табличка, извещавшая о том, что туалета во дворе нет. Через какое-то время все это отменили, и туалет образовался прямо в нашем подъезде, где и существует по сей день. Иногда во двор все же привозили много дров, пилили их на электрической пиле и выстраивали огромные поленницы, а потом куда-то увозили. Мы строили из дров крепости и играли в восхитительные детские игры, которые носили военный характер, и иногда эта война перерастала в войны между дворами. Все знали друг друга, поскольку учились в трех окрестных школах, но разделение по дворам было строгое. Алексей все время ввязывался в какие-то драки и приходил с разбитым носом. Я играл во все азартные игры – фантики и ушки. Как-то Лена Емельянова, с которой я учился в музыкальной школе и которая была на год старше меня и раньше прошла это увлечение, отдала мне целую коробку фантиков, чем сильно подняла мой авторитет во дворе. Я знал достоинство любой пуговицы. Особенно ценились литые пуговицы с двуглавыми орлами и британские львы. Морские пуговицы моего отца с якорями и гербом пошли тоже ничего себе. Во дворе стоял теннисный стол, и старшие ребята все время играли. Мы крутились вокруг, и как-то раз я схватил со стола ракетку и побежал. За мной погнался Андрей Коссой, который был лет на шесть старше меня. Он был большой и грузный, я перепугался и, когда он меня уже догонял, резко развернулся и кинул ракетку ему прямо в лицо. Я разбил ему очки, стекло попало в глаз, его увезли на «скорой помощи» и сделали операцию. Он чуть не лишился глаза. Я же навсегда запомнил это и никогда больше так не «шутил». С Колей Николаевым, который жил этажом ниже, мы играли в оловянных солдатиков.
Когда я пошел в школу, куда ходили и Алексей, и Андрей, она, по счастью, уже давно не была мужской. В первом классе ко мне на день рождения пришел весь класс и был грандиозный праздник. Но со второго класса школу неожиданно сделали английской, и почти весь класс сменился. То, что эта школа была привилегированная, не особенно ощущалось. По-моему, она была просто нормальная. Хотя мне трудно судить, я никогда не ходил в другую. К нам часто приезжали иностранцы, которые дарили жевательную резинку и, если повезет, шариковые ручки. Один раз они привезли пластинку Beatles – Help!. Как-то на большой перемене, когда я был дежурным по классу и остался вытирать доску, зашли старшеклассники и поставили эту пластинку на проигрыватель. Я, ничего не подозревавший, от первых же звуков совершенно потерял чувство ориентации. Это было нечто такое, чего я ни до этого момента, ни долгое время после не испытывал. Это было ни с чем не сравнимое ощущение радости, как будто жизнь вдруг приобрела какой-то смысл. Безмятежность детства была нарушена, хотя я ничего не запомнил, только слово «Help». Перемена кончилась, и пластинка была водружена за стекло в кабинете завуча. Я пытался поделиться своей радостью с дружками и был приятно удивлен, когда Андрей Колесов написал мне имена тех, кто будет в этой жизни значить для меня больше, чем всё, с чем мне придется соприкоснуться. Оказалось, что у кузины Андрея уже давно есть пластинка Beatles For Sale. Чуть позже к дискам в школьном шкафу присоединились Beatles – Oldies, But Goldies и Rolling Stones – Between The Buttons, и мы находили благовидные предлоги, чтобы зайти в кабинет и посмотреть на них через стекло. Чуть позже эта музыка неизменно звучала на всех школьных вечерах, и педагоги нисколько не были против. Еще, говорят, была пластинка Hair, но нам ее никогда не показывали, опасаясь за нашу нравственность. Как-то приехали финские школьники, и вместо урока нас повели в актовый зал, и все танцевали Летку-Енку. Это было очень здорово, потому что казалось абсолютно современным и хотя бы на короткое время давало ощущение того, что где-то есть другая жизнь.
В школе был хор, в котором мне всегда отводилась роль запевалы, хотя я считал это фантастической глупостью. У нас было трио солистов – Сережа Алексеев, Сережа Резников и я. Мы с хором пели песни про то, как:
В маленьком и тихом городе Симбирске,
Там, где катит воды мать российских рек,
Всем народам мира дорогой и близкий
Родился Великий человек.
Как-то раз мы пели на смотре школьных хоров в Капелле. А потом нас троих таскали по каким-то жилконторам и советам ветеранов, где мы в белых рубашках и красных галстуках пели Бухенвальдский набат и Хотят ли русские войны? и про то, как Нас оставалось только трое на безымянной высоте. Ветераны умилялись. Но, слава богу, у нас переломились голоса, и нас оставили в покое.
Примерно в то время, когда я впервые услышал Help!, Алексея забрали в армию. Бабушку разбил паралич, и мать полностью посвятила себя уходу за ней. Была осень, и на ноябрьские праздники мы всей семьей отправились на машине на дачу убирать листья. Но на обратном пути случилась беда: отец сбил велосипедиста. Это было очень страшно, поскольку я сидел на переднем сиденье и отчетливо его видел, отец же его не заметил. По счастью, велосипедист остался жив и даже ничего не сломал, но приехали гаишники, и нас отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что у отца отключилось периферийное зрение и что он уже давно болен. Он совсем сник, его положили в больницу на обследование, подозревая опухоль мозга. Мать сделала вызов Алексею, который тогда служил в армии, и ему дали отпуск. Под Новый год нас привели к отцу в больницу, и получилось так, что мы пришли прощаться. Через день он умер. У него оказался рак легких. Алексей уехал дослуживать, и наша жизнь стала входить в новую колею. Мне было двенадцать лет. Почти сразу мы ощутили недостаток средств. У нас никогда не было никаких сбережений. Матери нужно было устраиваться на работу, но еще ей нужно было ухаживать за бабушкой, которая так и не была прописана в Ленинграде и не получала пенсию. Нам с Андреем назначили пособие по 70 рублей, а матери как жене ученого через полгода от Арктического института выхлопотали персональную пенсию в размере 50 рублей. Я еще не совсем понимал, что такое деньги, но постепенно почувствовал, что жить нам стало гораздо труднее. Неожиданную активность проявила Нонна: она стала притязать на «наследство», рассчитывая на площадь в квартире, машину и дачу в Белоострове. Дача же являла собой времянку и сруб только начатого дома. Это было крайне неприятно, но матери удалось продать машину по доверенности и тем самым избежать раздела имущества. Денег за машину хватило на то, чтобы рассчитаться с долгами. Мать беспокоилась, что не сможет платить за музыкальную школу, но как-то все образовалось. С квартирой и дачей дело заглохло само собой и до суда не дошло, хотя я не видел никаких оснований для судебных разбирательств.
Мой опыт хорового пения в школе был настолько негативным, что в музыкальной школе, где хор был обязательным предметом, я всегда старался его закосить. По счастью, я учился на оркестровом отделении, и подошло время, когда я вместо хора уже мог посещать школьный оркестр. Оркестр состоял из учеников старших классов и учеников музыкальной школы для взрослых, поэтому я попал в достаточно взрослую среду. Это была огромная радость, когда впервые то, что ты еще толком не научился делать, начало складываться в музыку. Мы играли Третью сюиту Баха, и, когда доходили до арии, у меня почти всегда наворачивались слезы. Но самым важным для меня было обретение брата Андрея, который к этому времени играл в оркестре года два. Он был уже взрослый, заканчивал школу и жил замкнуто и почти независимо. И вот впервые у нас появилась какая-то точка пересечения. Он со своим контрабасом возвышался над всем оркестром прямо сзади меня, и я сделал для себя открытие, что наши партии во многом совпадают, а иногда звучат просто синхронно. После репетиции мы вместе возвращались домой, и мне было очень приятно идти вместе с братом, хотя мы оба мучились оттого, что не знали, о чем заговорить. Я сразу же полюбил нашего дирижера Всеволода Константиновича Горского, который был интересным человеком, способным увлекать детей. Каким-то образом ему удавалось путешествовать, и по возвращении он собирал оркестр, вешал карту Африки, показывал массу фотографий, приносил какие-то амулеты, томагавки и прочие редкости, и мы с открытым ртом слушали рассказы о его приключениях на слонах и верблюдах. Я очень увлекался книгами Майна Рида и Фенимора Купера и страшно любил приключения и кино про дальние страны и загадочные острова. Фильмы «Седьмое путешествие Синдбада» и «Барабаны судьбы» я смотрел раз по десять.
Мы жили с Андреем в одной комнате, и я немного уставал от такого объема сложной музыки, которая постоянно звучала в доме. Это был период, когда брат слушал Малера, Берлиоза и Стравинского. А когда звучал второй Славянский танец Дворжака, мать начинала плакать. Иногда, когда мы с мамой были вдвоем, я сам ставил эту пластинку, и мы с ней обнимались и плакали вместе. К нам перестали ходить гости, только неизменный Валентин Николаевич, бывший муж сестры жены маминого брата, дяди Кости, приходил каждый четверг. Иногда приходила Бадя. Кем она нам приходилась, я не знаю, знаю только, что она была графиня Евгения Александровна Толстая и почему-то всегда ходила в шапочке вроде чепчика, и мы с братьями над ней подшучивали и думали, что она лысая. Как-то Андрей купил пластинку Музыка Юго-восточной Азии, которая была очень непривычна для восприятия, но нам нравилась, и мы иногда потехи ради ставили эту пластинку, чтобы проверить терпение взрослых гостей.
Beatles я долго не слышал, и услышать их было негде. Только когда показывали фигурное катание, я всегда ждал спортивных танцев, потому что там иногда могла прозвучать похожая музыка. А когда транслировали чемпионат мира из Давоса, то в перерывах, когда чистили лед, играла какая-то группа. На следующий день в школе все спорили, были это Beatles или кто-то другой. Как-то в передаче «В объективе Америка» был рассказ о Beatles и звучала их музыка, но их самих не показали, только фотографии (впрочем, я не совсем уверен, что это было именно в этой передаче, поскольку Beatles англичане). А чуть позже, когда мы поехали к маминому брату дяде Сереже, моя двоюродная сестра Марина, которая была большая модница и доставала где-то польские журналы, вдруг подарила мне целую коробку из-под конфет с вырезками о Beatles. Когда я на следующий день принес их в школу, все ребята их рассматривали и передавали по всему классу. Дома у меня не было своей комнаты, но на даче я этими фотографиями заклеил целую стену.
Мать вынуждена была оставаться в городе с бабушкой, и почти все лето я жил на даче практически один. Раза два в неделю мама готовила обед на два-три дня и привозила его мне. В остальные дни я покупал полтора литра молока и батон, так и питался. Андрей сдавал экзамены в школе, потом сразу устроился на работу и приезжал только на выходные. Все соседи знали, что у меня умер отец, и жалели меня, в то время как ребята немного завидовали мне, что я живу самостоятельно, как взрослый, и ничем не ограничен. Правда, моя взрослость чуть не закончилась, когда я отравился сигаретами. Мы с дружками пытались курить, и меня тошнило. На следующий день неожиданно приехала мама и застигла меня в таком состоянии. Она очень разозлилась на моих друзей и хотела забрать меня в город. Наверное, она, как любая мать, считала, что ее дети непогрешимы и их портят какие-то другие злые дети. Но я уверил ее в том, что никто меня не заставлял и что я курил добровольно. Я и раньше пытался курить самокрутки из перетертых листьев, завернутых в газету, и перекурил все окрестные растения. Самой вкусной была ольха. А в городе я как-то вытащил у отца из машины пачку «Красной звезды». Мы с ребятами курили в поленнице, где у нас был штаб, и нас застукал почтальон, но мы ему отдали почти всю пачку, и он обещал не говорить родителям. Я клятвенно заверил маму, что больше никогда не буду курить, что мне на самом деле больше и не хочется это делать. Правда, лет через десять, в 23 года, я все-таки закурил и курил восемь лет.
Моими лучшими друзьями по даче были Юрка Максутов и Лешка Ветберг. Каждое утро мы пересвистывались и бежали на речку, а потом целый день проводили вместе. Обычно мы на велосипедах ездили на залив или просто сидели на речке, а в плохую погоду, как правило, собирались у нас на даче и играли в карты. В конце лета мы ходили за грибами, воровали картошку на огородах, которые находились за пределами участков и непонятно кому принадлежали, и устраивали обеды. Я научился мастерски жарить грибы на керосинке. Мой брат Андрей слыл чудаком и, когда жил на даче, всегда держался независимо. Он мастерил телескоп и хотел жить в землянке, которую начал копать. Но когда землянка был почти готова, начались дожди, и ее затопило водой. В июле, на день рождения отца, мы с Андреем поехали на кладбище и вместе возвращались на дачу, и я помню, что он впервые меня обнял и рассказал, что устроился рабочим сцены в Мариинский театр, и как это прекрасно, и что он обязательно возьмет меня как-нибудь на балет. Я отнесся к этому с опаской, потому что по телевизору балет казался мне скучным. Когда же я все-таки сломался и согласился пойти на «Дон Кихота», то чуть не сошел с ума от счастья. Пока брат работал в театре, я пересмотрел с галерки все балетные спектакли. Когда же я сходил на оперу «Иван Сусанин», то чуть не заснул от скуки и оживился только во втором акте, когда начались танцы польских шляхтичей. Любимыми героями брата были Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара, а также Микис Теодоракис. Помню, Андрей купил его пластинки, и меня поразило звучание электрических бузук.
Я ходил в кино на все иностранные фильмы. Конечно же, любимыми были «Три мушкетера» и «Великолепная семерка», на которую меня сводила мама. Но еще больше мне нравился «Скарамуш», потому что там была очень красивая музыка. А самым сильным впечатлением была «Хижина дяди Тома», на которую я ходил несколько раз. Я приходил в «Ленинград», кинотеатр с гигантским экраном и мощным звуком, садился на первый ряд и совершенно растворялся в музыке негритянского хора, который в течение всего фильма пел спиричуэлс. Я даже запомнил слова Let My People Go и Jericho, а песню про Миссисипи, которая шла лейтмотивом всего фильма, я напевал много лет, мечтая еще хотя бы раз ее услышать. Мне очень нравилось начало фильма, когда будто на самолете подлетаешь к Нью-Йорку, пролетаешь под мостами и потом сразу оказываешься у ног статуи Авраама Линкольна. (Через несколько лет, когда мне довелось оказаться в Америке, я был очень удивлен, что эта статуя находится в Вашингтоне, а река Миссисипи и вовсе бог знает где.) Конечно же, чуть позже мы все смотрели «Этот безумный безумный безумный мир» и «Воздушные приключения». Помню, мы ходили с Андреем и обхохатывались, представляя нашего дедушку, потому что нам казалось, что этот фильм буквально про него. Чуть позже были «Фантомас» и конечно же «Искатели приключений».
На следующий год умерла бабушка Мария Константиновна. В этот же год Андрея забрали в армию, но закончилась служба Алексея. С его возвращением в доме воцарился хаос. Он сразу же стал хозяйничать и первым делом выкинул на помойку письменный стол отца, который якобы занимал слишком много места. Ящики из стола с бумагами года два стояли посреди комнаты. Куда-то пропала гигантская бронзовая люстра, которая висела в большой комнате и спускалась почти до круглого стола. Постепенно стали исчезать и другие вещи, все поменялось местами, и дом перестал походить на тот, в котором я вырос. Наконец пришли какие-то люди из музея истории города и до кучи забрали пропеллер. С тех пор его никто никогда не видел. Когда через 20 лет я увидел фильм «Blow Up», у меня было полное ощущение, что в фильме фигурирует тот самый пропеллер.









































