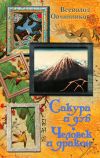Текст книги "Сакура и дуб (сборник)"

Автор книги: Всеволод Овчинников
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
Чай у королевы
Однажды мы с женой были приглашены на чай в Букингемский дворец. Подобные приемы королева обычно устраивает летом на лужайке дворцового парка, обнесенного высокой стеной. В нижнем правом углу пригласительной карточки было написано: «Утренняя визитка, или мундир, или пиджак». На языке дипломатического протокола «утренняя визитка» означает тот самый туалет, в котором джентльмену положено появляться на королевских скачках в Эскоте (и который эксцентричный профессор Хиггинс не удосужился надеть, когда впервые повез туда Элизу). Это серый цилиндр, такого же цвета визитка, зонтик в виде трости и гвоздика в петлице. Все это можно, конечно, брать напрокат в специально предназначенных для этого заведениях. Поразмыслив, однако, я решил, что, прожив всю жизнь без серого цилиндра, обойдусь без него и на сей раз, благо сама королева предлагает в качестве альтернатив «или мундир, или пиджак».
Уже сама очередь, выстроившаяся перед воротами Букингемского дворца, напоминала массовую сцену для очередной экранизации «Саги о Форсайтах». Три четверти приглашенных пришли, разумеется, в серых цилиндрах, а почти все остальные – в военных или ведомственных мундирах. Ни единый человек – к моему облегчению – не бросил косого взгляда на мой прозаический пиджак, так же как никто – к огорчению жены – не обратил внимания на ее кружевную шляпу. Переступив порог дворца, я, к своему удовлетворению, убедился, что все министры лейбористского правительства, демонстрируя собственный демократизм, явились к королеве в пиджаках.
На лужайке парка были разбиты шатры, где угощали чаем и печеньем. Елизавета II ходила от одной группы гостей к другой. Причем все присутствующие неукоснительно соблюдали правила дворцового приема: разговаривать с королевой полагается лишь тому из гостей, к кому она непосредственно обратилась. Я рассказываю об этом потому, что английская вежливость распространяет подобный принцип и на многие другие жизненные ситуации. Войдя в универмаг, контору или в пивную, англичанин терпеливо ждет, пока его заметят, пока к нему «обратятся непосредственно». Считается, что проситель не должен пытаться привлечь к себе внимание обслуживающего персонала каким-то восклицанием, жестом или иным способом. К тому же легко убедиться, что это бесполезно. Реально существующим лицом становишься после того, как к тебе обратились с вопросом: «Да, сэр. Чем могу помочь?»
Сколько бы людей ни толпилось у прилавка, продавец имеет дело лишь с одним покупателем. И если степенная домохозяйка набирает недельный запас продуктов для своей многочисленной семьи, не следует пытаться уловить минутную паузу, чтобы спросить, есть ли сегодня в продаже печенка. Не ради того, чтобы взять ее без очереди, а просто узнать, есть ли смысл стоять и ждать. На подобный вопрос ответа не последует. Зато когда наступит ваша очередь, можно неспешно выбирать себе печенку, попутно расспрашивать мясника о том, ощенилась ли его такса, обсуждать с ним очередную перемену погоды и другие местные новости. Причем никто из стоящих позади не проявит ни малейшего раздражения или нетерпения. Ведь каждый здесь дожидается очереди не только ради покупки, но и ради того, чтобы полностью завладеть вниманием продавца.
Когда после нескольких лет жизни в Лондоне попадаешь в Париж, поначалу с удивлением чувствуешь, что тебя нигде не замечают. Стоишь перед окошком на почте, или у вокзальной кассы, или у стойки бара и бесплодно ждешь, чтобы на тебя обратили внимание (пока не догадаешься, что французского официанта просто нужно окликнуть: «Два пива, месье!»).
Если толкнуть англичанина на улице, если наступить ему на ногу в автобусе или, раздеваясь в кино, задеть его полой плаща, то он – то есть пострадавший – тут же инстинктивно извинится перед вами. Порой говорят, что такая доведенная до автоматизма вежливость безлична, даже неискренна. И все-таки, пожалуй, она лучше, чем инстинктивная грубость.
На собственном опыте могу утверждать, что по уровню сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины тому, впрочем, различны. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания шагнула значительно дальше, чем в других развитых странах, то в Японии она еще больше, чем в Англии, сохраняет традиции минувших времен, когда мелкий розничный торговец был в состоянии знать и учитывать запросы каждого постоянного покупателя. В Лондоне нередко бывало так: приезжаешь в назначенное время за автомашиной, поставленной на ремонт, а она не готова к сроку. Являешься на следующий день и обнаруживаешь, что старые свечи в моторе так и не заменили. Или купишь в магазине книжные полки, но доставить их пообещают только через две недели, а там и вовсе забудут. Иной же раз раздражает, наоборот, догматическая склонность к очередям: нужно потратить полчаса, лишь чтобы узнать, что следовало обратиться в другое место. Зато постоянно убеждаешься, что англичанам почти неведомы такие черты современного быта, как грубая реплика, раздраженный вид или даже отчужденное безразличие со стороны продавца универмага, кондуктора автобуса или чиновника в конторе. Лондонец считает само собой разумеющимся, что люди, с которыми он вступит в контакт ради той или иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо. Торговец газетами на перекрестке, кассир в метро, клерк на почте умеют находить для каждого из сменяющихся перед ними незнакомых лиц дружелюбную улыбку.
Надо подчеркнуть, однако, что дух приветливости и доброжелательности, пронизывающий английский сервис, неотделим от взаимной вежливости тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают. К клиентам положено относиться как к джентльменам и леди, имея в виду, что они действительно будут вести себя как таковые. Отсюда – полный отказ от повелительного наклонения в разговоре. «Могу ли я попросить вас…», «Не будете ли вы так любезны…» – вот общепринятые формы обращения покупателя к продавцу, посетителя кафе к официанту.
Насаждаемая в обществе мораль не случайно причисляет такого рода вежливость к основам подобающего поведения. Грубость по отношению к обслуживающему персоналу и вообще к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице стала считаться непозволительно опасной с тех пор, как за Ла-Маншем прогремели революционные бури. Присущая британской элите корректность к нижестоящим порождена инстинктом самосохранения. Английские традиции вообще предписывают сдержанность в суждениях как знак уважения к собеседнику, который вправе придерживаться иного мнения. Как и японцам, англичанам присуща склонность избегать категоричных утверждений или отрицаний, относиться к словам «да» или «нет» словно к неким непристойным понятиям, которые лучше выражать иносказательно.
Отсюда тяга к вставным оборотам вроде «мне кажется», «я думаю», «возможно, я не прав, но…», предназначенным выхолостить определенность и прямолинейность, способную привести к столкновению мнений. Когда англичанин говорит: «Боюсь, что у меня дома нет телефона», он сознательно ограничивает это утверждение рамками собственного опыта. А вдруг за время его отсутствия телефон мог неведомо откуда взяться? От англичанина вряд ли услышишь, что он прочел прекрасную книгу. Он скажет, что нашел ее небезынтересной или что автор ее, видимо, не лишен таланта. Вместо того чтобы обозвать кого-то дураком, он заметит, что человек этот не выглядит особенно умным. А выражение «по-моему, совсем неплохо» в устах англичанина означает «очень хорошо». Самыми распространенными эпитетами в разговорном языке служат слова «весьма» и «довольно-таки», смягчающие резкость любого утверждения или отрицания («погода показалась мне довольно-таки холодной»).
Иностранец, привыкший считать, что «молчание – знак согласия», часто ошибочно полагает, что убедил англичанина в своей правоте. Однако умение терпеливо выслушивать собеседника, не возражая ему, вовсе не значит в Британии разделять его мнение. Когда же пытаешься поставить перед молчаливым островитянином вопрос ребром: «Да или нет?», «За или против?» – он обычно принимается раскуривать свою трубку или переводит разговор на другую тему.
На взгляд англичан, обитатели континента чрезвычайно падки на преувеличения. Экспрессивные народы действительно не боятся преувеличить, сгустить краски, чтобы яснее и четче выразить свою точку зрения. Англичане же склонны к недосказанности. Не только преувеличение, но даже определенность пугает их, как окончательный приговор, который нельзя оспаривать, не оскорбляя кого-нибудь или не ущемляя собственного достоинства. Недосказанность же предусмотрительна, поскольку она признает свой временный характер, допускает поправки, дополнения и даже переход к противоположному мнению. Подобно японцу, англичанин избегает раскрывать себя, и черта эта отражена в этике устного общения. Проявлять навязчивость, пытаясь разговориться с незнакомым человеком, по английским представлениям, не только невежливо, но в определенных случаях даже преступно – за это могут привлечь к уголовной ответственности.
В Британии доныне смеются над анекдотом о двух англичанах, которые оказались на необитаемом острове, но, поскольку некому было представить их друг другу, двадцать лет не обменялись ни единым словом. Однако даже члены лондонских клубов кое в чем похожи на этих двух робинзонов. Когда джентльмен приходит обедать один, ему полагается садиться за общий стол, причем рядом с уже сидящими. Если сосед оказался незнакомым, с ним допустим обмен общими фразами. Однако называть свои имя, род занятий – что предполагает желание получить такие же сведения о собеседнике – считается бестактным.
Английские представления о подобающей форме беседы воплощены в разговорах о погоде. Она тут не столь плоха, как слывет, однако она дает достаточно поводов поговорить о себе, ибо часто оставляет желать лучшего, а главное – постоянно меняется. Поэтому, встречая на улице знакомого или соседа, кроме слов «доброе утро», принято отпустить какое-то замечание о погоде: обругать ее или, наоборот, похвалить, добавив, что она, судя по всему, вот-вот изменится. Необходимо, однако, помнить, что разговор о погоде носит сугубо ритуальный характер, так что ни в коем случае не следует подвергать сомнению слова собеседника и тем более спорить с ним. Английская беседа полна запретов. Помимо слов «да» и «нет», четких утверждений и отрицаний, она старательно избегает личных моментов, всего того, что может показаться вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речи ни о себе, ни о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, то о чем останется говорить, кроме как о погоде?
Английская беседа поначалу кажется иностранцу бессодержательной, постной, лишенной смысла. Однако считать, что это действительно так, было бы заблуждением. За внешней сдержанностью англичанина кроется эмоциональная, восприимчивая натура. А поскольку сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои чувства прямо, у англичан – как осязание у слепых – на редкость развита чуткость к намекам и недомолвкам.
Они умеют находить путь друг к другу сквозь ими же возведенные барьеры разговорной этики. Со временем убеждаешься, что в английской беседе первостепенную роль играет не сам по себе словесный обмен, а его подтекст, то есть круг общих интересов или общих воспоминаний, на которые разговор опирается. Посторонний зачастую считает его тривиальным именно потому, что как бы плавает по поверхности, не ощущая радости погружения к общим глубинам. Из этого, однако, следует и другой важный вывод. Язык намеков и недомолвок может быть уделом лишь определенного замкнутого круга, вне которого он теряет смысл.
Во Франции считается грубым дать разговору угаснуть. В Англии – спешить поддерживать его. Если вы не откроете рта на протяжении трех лет, про вас подумают: «Этот француз производит приятное впечатление». Будьте скромными. Если вы чемпион мира по теннису, скажите: «Да, я играю с грехом пополам». Если вы в одиночку пересекли Атлантику на маленькой лодке, скажите: «Я немного занимаюсь парусным спортом».
Во время Первой мировой войны я шесть месяцев жил в одной палатке с англичанином. Он ни разу не спросил меня, женат ли я, что я делал до войны и что за книжки я читал перед его носом. Если вам захочется пооткровенничать, вас будут слушать с вежливым равнодушием. Но избегайте откровенничать насчет других. Здесь нет среднего пути между молчанием и скандалом. Так что лучше избрать молчание.
Андре Моруа (Франция). Три письма об англичанах. 1938
Во многих отношениях англичане одновременно самый вежливый и самый неучтивый народ в мире. Их вежливость произрастает из уважения к человеческой личности и поощряется природной доброжелательностью.
Их неучтивость же – более сложное чувство, представляющее собой смесь подозрительности, равнодушия и неприязни. Объяснение этой неучтивости, как и многих других английских черт, может быть найдено в классовой структуре английского общества, в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо несовместимое или не гармонирующее с ней. Всякий, чье положение или чьи запросы угрожают структуре классового общества, получает резкий отпор, ибо до тех пор, пока он не представил приемлемые верительные грамоты, незнакомец подозревается в том, что он просит больше, чем ему положено, хочет занять не то положение, которое ему подобает, или выдвигает требования, не имея на то оснований. Нигде не встретит такого гостеприимства человек, которого ждут; нигде не получит такого холодного отпора нежданный незнакомец, тем более если его одежда или выговор выдают его сомнительное социальное положение.
Генри Стил Коммаджер (США). Британия глазами американцев. 1974
Английская вежливость – это не просто учтивость, это непревзойденное искусство. Она всегда была в руках правителей безотказным оружием для одурачивания того класса, который эти правители считали нужным обманывать.
В Англии тоже умеют закручивать гайки. Но даже когда человека сгибают в бараний рог, весь этот процесс облачен в такую обходительную форму, что он как бы не догадывается о своей участи.
Одетта Кюн (Франция). Я открываю англичан. 1934
Верхние классы в Британии не всегда были вежливы с теми, кто стоял ниже. Когда они обладали сильной властью, они позволяли себе быть резкими и надменными. Я подозреваю, что они стали более вежливыми, когда почувствовали, что власть начинает ускользать из их рук, и сделали это, чтобы выжить как класс, способный править и дальше – если не благодаря своей силе, то благодаря своему влиянию. В других странах, как, например, во Франции, России или Германии, где аристократия не сумела совершить подобную перемену в своем поведении, дворянство было сметено. В Британии же оно уцелело.
Уолтер Генри Нэлсон (США). Лондонцы. 1975
«Жесткая верхняя губа»
«Петухи и бульдоги» – так назвал лондонский публицист Ричард Фабер одну из глав своей книги «Французы и англичане». Ведя речь о соседях за Ла-Маншем, англичане любят противопоставить задиристости галльского петуха свою бульдожью хватку; эмоциональной подвижности – сдержанность и самообладание, способное в трудную минуту перерастать в упрямую одержимость.
Вряд ли есть смысл в попытках вывести для целого народа некий общий знаменатель, скажем, навешивать на испанцев ярлык «гордых» или на шведов ярлык «флегматичных». Тем не менее каждому народу присущи свои отличительные черты, уяснив которые легче переходить от поверхностных схем и стереотипных образов к более полному и объективному представлению. Есть народы, в характере которых доминирует экспрессивность, то есть склонность целиком подчиняться своим эмоциям и открыто выражать их. Любить или ненавидеть, радоваться или негодовать – значит в их представлении полностью отдаваться этим чувствам внутренне и внешне. Подавление же эмоций они считают чем-то противоестественным, отождествляя это с лицемерием.
К другой категории можно отнести народы, в характере которых преобладает уже не экспрессивность, а репрессивность, то есть самоконтроль, и которые рассматривают свободное, необузданное проявление чувств как нечто неподобающее, вульгарное, антиобщественное. Англичане, считающие самообладание главным достоинством человеческого характера, пожалуй, относятся ко второй категории.
Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать их первой заповедью. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче он должен сохранять «жесткую верхнюю губу», то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше – если и внутренне. С детских лет в англичанине воспитывают способность к самоконтролю. Его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанность. Ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души.
Считая открытое, раскованное проявление чувств признаком невоспитанности, англичане подчас превратно судят о поведении иностранцев, подобно тому как иностранцы нередко превратно судят об англичанах, принимая маску невозмутимости за само лицо или же не сознавая, зачем нужно скрывать свое подлинное душевное состояние под такой маской. Слов нет, способность человека чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое может служить и нередко служит почвой, на которой произрастает лицемерие. Джон Голсуорси убедительно показал это в одном из своих ранних романов – «Остров фарисеев». Однако ставить во всех случаях знак равенства между самообладанием и лицемерием было бы неправомерно. Разве не культом самообладания порождена, к примеру, завидная способность англичан проявлять себя с самой лучшей стороны в самые худшие минуты жизни?
Недемонстративные в радости англичане, напротив, демонстративны в беде, точнее, в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудностей их умение владеть собой перерастает в упрямую одержимость. Англичане высоко ценят способность сохранять спокойствие и даже недооценивать степень опасности в критические моменты. Они особенно превозносят эти качества во время поражений, вроде гибели «Легкой бригады» под Балаклавой во время Крымской войны или эвакуации британской армии, окруженной гитлеровцами в Дюнкерке. Дюнкеркская эпопея была, разумеется, не победой, а дорогостоящим отступлением. Однако «дух Дюнкерка» сразу же вошел в отечественную мифологию как проявление лучшей, и притом наиболее существенной, черты британского характера.
Назидательные истории, которыми потчуют английских школьников, любят возвеличивать самообладание героев прошлого. Такова, например, притча о том, как Френсис Дрейк остался доигрывать партию в кегли даже после того, как ему доложили, что испанская армада приближается к английскому побережью. Способность хладнокровно реагировать на кризисные ситуации англичане считают самой привлекательной стороной своего характера.
Мне довелось дважды в жизни пережить неприятные минуты на борту самолетов, совершавших вынужденную посадку вслепую. И оба раза англичан было легко узнать среди других пассажиров, причем отличались они от остальных в лучшую сторону. Дремлющий в англичанах бульдожий нрав служит основой и их добродетелей, и их пороков. Одержимость эта противоборствует даже с присущим им здравым смыслом и одерживает над ним победу. Это бульдожье упрямство дает о себе знать и в большом, и в малом. Достаточно, к примеру, подтолкнуть англичанина, чтобы он тут же сделал шаг в противоположном направлении. Причем такое инстинктивное сопротивление будет возрастать прямо пропорционально нажиму.
Попробуйте проявить нетерпение в лондонской закусочной, лавке или поликлинике, и тут же убедитесь, что попытки привлечь к себе внимание приносят лишь противоположный результат, что куда лучше безмолвно и терпеливо ждать. Требовать, добиваться, негодовать – значит вести себя не по-английски. Это, впрочем, отнюдь не означает, что англичане вовсе не любят ворчать. Совсем наоборот: тут то и дело слышишь, что ворчание для них – своего рода национальный спорт. А коли так, то в данном пристрастии должны быть и свои неписаные правила. Основное из них, пожалуй, можно сформулировать как правило обратной пропорции: чем незначительнее повод, тем больше полагается по нему ворчать, и наоборот.
Неудивительно, что излюбленной англичанами темой для ворчания служит погода: во-первых, потому, что проблема эта не сходит с повестки дня круглый год, а во-вторых, потому, что погода, как и метеослужба, нечувствительна к критике. Англичанин с детства приучен считать, что любые жизненные испытания – от розог в школе до нетопленой спальни дома и карточной системы в годы войны – это не повод роптать, а дополнительный шанс закалить характер. Он умеет быть скептиком в радости и стоиком в беде – не драматизируя ни улыбки, ни гримасы жизни. Правило обратной пропорции имеет у англичан еще одно применение: по мере того как та или иная тема становится все более неуместной для ворчания, она делается все более достойной темой для юмора. Парадоксально, но факт: как только люди перестают о чем-то ворчать и принимаются на сей счет шутить, значит, дело плохо! Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера. Считается не только естественным, но чуть ли не обязательным шутить в шахте, когда спасатели извлекают оттуда горняков, засыпанных обвалом. Английские санитары «Скорой помощи» держат в памяти целый набор хорошо подготовленных острот, достойных профессиональных комедиантов. Человек, которого пожарные только что вынесли из горящего здания, перво-наперво старается сострить что-нибудь насчет крема от загара. Английский школьник, путающий даты восшествия на престол прославленных монархов, наизусть помнит слова, которые Томас Мор сказал палачу у эшафота перед лондонским Тауэром:
– Вы уж помогите мне только подняться наверх, а уж вниз-то я как-нибудь спущусь сам…
В своей книге «Английский юмор» Джон Б. Пристли признает, что большинство зарубежных путешественников пишут об обитателях Туманного Альбиона как о людях угрюмых и мрачных, склонных к пессимизму и меланхолии. Фраза о том, что «англичанин приемлет наслаждения с печальным видом», повторяется на все лады, как и модное в прошлом веке выражение «английская тоска», или «английский сплин». По словам Пристли, гости из-за Ла-Манша заблуждаются, подходя к разным народам с одинаковой меркой. Жизнь во Франции, подчеркивает он, замешена на остроумии, тогда как жизнь в Англии замешена на юморе. Но французское остроумие расцветает в общественной атмосфере. Даже путешественник, не знающий языка, ощущает его искрометность на многолюдных бульварах, наблюдая оживленные группы за столиками кафе.
Английский юмор представляет собой нечто сокровенное, частное, не предназначенное для посторонних. Он проявляется в полузаметных намеках и усмешках, адресованных определенному кругу людей, способных оценить эти недомолвки как расплывчатые блики на хорошо знакомых предметах. Вот почему юмор этот поначалу чужд иностранцу. Его нельзя ощутить сразу или вместе с освоением языка. Его можно лишь отфильтровать как часть аромата страны, причем самую трудноуловимую его часть. Умение встречать трудности юмором и оптимизмом, бесспорно, источник силы англичан. Но склонность преуменьшать, даже игнорировать неприятности, выдавать желаемое за действительное подчас толкает их к самообману и становится источником их слабости.
Когда англичане говорят о «жесткой верхней губе», за этим, стало быть, стоят два понятия: во-первых, способность владеть собой – культ самоконтроля, и, во-вторых, умение подобающим образом реагировать на жизненные ситуации – культ предписанного поведения. Ни то, ни другое не было свойственно англичанам вплоть до XIX века. И природа этих черт – ключ к пониманию английского национального характера, считает Джеффри Горер, чье фундаментальное социологическое исследование уже упоминалось выше.
Невозмутимость и самообладание, сдержанность и обходительность отнюдь не были характерны для «веселой старой Англии», где верхи и низы общества, скорее, отличались буйным, вспыльчивым нравом; где для вызывающего поведения не существовало моральных запретов; где излюбленным зрелищем были публичные казни и порки розгами, медвежьи и петушиные бои; где даже юмор был замешен на жестокости. Почему же принципы «джентльменского поведения», возведенные в культ при королеве Виктории, возобладали над крутым нравом «веселой старой Англии»? Психолог, столкнувшийся с подобным явлением применительно к отдельной человеческой личности, пишет Горер, скорее всего, предположил бы, что агрессивность просто изменила направление, что, вместо того чтобы проявляться в общественной жизни, она находит какие-то иные выходы или влияет на другие формы самовыражения.
Англичанину, считает Горер, приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными страстями своего темперамента, рвущимися наружу. И такой жесткий самоконтроль забирает чрезвычайно много душевных сил. Не этим ли можно объяснить, высказывает предположение Горер, что англичане тяжелы на подъем, склонны обходить острые углы, что им присуще желание быть вне посторонних взглядов, порождающее культ частной жизни. Достаточно понаблюдать за английской толпой на народном празднике, на спортивном стадионе, чтобы почувствовать, как национальный темперамент рвется из-под узды самоконтроля. Когда-то отдушиной для бушующих страстей могли быть заморские владения: десять заповедей переставали существовать к востоку от Суэца, кодекс джентльмена предназначался для домашнего применения, а не для экспорта в колонии.
Ныне же роль громоотвода во многом перешла к телевизионному экрану. Не парадокс ли, что один из самых законопослушных народов проявляет поразительное пристрастие к преступному миру – правда, в роли зрителей или читателей; что страна, где, по выражению писателя Джорджа Оруэлла, правонарушение и зло – понятия тождественные, оказалась родиной Конан Дойла и Агаты Кристи, крупнейшим производителем и потребителем детективной литературы. Вместе с тем ореол уважения, окружающий фигуру полицейского, – одно из свидетельств того, что англичане одержимы идеей держать вещи под контролем. Им свойственно восхищаться теми, кто подчиняет себе бурные моря и дальние страны, кто покоряет снежные горы и подводные глубины, кто укрощает стихийные силы природы или побеждает опасные болезни. Причем объект, который должен быть покорен или приручен, всегда рассматривается в таких случаях как нечто потенциально агрессивное, как нечто такое, что необходимо взять под контроль.
В 30-х годах XIX века господство старой земельной аристократии оказалось под угрозой со стороны промышленной буржуазии. «Фабрики джентльменов» родились именно в ту пору, когда обрели вес и влияние владельцы «черных сатанинских мельниц». Бурно расплодившиеся публичные школы для совместного воспитания детей промышленников и детей аристократов, для воспроизводства правящей элиты в соответствии с традициями прошлого, а также с потребностями будущего (то есть нуждами разраставшейся империи) были воплощением исторического компромисса, на который пошел класс титулованных землевладельцев, став «аристократией с открытой дверью».
Основоположник публичных школ Томас Арнольд говорил, что «фабрики джентльменов» растят особый сорт людей, предназначенных держать в своих руках бразды правления, убежденных в своем призвании руководить другими. Отсюда – упор на воспитание характера, а не на развитие интеллекта, ибо просвещенность отнюдь не была в тогдашние времена первым из качеств, которые требовались для управления империей. Само понятие «джентльмен» было неоднозначным в различные исторические эпохи. В Средние века джентльменом был благородный рыцарь, который своим мечом служил воинствующему богу. В XVIII столетии джентльменом считался землевладелец, который знал свои поля и своих овец, увлекался псовой охотой и в числе прочих досугов помогал управлять государством. Это был любитель с возможностями.
Лишь в 30-х годах XIX века, по мере распространения публичных школ, понятие «джентльмен» обрело свой нынешний смысл. Человек, отвечающий этому эталону, в представлении англичан бесстрастен, щепетилен, немногословен. Он при любых обстоятельствах сохраняет «жесткую верхнюю губу», верность данному слову, делает больше, чем обещает. Он избегает говорить что-либо хорошее о себе и что-либо плохое о других. Он служит воплощением самоконтроля, порядочности, честной игры.
Он совершает джентльменские поступки, но еще больше отличается от простых смертных тем, чего он не делает… Кодекс джентльмена предназначался для элиты. Но с середины викторианской эпохи культ самоконтроля и культ предписанного поведения были переняты у правящего класса другими слоями общества. Каждый год «фабрики джентльменов» выпускали все больше людей, которые олицетворяли собой новые стандарты поведения и нормы взаимоотношений между людьми. Многие из них выдвинулись на видные посты и оказали значительное влияние на своих современников.
Русское мое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах, любит игру глаз, скорые перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений.
П. М. Карамзин (Россия). Письма русского путешественника. 1790
Забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы, забудем о горе и о гнили Поплара, забудем о шахтах, о прядильных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств, посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость – на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о конституции и о дерби, презирая «мещанскую Францию» и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию? Если вы примете по ошибке немца за англичанина – немец самодовольно улыбнется: ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист; конечно, он за уничтожение коммунистов, но он против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба – недаром он часами перед зеркалом упрятывал под зубы язык, – он научился произносить французские слова с английским акцентом, он старается курить трубку, хотя его и подташнивает, он старается, даже несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя. Он, видите ли, не сын марсельского лавочника – он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги – в Нью-Йорке, бордели – в Париже, но идеалы – идеалы только в Лондоне.
Слов нет, английский джентльмен достоин изучения: это особая порода с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки и дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя?
Не скрою, английский джентльмен поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, как он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом.
Илья Эренбург (СССР). Англия. 1930
Нельзя не признать, что скромный и податливый средний класс развил в себе ряд ценных добродетелей (самоконтроль, порядочность, честность, чувство собственного достоинства), которые на континенте даются лишь более высоким уровнем образования. Но уместно спросить: всегда ли дети, ведущие себя лучше всего, бывают наиболее одаренными? Легко обладать трезвостью, когда не хватает воображения. Имея холодную кровь, нетрудно осуждать порывы страстей. Самоконтроль не столь уже достоин восхищения, если не так уж много чего контролировать. Стало быть, открытым остается вопрос: не подобная ли посредственность позволяла имущим классам Англии с такой бесцеремонностью добиваться своекорыстных целей, которые в данном случае вряд ли были поняты этим политически «свободным» населением!
Оскар Шмитц (Германия). Страна без музыки. 1918
Общественная мораль играет в Англии гораздо большую роль, чем во Франции. Возьмем, к примеру, две обиходные фразы, применяемые в аналогичных ситуациях. Когда англичанин попадает в беду, он стремится сохранить «жесткую верхнюю губу». Когда француз попадает в беду, его волнует иная область собственной анатомии – «как бы не наложить в штаны». Оба этих образа наглядно иллюстрируют особенности национальной психологии каждого из народов. Англичанина, попавшего в беду, больше всего беспокоит моральный аспект ситуации, мнение окружающих о его поведении. Француз же заботится о самоуважении прежде всего в личном контексте, а не о том, что думают о нем другие.
Жозеф Шиари (Франция). Британия и Франция – непослушные близнецы. 1975
Все еще широко распространенный за рубежом образ англичанина, которому присущи такие черты, как невозмутимость, снобизм, практичность, бесстрастность, пуританская воздержанность, не был полностью карикатурой, когда он впервые получил хождение. Он был достаточно точным как описание среднего представителя правящего класса в середине и в конце викторианской эпохи. Хотя даже тогда существовали многочисленные исключения, совсем не совпадавшие с ним, это была модель, по которой большинство указанного класса строило свое поведение и по которой, как по некоему идеалу, оно воспитывало своих детей.
Более того, слой общества, который стоял ниже и стремился попасть в ряды господствующего класса или хотя бы послать туда своих детей, также старался уподобить себя этой модели. И подобным же образом класс, стоявший ступенью выше – старая жизнелюбивая аристократия, – воспринял эту модель по соображениям политической выгоды или, во всяком случае, на словах превозносил ее. Но при всем этом тем не менее оставалось огромное большинство народа – рабочий класс, которому распространенный образ сдержанного, молчаливого, бесстрастного, пуританского англичанина подходил очень плохо.
Дж. Гуйдзинга (Голландия). Англия. 1970
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.