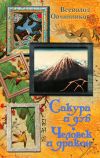Текст книги "Сакура и дуб (сборник)"

Автор книги: Всеволод Овчинников
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Нефть против угля
Заброшенные шахтные дворы. Бурьян на ржавых рельсах и отвалах, где копошатся чумазые ребятишки. Тесно сдвинутые шеренги убогих домиков – если бы не гирлянды выстиранного белья, они слились бы перед глазами в сплошное серое пятно. Несколько заколоченных витрин. Неподвижные мужские фигуры на крылечках. И на всем – печать запустения и безысходности.
Как поразительно они оказались похожи – традиционные шахтерские районы севера Великобритании и юга Японии! Естественно, что у горняков сходен труд, сходен быт. Но до чего сходной явилась и их судьба! Обе островные страны живут прежде всего переработкой привозного сырья. Для каждой из них добыча угля была главной, если не сказать единственной, отраслью их собственной добывающей промышленности.
Вскоре после войны угольная промышленность Великобритании была национализирована. Переход шахт в собственность государства горняки восприняли с воодушевлением, с чувством высокой ответственности и пониманием своего долга перед страной. Правящие круги не скупились тогда на похвалы в адрес шахтеров. И немудрено: в самые трудные для Англии годы они внесли решающий вклад в послевоенное восстановление, помогли оживить экономику, рассосать безработицу.
К середине 50-х годов 700 с лишним тысяч британских шахтеров довели годовую добычу угля до 220 миллионов тонн. Если бы угольной промышленности позволили нормально развиваться и дальше (для чего имелись и разведанные запасы, и квалифицированная рабочая сила), то энергетические потребности Англии по-прежнему могли бы в основном покрываться за счет отечественных ресурсов. И вздорожание нефти в начале 70-х годов отнюдь не нанесло бы британской экономике столь болезненного удара. Но прежде чем вести речь об этом, нужно отметить еще и другое: английский капитал сумел использовать к своей выгоде и национализацию, и патриотический порыв горняков в первые послевоенные годы. Владельцы шахт получили завышенную компенсацию и охотно переложили на государственный бюджет бремя неизбежных расходов по модернизации угледобычи. Государство же обеспечило снабжение частных предприятий дешевым углем в самое трудное для них время. Все это, однако, не помешало власть имущим приговорить английскую угольную промышленность к принудительному умерщвлению, как только против нее ополчились международные нефтяные концерны.
В 1950 году доля нефти в топливном балансе Великобритании составляла 10 процентов. В 1960-м она увеличилась до 25, а в 1970-м – до 45 процентов. Причем рост потребления нефти шел, разумеется, за счет угля. Нефтеперегонные мощности выросли почти втрое, а добыча угля упала в два раза. Были закрыты две трети шахт, и почти в три раза сократилось число горняков. Около полумиллиона шахтерских семей лишились средств к существованию. Целые промышленные районы были обречены на вымирание, словно после средневековой эпидемии чумы.
Как много во всем этом схожего с тем, что мне довелось воочию видеть на Японских островах! После войны именно горняки начали поднимать японскую экономику из разрухи. А с начала 60-х годов шахтерские районы стали с горечью называть «страной заходящего солнца».
Примерно в ту же пору и в той же пропорции, что и в Великобритании, было сокращено в Японии число горняков, упал уровень угледобычи. А официальные круги Токио лишь сокрушенно разводили руками: ничего не поделаешь! Угольная промышленность оказалась, мол, жертвой научно-технического прогресса. Уголь больше не выдерживает конкуренции с нефтью. А раз жидкое топливо, даже привезенное издалека, обходится дешевле отечественного твердого, надо принудительно свертывать угольную промышленность и переводить предприятия на нефть.
Шахтеры предостерегали правительство и предпринимателей, что Япония не так уж богата природными ресурсами, чтобы сплеча расправляться со своей единственной отраслью добывающей промышленности. Рост потребления нефти, разумеется, неизбежен, но при этом вовсе не обязательно губить угольную промышленность.
Когда съехавшиеся в столицу горняки вели в знак протеста массовую голодовку перед зданием министерства, комментарии токийских газет и телевидения сводились примерно к следующему: «Противясь энергетической революции, навязывая стране топливо вчерашнего дня, японские шахтеры поступают так же эгоистично и неразумно, как английские луддиты, которые ломали станки, чтобы помешать промышленной революции». Эти рассуждения вспомнились потом, когда мне довелось увидеть Токио в разгар «энергетического кризиса». Уязвимость японской экономики вдруг проявила себя с грозной силой.
Страна с тревогой ощутила, что жизнеспособность ее бурно разросшейся индустрии, словно от тонкой пуповины, зависит от морского пути из бассейна Персидского залива. При огромном потреблении нефти – около 300 миллионов тонн в год – запасать ее стало возможно лишь на считанные дни. И токийская печать обсуждала проекты чрезвычайных правительственных мер на случай внезапного прекращения подвоза. В числе их предлагалось, в частности, использовать воинские части для разработки заброшенных шахт, чтобы снабжать отечественным углем хотя бы аварийные электростанции.
Так опьянение «энергетической революцией» обернулось горьким похмельем «энергетического кризиса». Ощутить его последствия пришлось и Великобритании. Хотя, может быть, и не в столь крайних формах.
Избавить отечественную энергетику от произвола международных нефтяных концернов, от их спекулятивных махинаций оказалось куда труднее, чем попасть в эту кабалу. Жертвами однобокой ориентации на привозное жидкое топливо стали не только вымершие угольные бассейны, не только полмиллиона уволенных британских горняков. От этого пострадала экономика страны в целом. Непомерно взвинченные цены на импортное топливо резко подхлестнули общий рост дороговизны.
Правда, после «энергетического кризиса» доля нефти в энергетическом балансе Великобритании пошла на убыль, а спрос на отечественный уголь стал расти, к началу 80-х годов почти сравнявшись с нефтью. Однако за четкую перспективу развития своей отрасли английским горнякам по-прежнему приходится вести борьбу.
Открытие нефтяных месторождений в Северном море не умаляет роли угля как одного из важнейших для Великобритании источников энергии. К тому же в отличие от добычи нефти, где доминирует иностранный капитал, угольная промышленность целиком находится под контролем британского правительства, использует отечественное оборудование и технологию.
Важно, однако, подчеркнуть и другое. В отличие от нефти, снабжение углем нельзя прекращать и возобновлять поворотом крана. Мало иметь разведанные запасы, нужна еще и кадровая армия горняков, которая регулярно пополняла бы свои ряды молодежью. Даже при нынешнем уровне механизации угледобычи работа в забоях в решающей степени зависит от людей, от их профессиональной спайки, которая обретается годами. Чтобы привлечь на шахты молодое пополнение, перед британской угольной промышленностью должна быть открыта гарантированная перспектива развития – нелегкий труд горняков должен оплачиваться с учетом его важности для страны. Именно в этом национальный профсоюз шахтеров и видит главные цели своей борьбы.
Да, сходен труд, сходен быт британских и японских горняков; сходны цели их борьбы, сходны даже нападки их классовых противников, обвиняющих шахтеров в попытках остановить научно-технический прогресс и даже в недостатке патриотизма.
Пошлите в Лондон философа, но не поэта. Пошлите сюда философа и поставьте его на Чипсайде; он узнает тут больше, чем из всех книг последней Лейпцигской ярмарки. Пока эти человеческие волны будут бушевать вокруг него, в нем поднимается океан новых мыслей. Вечный дух, витающий здесь, осенит его; самые потаенные секреты общественного порядка откроются ему; его рука будет лежать на пульсе мира; ибо если Лондон – это правая рука мира, подвижная и сильная правая рука, то улица, ведущая от Биржи к Даунинг-стрит, может считаться ее артерией.
Но не посылайте в Лондон поэта. Угрюмая серьезность, удручающее однообразие, механический ритм движения, ущербность даже самой радости – этот вечно спешащий Лондон подавляет воображение и разрывает сердце на части.
Генрих Гейне (Германия). Автобиография. 1888
Город-притча
Если согласиться с тем, что Англия начинается с Лондона, то еще более верно считать, что Лондон начинается с Лондонского моста. Город вырос у первой постоянной переправы через Темзу, наведенной еще для римских колесниц.
До прихода легионов Юлия Цезаря на берегах Темзы обитали кельтские племена. Они занимались ловом лосося и ставили в вековых дубравах капканы на лесную дичь.
Как раз там, где впоследствии выросла британская столица, Темза широко разливается. Скромная сельская речка, змеящаяся среди рощ и лугов, образует полноводное, подверженное морским приливам устье, напоминающее Рейн или Шельду в нижнем течении. Римлян это место привлекло как точка пересечения водного пути с востока на запад, в глубь страны, с магистральной дорогой, которую они начали прокладывать с юга, от Дувра, на север, к Йорку. Тут, в низовьях, где через Темзу практически невозможно навести переправу, но в то же время поближе к выходу в море, и был основан город.
Самолет пробивает гряду облаков, и под крылом открываются серебристые излучины реки, петляющей по застроенному пространству. Можно различить средневековые стены Тауэра, монументальный купол собора Святого Павла, готические контуры Вестминстерского дворца с циферблатом Большого Бена на башне. А вокруг от горизонта до горизонта раскинулся безбрежный город.
Трудно представить себе, что всего три с половиной столетия назад, во времена Шекспира, приезжему ничего не стоило обойти столицу вокруг, чтобы полюбоваться на нее со всех сторон. Лондон представлял собой тогда ту квадратную милю территории, что именуется ныне лондонским Сити. Стена с шестью воротами, построенными еще римлянами в I веке нашей эры, надолго закрепила естественные границы города. А потомок римской переправы – средневековый мост с домами, лавками и головами казненных на пиках – был свидетелем превращения Лондона в крупнейший центр торговли шерстью, в хранилище накоплений, которые впоследствии помогли Англии стать родиной промышленной революции.
Квадратная миля у Лондонского моста оказалась своего рода историческим заповедником, сохранив до наших дней многие черты средневекового города-государства. Привилегии, пожалованные Сити еще Вильгельмом Завоевателем и закрепленные Великой хартией вольностей, скрупулезно сохраняются по сей день. На государственных церемониях британскую столицу представляет не глава совета Большого Лондона, а лорд-мэр Сити, доныне сохраняющий права средневекового барона.
Лондонская организация лейбористской партии поставила как-то вопрос о том, что положение государства в государстве, которым Сити пользуется с XI века, давно стало анахронизмом и наносит ущерб британской столице. Она предложила упразднить корпорацию Сити, имеющую отдельный бюджет и даже свою полицию, и передать ее обязанности совету Большого Лондона. Посягательства на вековые традиции встретили бурю возражений: как быть со старейшинами и шерифами, с ежегодными банкетами в Гилдхолле и церемониальными функциями лорда-мэра Сити при королевском дворе?
Впрочем, вряд ли именно это прежде всего встревожило магнатов Сити. На квадратной миле, где сосредоточены банки, фондовые и товарные биржи, фрахтовые конторы и страховые компании – словом, на этом сгустке мировой финансовой мощи ставки местных налогов куда ниже, чем в соседних районах Лондона. Вот почему «подкоп под стены Сити» был обречен на неудачу. Ведь могущественные обитатели квадратной мили дорожат средневековыми привилегиями не только ради права лорда-мэра вручать королеве символический «жемчужный меч» перед тем, как она переступит границу Сити; не только ради церемонии, учрежденной, дабы показать, что злато банкиров отдает себя на милость булату королевской власти.
Если Сити послужил историческим ядром британской столицы, то собственно Лондоном принято считать бывшее Лондонское графство. Оно занимает территорию в 300 квадратных километров и в административном отношении подразделяется на Сити и 28 столичных округов. А вокруг на площади, впятеро более обширной (то есть на 1500 квадратных километрах), раскинулось внешнее кольцо Большого Лондона.
Город этот необозрим. Он поистине необъятен для воображения, потому что не только безграничен, но и «бесскелетен». При своих немыслимых размерах Лондон лишен какой-либо четкой градостроительной структуры.
Его хочется сравнить с громоздкой молекулой сложного органического соединения: трудно определить, что служит тут центром или осью, трудно выявить какую-то логику или закономерность в том, как связаны в одно целое многочисленные составные части.
Семимиллионный Лондон по площади вдвое превышает Нью-Йорк и почти втрое – Токио, хотя по населению сейчас уступает обоим этим городам. Причем характерной чертой его застройки является не только разбросанность, но и аморфность. Лондон не знает ни радиально-кольцевой планировки Парижа, ни линейной планировки Нью-Йорка. При этом хаотичность его отличается от хаотичности Токио. Это город-созвездие, образовавшийся в результате срастания множества отдельных населенных пунктов, которые полностью так и не слились воедино. Это город-архипелаг, каждая составная часть которого во многом живет самостоятельной жизнью, оставаясь островом среди островов.
Если Париж впечатляет размахом градостроительного замысла, гармонией архитектурных ансамблей, то Лондон можно назвать красивым городом лишь в том смысле, в каком может быть красивым лицо старика на портрете Рембрандта. Неподдельная ретушь веков, как бы патина времени, лежащая на памятниках прошлого, – вот чем волнуют камни британской столицы.
Выразительна и торжественна черно-белая графика старых лондонских фасадов. Они как бы отретушированы извечным противоборством копоти и дождя. Десятилетиями дым бесчисленных каминов темнил эти камни, а дождевая вода где могла смывала с них сажу. Так само время, словно кисть художника, усилило рельефность архитектурных деталей, прочернив каждое углубление и выбелив каждый выступ.
Туманным зимним утром, когда оголенные кроны деревьев кажутся отлитыми из чугуна, как и кружевные решетки парков, Лондон особенно графичен, будто создан для рисунка углем. Яркими вкраплениями в его черно-белую гамму служат лишь красные двухэтажные автобусы, красные почтовые тумбы и телефонные будки, да еще, пожалуй, часовые у Букингемского дворца, форма которых соединяет три главные краски в портрете Лондона: черные медвежьи шапки, белые портупеи, красные мундиры.
О Лондоне изданы бесчисленные путеводители, где перечисляются достопримечательности, анализируются особенности творческого почерка таких его зодчих, как Кристофер Рэн, Джон Нэш, Иниго Джонс. Но история британской столицы не знает градостроителя, который внес бы в ее облик какие-то кардинальные перемены. Во все века Лондон знал лишь одного главного архитектора – Время. Может быть, терпимость к следам времени и составляет его своеобразную прелесть.
Лондон во многом олицетворяет такую черту английского характера, как нежелание отказываться от чего-то принятого, устоявшегося, от привычных удобств и даже неудобств. Лондон возмужал еще в век конных экипажей и не пожелал подвергаться хирургическим операциям с приходом века автомашин. Сохраняя в своем облике напластования многих эпох, город на Темзе местами напоминает тесную квартиру, через меру заставленную антикварной мебелью.
Знакомясь с Лондоном, нужно перво-наперво отбросить привычное представление о столичном городе как об упорядоченном наборе архитектурных достопримечательностей. Неприязнь к перепланировкам тоже относится здесь к числу традиций.
В 1666 году Лондон пережил большой пожар. Сгорело 13 200 домов, 87 церквей. Исторический центр города – нынешний лондонский Сити – был превращен в огромное пепелище. Стихийное бедствие открывало редкую возможность целиком перепланировать и отстроить столицу заново. Как раз незадолго до пожара архитектор Кристофер Рэн побывал в Париже, познакомился с веерной планировкой его улиц, любовался регулярной разбивкой Версальского парка. Буквально за считанные дни Рэн создал смелый, логически обоснованный план генеральной реконструкции сгоревшего города. На месте средневекового лабиринта узких, запутанных улиц он прочертил прямые магистрали, радиально расходящиеся от пяти площадей. Причалы, склады, верфи, товарные биржи предлагалось вынести за пределы городских стен. Все это должно было придать Лондону черты удобного, современного по тем временам города. Однако владельцы земельных участков столь ревностно защищали право отстраиваться на старых фундаментах, что улицы Сити доныне остались такими же узкими и запутанными, как до пожара.
Порой думаешь, что деревьям в Лондоне живется просторнее, чем домам. Причем именно то священное право частной собственности, которое помешало Рэну осуществить свой замысел, пожалуй, в одном-единственном случае пошло лондонцам на пользу.
В самом центре необозримой британской столицы обширным зеленым пятном площадью 400 гектаров протянулась цепочка королевских парков: Гайд-парк, Грин-парк, Сент-Джеймс-парк. Более четырех столетий территория нынешнего Гайд-парка принадлежала Вестминстерскому аббатству. Монахи занимались рыбной ловлей на озере, а луга использовали для выпаса овец. Когда Генрих VIII порвал с Римской католической церковью и объявил монастырские владения конфискованными, Гайд-парк стал королевским охотничьим угодьем. Благодаря тому, что двор развлекался там соколиной и псовой охотой, посреди столичного города сохранился в неприкосновенности огромный зеленый массив, который оказался благом для грядущих поколений лондонцев. Вскоре после того, как Карл I был обезглавлен и Англия на несколько лет стала республикой, правительство Кромвеля решило продать королевские парки в частную собственность. В 1652 году Гайд-парк был продан с аукциона тремя частями. Владелец одной из них – богатый судостроитель – тут же ввел входную плату с каждого пешехода, всадника и экипажа. Это, разумеется, вызвало большое недовольство лондонцев. Поэтому как только монархия была восстановлена, одним из первых актов парламента после возвращения Карла II на престол была отмена сделки на продажу Гайд-парка, а также платы за вход в него.
Большинство зеленых массивов, которыми по праву славится Лондон, – это не регулярные, а пейзажные парки, где можно бродить по лужайкам, загорать – словом, чувствовать себя среди привольной сельской природы. Как и в хаотичности лондонской застройки, здесь отражено присущее англичанам представление, что город должен расти по тем же законам, что и лес. Вместе с тем Лондон представляет собой город-созвездие, город-архипелаг не только из-за традиционной неприязни к перепланировкам. В этом проявляется одна из наиболее характерных черт британской столицы: высокая мера социальной разобщенности, классовой сегрегации. Семимиллионный гигант поражает отъединенностью своих составных частей, каждая из которых подобна изолированному острову. Речь идет не просто о контрастах бедности и богатства (есть немало городов, где они обозначены куда резче), а о четких, почти осязаемых социальных перегородках, расчленяющих Лондон. Он все вмещает, этот огромный город, но ничего не совмещает.
Только в Лондоне можно полностью оценить реализм Чарльза Диккенса, даже тех его страниц, которые порой кажутся зарубежному читателю сентиментальными. Немногие из современников писателя отваживались, как он, посещать трущобы Ист-Энда, где в ту пору насчитывалось 300 тысяч голодающих, 30 тысяч бездомных, свыше 50 тысяч прозябали в описанных им работных домах. Но тогда, столетие назад, это была клоака города, не знавшего себе равных по населению, это была накипь в гигантском котле, куда стекались богатства со всей колониальной империи. Много воды утекло с тех пор под Лондонским мостом. Мир стал иным, иным стал и город на Темзе. Однако бедность не исчезла. Она лишь изменила облик. Нужда, в которой бьется современная лондонская семья, может не походить на нищету времен Диккенса. Но разрыв между бедностью и богатством не сократился, а возрос, как расширились рубежи той зоны безысходности и отчаяния, какой для современников Диккенса был Ист-Энд.
Утрата былой роли крупнейшего порта мира, усугубляемая упадком британской индустрии, сделала социальные контрасты Лондона еще более острыми и мучительными. Вплоть до послевоенных лет Темза оставалась аортой Лондона, служила стержнем его экономики. С распадом империи британская столица постепенно лишилась положения главного перевалочного пункта в мировой торговле. Поток традиционных грузов пошел на убыль. А при развитии торговых связей со странами Общего рынка предпочтение было отдано молодым портам, что выросли на восточном и южном побережьях. Из-за кардинальных перемен в методах погрузочно-разгрузочных работ, и прежде всего перехода к системе контейнеров, оказалось более выгодным оборудовать причалы заново, чем реконструировать старое портовое хозяйство. Тилбери, выросший у самого устья Темзы, перехватил у Лондона значительную часть его грузопотока. В результате лондонский порт оказался обреченным.
К числу эксцентричных английских хобби относится «индустриальная археология». Любители-энтузиасты, возводящие это пристрастие в ранг науки, выискивают открывающиеся вручную шлюзы на заброшенных каналах, старинные водокачки, поворотные круги и семафоры на давно закрытых железных дорогах и добиваются для них статуса исторических памятников. Но зачем отправляться в далекие поиски, если буквально под боком находится не то что памятник, а крупнейшее в Западной Европе индустриальное кладбище. Это Доклэнд – Край доков, тянущийся вдоль Темзы на восток от Лондонского моста чуть ли не до Тилбери.
Печальную участь лондонского порта в немалой степени разделяет промышленность столицы в целом. Помимо Доклэнда густым скоплением экспонатов для любителей «индустриальной археологии» стал южный берег Темзы – Саутуорк, Льюишэм, Гринвич.
Парадокс состоит в том, что помимо объективных причин упадок промышленности Лондона был ускорен сознательной политикой правительства и местных властей. После войны они осуществили ряд мер с целью, с одной стороны, ограничить создание новых производственных мощностей в городской черте, а с другой стороны, поощрить налоговыми скидками и прочими льготами перевод промышленных предприятий из столицы в другие районы страны.
На определенном этапе политика эта, видимо, была оправданной: благодаря ей удалось снизить загрязненность окружающей среды. Воздух над Лондоном стал чище, вода в Темзе тоже. Однако к началу 80-х годов пришлось думать уже не о том, как предотвратить чрезмерную концентрацию индустрии в Лондоне, а о том, как пресечь утечку рабочих мест из столицы. Традиционный контраст окраин и центра теперь как бы вывернут наизнанку. С одной стороны, все шире становится кольцо богатых предместий, куда из-за ухудшения условий городской жизни предпочитают переселяться наиболее состоятельные слои, а с другой – происходит экономический упадок и социальная деградация внутренних, прилегающих к центру районов.
Этот «эффект бублика», как его окрестили американцы, исподволь приводит к болезненным и необратимым последствиям. Переезд наиболее зажиточных горожан, а вслед за ними многих предприятий торговли и обслуживания в предместья снижает налоговые поступления в бюджет прилегающих к центру районов. Расходы же на социальные нужды там, наоборот, растут, так как все значительнее становится прослойка неимущих, неквалифицированных, нетрудоспособных, престарелых. Местным властям приходится повышать налоги, а это, в свою очередь, побуждает оставшихся предпринимателей быстрее перебираться в другие места и подхлестывает безработицу. В сердце города отмирают участки живой ткани. Население Лондона давно уже не растет. В предвоенные годы город на Темзе насчитывал 8,6 миллиона жителей. Это был мировой рекорд, превзойденный потом Нью-Йорком и Токио. Теперь число обитателей Лондона снизилось до 7 миллионов. Особенно существенно – более чем на четверть – сократилось на селение внутренних городских районов, бывшего Лондонского графства. Как показывают опросы общественного мнения, свыше половины жителей Большого Лондона хотели бы покинуть столицу.
«Лондон – дар Темзы» – принято было прежде говорить про город у моста. Надо признать, что в ту пору, когда над владениями британской короны никогда не заходило солнце, то был действительно щедрый дар. Румяные джентльмены в клубах любили повторять крылатую фразу доктора Сэмюэля Джонсона: «Если вам надоел Лондон, значит, вам надоела жизнь». Лондонский мост, построенный в первой половине XIX века на месте средневекового, видел, как проплывали по Темзе и оседали в сейфах Сити богатства со всех концов величайшей колониальной империи. Когда Англия слыла «промышленной мастерской мира», владычицей морей, немалая доля ее индустрии, и в частности судостроения, размещалась на берегах Темзы, а налоги на товары, проходившие через лондонский порт, служили существенным источником доходов для казны, важным дополнительным фактором процветания британской экономики.
Но вот утрачена империя. Промышленность «мастерской мира» переживает упадок. Распилен на куски и продан куда-то в Америку даже сам старый Лондонский мост – немой свидетель лучших времен. Утренний поток банковских клерков по новому мосту напоминает, что Сити еще сохраняет свое значение мирового финансового центра. Но это – последний бастион былого величия. То, что прежде способствовало процветанию города у моста, обернулось ныне против него. И жители британской столицы с горькой иронией перефразируют афоризм доктора Джонсона: «Если вам надоела жизнь, значит, вам опостылело быть лондонцем».
В Восточном Лондоне страшно не то, что можно видеть и обонять, а то, что всего этого так неизмеримо, непоправимо много. В других местах безобразная нищета существует, как помойная яма в грязном закоулке между двумя домами, как нарыв или омерзительные отбросы; а здесь миля за милей тянутся ряды темных домов, безотрадные улицы, еврейские лавочки, всюду переизбыток детей, кабаков, благотворительных ночлежек.
В таком потрясающем количестве эти бараки теряют характер человеческого жилья и приобретают вид геологического напластования; это – черная лава, извергнутая фабриками; это – осадок, оставляемый торговлей, проплывающей по Темзе на белых пароходах.
Карел Чапек (Чехословакия). Письма из Англии. 1924
Этот город родился из болот, тумана и воды. Волны вторжений и завоеваний прокатывались по нему. Каждое из них оставляло свой след, не стирая до конца следов других. Эти признаки столь многих и столь разных веков – ни один из которых нельзя назвать преобладающим – переплелись, как нити, в сложной ткани города. Здесь нельзя идти шаг за шагом через столетия. Эти столетия соединились в один широкий и глубокий слой – сам Лондон.
Можно почувствовать его старину, его хмурость, его степенный тяжелый ритм; медлительную и громоздкую силу, кроющуюся за его полутонами; его порядок, мудрость, безрассудство; его обыденность и романтичность, его великолепие и достоинство; достигнутое им необъяснимое сочетание земли и воды, традиций и современности, обычаев и авантюр, опыта и мечтаний, индивидуализма и терпимости.
Одетта Кюн (Франция). Я открываю англичан. 1934
Когда американский поселок превращается в город, событие это бывает отмечено постройкой небоскреба. Нет нужды доказывать, что небоскреб, экономически оправданный в тесном Манхэттене, выглядит смешно на нетронутых просторах Техаса. Тем не менее стальная башня – это, так сказать, марка, это стиль городской Америки. Естественное, обычное и знакомое представление о городе связано у американцев с вертикалями: чем выше здания, тем крупнее и важнее город. Американец чувствует себя неуютно там, где нет лифтов.
С другой стороны, перед вами Лондон. Он не вертикален, то есть для американского горожанина плосок и уныл. Он не имеет геометрической планировки, прочерченных по линейке проспектов. Недосказанность – это не тот стиль города, который мы приучены уважать с первого взгляда. До тех пор пока я не полюбила Лондон, эта недосказанность казалась мне парадоксом.
Рут Маккини (США). Вот она, Англия. 1961
Кому неизвестно, что Венеция – сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена – томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман, – тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости.
Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы; который столь мощен, что к его дыханию прислушивается и Париж, и Берлин; в котором традиции, монументы, Макдоналд, золотые джунгли Сити и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше 7 миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный из всех литературных жанров. Это не город, а притча…
Дивен Лондон, и тот, кто однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул, смутился… Как живет он, еще храня парики, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета?
Илья Эренбург (Россия). Англия. 1930
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.