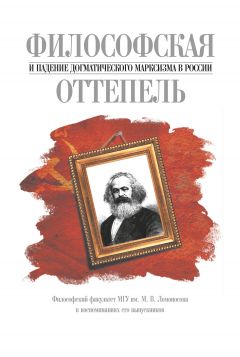
Автор книги: Вячеслав Шестаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Э. Ю. Соловьев. Моховая, 11 – Волхонка, 14 (из истории московской философской оттепели)
Литература о философском обновлении, свершившемся в Москве в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, сегодня, я думаю, могла бы составить уже пару томов. Но вопросы, которые в ней обсуждаются, по-прежнему не закрыты, а сами породившие их события смотрятся как все более масштабные и смыслоёмкие. Для их историко-философской расшифровки требуются новые усилия и не в последнюю очередь – усилия памяти. Возрастает ценность живых свидетельств, возможных подателей которых, увы, становится все меньше. Я, так получилось, принадлежу к их числу и в последние годы все чаще испытываю что-то вроде мемориального долга.
Я никогда не вел дневника и располагаю лишь редкими записями задевших меня событий. Но есть немало отстоявшихся и как бы во мне самом записанных впечатлений-суждений большой давности, которые, как правило, постигают меня при чтении чужих мемориалов. Они оживляют то, что казалось напрочь забытым, обладают, сколь это ни удивительно, типологической, социокультурной определенностью и напрашиваются на поэтическую чеканку. Возможно, именно это имеет в виду замечательное выражение «воскресло в памяти».
Вот суть одного из таких суждений-впечатлений: исток «шестидесятничества» как особого идейного поколения следует искать в составе студенчества, отличавшем пятидесятые годы. Исключительно интересным в этом отношении как раз и был философский факультет МГУ. Можно сказать, что на нем обучалось в ту пору парадоксальное «гибридное» поколение. За студенческой скамьей сошлись «отцы» и «дети», которые по возрасту различались всего лишь как старшие и младшие братья. «Братьями-отцами» были те, кто прошел опыт войны, многое повидал и уже имел повод усомниться в достоинстве советской большевистской системы.
В литературе последних лет, например, в известной книге В. К. Кантора «…Есть европейская держава», формулируется следующий любопытный тезис: «ХХ съезд партии по сути своей был съездом вернувшихся с войны лейтенантов».
Было бы наивно думать, что таковыми оказывались все офицеры, пришедшие на факультет с фронта. Однако в ряду последних встречались люди, удивительные по выстраданной духовной независимости. Выразительнейший пример тому – Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев. В 1999 году я написал стихотворение, которое (через поэтическую гиперболу), пожалуй, разъясняет их значение для формирования философского шестидесятничества лучше, чем это могли бы сделать пространные социологические выкладки.
Шинель
Э. Ильенкову, А. Зиновьеву
На факультете пропадали
Послевоенные мальчишки,
И пропадали их медали,
И их снобистские замашки.
Но в раздевалке, где висели
Послевоенные пальтишки,
Вдруг появились две шинели –
Шинели Эвальда и Сашки.
Они по опыту отцы нам,
Они по возрасту братишки.
Они свободы образцы нам
Перед лицом муштры и слежки.
Иные шутки зазвенели,
И начались иные книжки,
И в семинарах под шинелью
Созрели крепкие орешки.
Мы были – в бурсе лицеисты,
Самоуправные студенты,
Земного бога атеисты
И трудоголики в шарашке.
Внутри марксистской цитадели
До диссиденства диссиденты
С тех пор как вышли из шинели,
Шинели Эвальда и Сашки.
Еще до ХХ съезда КПСС Ильенков и Зиновьев защитили новаторские, провокативные по характеру диссертации. Обе были посвящены теме абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, обе неуличимым образом наводили на мысль, что Маркс велик, по сей день методологически важен, а вот работы его новоявленных последователей, Ленина и Сталина, не говоря уже о ждановых, александровых, митиных, константиновых, – отмечены философским убожеством. В 1954 году Э. В. Ильенков и В. И. Коровиков (опять-таки «уцелевший лейтенант ВОВ») затеяли ныне прославленную факультетскую дискуссию о предмете и миссии философии. Руководство факультета добилось ее осуждения. Инициаторы, заработав ярлык «гносеологов», были отстранены от преподавания. Однако дискуссия успела обнаружить, что на разных курсах обретается немало пытливых и ищущих людей, которые теперь узнали друг друга. Полемика не прекращалась, и в ней стало складываться долгосрочное, неформальное сообщество. Вновь образующиеся кружки и собрания «ильенковцев», «зиновьевцев», «щедровитян» (по фамилии Г. Щедровицкого), «мерабианцев» (по имени М. Мамардашвили) при всех концептуальных разногласиях – как покажет время, совсем нешуточных – позиционировали себя в качестве стойких союзников в противостоянии факультетскому официозу. Вся молодежь чувствовала себя в обновляющемся проблемном поле, о чем Лев Науменко, на мой взгляд, лучший биограф Э. В. Ильенкова, на закате XX века скажет так: Ильенков задел всех, кто хоть сколько-нибудь серьезно относился к своей профессии: «Одних он “перепахал”, других “заразил”, третьих – подстегнул».
* * *
Я пришел в философию шестьдесят лет назад – вскоре после смерти Сталина. В течение всего этого времени я чувствовал себя пребывающим внутри одного и того же, не сменявшегося исторического периода, – внутри оттепели. Я имею в виду необратимое поступательное освобождение от базисного общего страха и властных социальных обманов. Моей оттепели не прервали ни Чехословакия 1968 года, ни застой, ни буксующая перестройка, ни круговерть 90-х. Во мне жила и живет стойкая уверенность в невозвратимости сталинского ледникового периода.
Я хорошо помню, как началась моя «умоперемена». Это случилось осенью 1955 года, когда мой школьный учитель логики, эстетик Б. И. Шрагин привел меня в дом к Э. В. Ильенкову, отношения с которым вскоре стали дружескими. Я, студент-четверокурсник, угодил в эпицентр философского обновления, начатого Ильенковым и Коровиковым; Ильенковым и Зиновьевым.
Нелегко найти язык для выражения того, как мы, их приверженцы и последователи, переживали и осознавали тогдашние события. Мне кажется, я отыскал его в начале 80-х годов, когда занялся историей Реформации.
Дело, затеянное Ильенковым, Коровиковым и Зиновьевым, я склонен определять как попытку философской реформации марксизма. Над их начинанием смело можно было бы поставить ренессансно-реформаторский девиз: «Ad fontes!» («Назад к истокам!»). Это безоговорочно справедливо в отношении Эвальда Ильенкова, – ключевой фигуры тогдашнего идейного брожения. С решительностью и энергией, отличавшей экзегетиков-евангелистов XVI века, Ильенков обратился к первомарксизму. За пару лет до ХХ съезда партии, призвавшего к восстановлению ленинских норм жизни, он стал проповедовать возврат к Марксовым нормам мышления. Самым точным словом для обозначения его позиции было бы слово из протестанского экклезиологического словаря, – неоортодоксия. Разъясняя данное выражение, надо непременно вспомнить парадоксалистски-диалектическую формулу, характеризующую образ мысли и позицию молодого Мартина Лютера: ортодоксия против догмы.
Усилию неоортодоксии отвечала идейная и экзистенциальная позиция Лютера, обозначенная знаменитой формулой «На том стою и не могу иначе», заявленной им на рейхстаге в Вормсе. Формула эта была созвучна девизу стоиков «Делай что должно, и будь что будет». В обоих случаях предполагалось, что даже безотрадная истина (и, может быть, прежде всего она) заслуживает верного служения, целеустремленности и дисциплины.
Хорошо известно, что поэтические метафоры и акцентировки могут с высокой точностью выражать смысл исторических аналогий. Помня об этом, я позволил себе в середине 90-х написать такое стихотворение:
Эвальдом звался наш пастор
В пору студенческого убожества
и преддипломных драм
там,
на углу проезда Художественного,
был у меня храм.
Эвальдом звался наш пастор,
жил он в стойкой тоске,
был он пророк,
рисовальщик
и мастер
на токарном станке.
В доме пастора
творилась схизма:
оструганье ствола от ветвей –
вызволение первомарксизма
из марксистских церквей.
«Гегель – это
Ветхий Завет,
Маркс – это Новый,
высший, последний.
Ленин – апостол и апологет,
Прочее – ересь и бредни.
Господи!
дай устоять в парадоксе,
дай не забыть
на пути нашем долгом,
что дрянь реформы:
одна ортодоксия
может сломить
партийную догму.
Верить в Маркса,
верить безостаточно,
в нем и в Гегеле
оплодотворение!
Иначе зачатие
пойдет внематочно
и родами Родина
помрет в разорении.
И хватит пить
чего ни поставят!
И хватит унынья,
острот и лени!
Проклят и выкинут
идол Сталин.
Гегель – Маркс – Ленин!»[4]4
Недавно вышло новое сочинение о творчестве Э. В. Ильенкова – «Страсти по Тезисам» (сост. Е. Иллеш, М.: Канон+, 2016, 272 с.). В рецензии на это издание мой однокурсник, когда-то ильенковец, В. П. Шестаков также прибегает к разъясняющей исторической аналогии. Знаток эпохи Ренессанса, он считает возможным сравнить ильенковско-коровиковские Тезисы 1954 г., пробудившие студентов и аспирантов философского факультета МГУ, со знаменитыми Тезисами против индульгенций, которые Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви 31 октября 1517 г. (См. Вопросы философии. 2016. № 12).
[Закрыть]
Ильенков не просто учил увлеченно читать Маркса. Человек поразительной литературной одаренности, он – и письменно, и изустно – умел мыслить и выражаться, как сам Маркс (то же самое можно сказать и в отношении Ильенкова и Гегеля). Преподаватели, аспиранты и студенты, посещавшие замечательные семинары, которые вел Эвальд Васильевич, оказывались внутри дискурса, вызывающе отличного от ленинско-сталинской догматики, которую им надо было штудировать. В свете речевого поведения и самой личности Ильенкова она (догматика) смотрелась как марксизм, отчужденный от Маркса, и как принудительно заданная «превращенная форма» самой философии. Это было настоящим экзистенциальным открытием, которое одушевляло, но не могло обнадеживать и радовать. Официальная догматика, осознанная как анонимная, идеологически принудительная сила, обескураживала и пугала, порождала сомнение в эффективности рациональных доводов и публичного спора. Лично для Ильенкова сама дискуссия, одним из инициаторов которой он оказался, стояла, по-видимому, под знаком этой социально предопределенной неэффективности.
В момент обсуждения «Тезисов о предмете философии» я еще не был близко знаком с Эвальдом Васильевичем. Однако мне известно (известно «из первых рук»), что его состояние в те дни было от начала и устойчиво удрученным («жил он в стойкой тоске»).
Воспользовавшись понятием Мартина Хайдеггера, можно сказать, что у инициаторов тогдашней дискуссии была разная «исходная настроенность». Виталий Иванович Коровиков взвинчивал себя до благих упований, не исключал преподавательской и даже партийной поддержки и чем-то напоминал мужественного энтузиаста, отправляющегося на целину. Эвальд Васильевич конституировал себя стоически, и его поведение точнее всего могло бы разъясняться известной формулой Сартра «борьба без надежды на успех».
Я навсегда запомнил выражение лица Эвальда Ильенкова в момент, когда ораторы Ученого Совета предъявляли ему свои обвинительные вердикты. Это был лик, – лик мыслителя-мученика, осмеиваемого толпой «не ведающих что творят». – «Смотри, он как Езус», – шепнул мне на ухо Юрий Маркуш[5]5
Юрий (Дьёрдь) Маркуш (1934–2016) – студент из Венгрии, с красным дипломом закончивший философский факультет МГУ; после возвращения на родину в 1957 г. стал секретарем опального Георга (Дьёрдя) Лукача. В шестидесятые годы предложил оригинальную интерпретацию наследия молодого Маркса. В 1968 г. подписался под коллективной петицией, осуждавшей введение в Чехословакию войск Варшавского договора. В 1973 г. (в соавторстве с Д. Бенце и Я. Кишем) выступил с критикой политэкономии Маркса, основывающейся на доминантных понятиях теории предельной полезности. Был уволен из Института философии ВАН и в 1977 г. эмигрировал в Австралию. С 1978 – профессор Сиднейского университета. Одна из последних его книг называлась «Метафизика – что же это, наконец, такое?» (1998).
Юрий Маркуш, один из талантливейших моих однокурсников, скончался 5 октября 2016 г., – тогда, когда я дорабатывал эту статью и вспоминал для вас, дорогие читатели, наши студенческие годы.
[Закрыть].
Не было случая, чтобы впоследствии, в годы работы в Институте философии, Эвальд позволил себе светлые и отрадные воспоминания о философском факультете МГУ. А вот на рассказы зека, недавно покинувшего места заключения, его мемориальные сентенции походили нередко.
* * *
Воспоминания об идейном обновлении, начавшемся на философском факультете МГУ в 50-х годах, как правило, несвободны от цехового ностальгического благодушия. Легко может сложиться впечатление, будто факультет в ту пору был столичной кузницей талантов и переживал чуть ли не «золотой век». Теплые воспоминания об эксклюзивах добротного преподавания: о В. Ф. Асмусе и П. С. Попове, М. Ф. Овсянникове и П. Я. Гальперине, Т. И. Ойзермане и В. В Соколове, – заслоняют толпу одноликих кафедральных уродцев, которые методично выковывали из нас ленинско-сталинских догматиков, нацеленных на карьерное послушание, доносительство и фабрикацию идеологических ярлыков.
В осенне-зимний семестр 1952 года (первый в моей жизни) все кафедры философского факультета провели по несколько семинарских занятий, посвященных молитвенному заучиванию убогой брошюры Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В канун выборов в Верховный Совет студентов поголовно мобилизовали на агитационную работу: ее главной задачей было разъяснение решений XIX съезда партии, рекордных по степени казенщины. Мне известны случаи, когда студенты длительное время имитировали косноязычие, чтобы избежать пропагандистских нагрузок (и не могу не добавить – действительно зарабатывали себе дефект речи).
Легенда о «врачах-убийцах», запущенная в январе 1953 г., разожгла подозрительность. С особым тщанием отслеживались возможные рецидивы космополитизма. Их усматривали, например, в живом интересе к истории западно-европейской философии. Списки соответствующей литературы, рекомендуемой для ознакомления, были решительно сокращены. Уже в 1949 г. (замечу: по сигналу из Министерства высшего образования) запретили кружок-семинар по изучению немецкой классической философии, которым руководил М. Ф. Овсянников. Бывшие участники семинара находились под особым наблюдением. Руководители дипломных и курсовых работ доверительно советовали студентам не увлекаться цитатами из Маркса и Энгельса и непременно уравновешивать их ссылками на Ленина и Сталина. Интенсивное изучение иностранных языков стало выглядеть как подозрительное занятие. На военной кафедре подполковник Пуговкин, рубаха-парень, с панибратским простодушием и протокольным цинизмом рассказывал студентам о своем участии в расстрельных командах 1937–1938 годов.
Смерть Сталина не привела к сколько-нибудь существенному изменению обстановки. В. С. Молодцов, декан хрущевского времени, пребывал в неизбывном ужасе от решений ХХ съезда, переживал приступы ксенофобии, с неприязнью относился ко всякой примете интеллигентности и был убежден в том, что контакты философов (особенно молодых) с конкретными науками должны находиться под постоянным идеологическим досмотром. Где-то осенью 1954 г. подвыпивший А. Зиновьев бросил в лицо факультетскому Ученому Совету реплику, которая вскоре облетела страну: «На нашем факультете на голову студента уже с первого курса надевают презерватив, чтобы он, не дай бог, не заразился исследующим научным мышлением».
Рассказывая о послевоенной жизни философского факультета МГУ, сегодня уже просто нельзя не упомянуть дискуссию о предмете философии, затеянную Э. В. Ильенковым и В. И. Коровиковым. Вместе с тем, глубоко ошибется тот, кто поставит эту дискуссию в зачет, в заслугу факультету. Факультет как учреждение просто проглядел, проморгал дискуссию, а затем учинил пугливую срочную расправу над ее инициаторами и участниками.
Еще меньше оснований вменять в заслугу факультету распространение идей, родившихся и высказанных в ходе дискуссии. Идеи транслировались в формате слухов, вопреки факультетским предохранительным мерам, нескоро, полуподпольно, а в наиболее сохранном виде – вместе с выпускниками факультета, по распределению прибывавшими в разные места. Какое-то признание и понимание они получили лишь к концу 1950-х годов, – лишь после ХХ съезда партии, вызвавшего известное оживление и демократизацию научных и образовательных учреждений, политпросвещения и издательских редакций.
На Моховой, 11 (таков тогдашний адрес философского факультета МГУ) проект философского обновления всего лишь чудесным образом родился. Он походил на островок витаминозного салата, который образовался вдруг в сыром погребе, в соседстве с плесенью; образовался, но не мог не погибнуть в столь гиблом месте. Теплицами же, где проект выжил и начал осуществляться, стали, например, Институт психологии при Министерстве образования, новая редакция «Философской энциклопедии», философский факультет Ростовского университета, а где-то с начала 60-х – редакция международного журнала «Проблемы мира и социализма», размещавшаяся в Праге[6]6
О роли московского «философского шестидесятничества» в формировании мировоззренческого климата этой редакции не так давно рассказал А. С. Ципко в одном из выпусков передачи «Тем временем» (телеканал «Культура»).
[Закрыть].
Но главная делянка, защищенная от весенних заморозков, разумеется, находилась на Волхонке, 14, – в здании, где помещался Институт философии АН СССР и редакция его печатного органа, журнала «Вопросы философии».
В конце пятидесятых журналу были отведены две комнаты пятого этажа. У работников редакции и сотрудников Института был один лифт, одна столовая, одна курилка, одни присутственные дни, одни застолья и праздничные вечера. Вся повседневность была общей. Кроме того, партийная ячейка журнала входила в партийную организацию Института, последняя же несомненно была в ту пору одним из лидеров в робком, зарождающемся движении за внутрипартийную демократию и гласность, держа курс на омоложение Института.
Для «Вопросов философии» два года, последовавшие за ХХ съездом партии, оказались временем перехода с шестиномерной на двенадцатиномерную систему. Воспользовавшись этой перестройкой, тогдашний ответственный секретарь редакции М. И. Сидоров сделал все возможное, чтобы ввести в ее состав исследовательски зарекомендовавших себя аспирантов и выпускников философского факультета МГУ. В 1955–1965 гг. за редакторскими столами «Вопросов философии» оказались А. Л. Субботин, И. Т. Фролов, М. К. Мамардашвили, И. В. Блауберг, Н. И. Лапин, Н. Б. Биккенин, Б. М. Пышков, И. Б. Новик, В. М. Садовский, А. П. Огурцов, – молодые люди, которые узнали и признали друг друга в ходе факультетской дискуссии о предмете философии[7]7
Сегодня все они хорошо известны российскому философскому сообществу; почти о каждом существует литература. В справке нуждаются, пожалуй, лишь Н. Б. Биккенин и Б. М. Пышков. Оба с середины 60-х гг. работали в аппарате ЦК; оба немало сделали для подготовки перестройки.
Н. Б. Биккенин (1931–2007) был последним редактором журнала «Коммунист», и именно ему (вместе с О. Р. Лацисом) довелось оповестить страну и мир о том, что Коммунистическая партия Советского Союза прекратила свое существование.
[Закрыть].
Мне (я был принят на редакторскую работу в 1957 г., сразу по окончании университета) никогда позже не приходилось пребывать в коллективе со столь высоким индексом талантливости, смекалки и сплоченности.
Более десятка аспирантов и выпускников МГУ пришли в ту пору и в сектора Института философии, сразу организовав вокруг себя его молодежное общественное мнение и образовав ядро наиболее увлеченных и творческих исследовательских групп. Дело выглядело так, как если бы группа интеллигентов, уже длительное время находившаяся на Моховой, 11 в положении затаенных «внутренних эмигрантов», переселилась на Волхонку, 14 как в новую, более свободную страну и стала обустраиваться здесь в качестве вполне легальной, граждански активной «иммигрантской диаспоры».
Разумеется, в старшем поколении тогдашних сотрудников Института не было недостатка в натасканных и агрессивных догматиках. Но при директорстве П. Н. Федосеева, в 1952 г. грубо униженного Сталиным[8]8
См. об этом: Корсаков С. Н. Во главе Института // Наш философский дом. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 292.
[Закрыть], они чувствовали себя крайне неуверенно и на настроения институтской молодежи смотрели сквозь пальцы.
А кто встречал новобранцев ИФ АН? Кто первым выплачивал им дань гостеприимства и высказывал напутствия доброго хозяина? – Да не кто иной, как Ильенков с Зиновьевым, вчерашние диссиденты факультетского кодекса правоверия, – две провинившиеся щуки, только что брошенные в реку желанных академических занятий.
Оба успешно работали, авторитет обоих укреплялся в Институте день ото дня. В 1962 г. Эвальд Васильевич положит на стол катехизис ильенковства – книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса»; в 1967 г. Александр Александрович опубликует свои «Основы логической теории научного знания».
Равняясь на своих признанных лидеров, разделяя политическую эйфорию на пике «оттепели», новобранцы с Моховой активно включаются в жизнь журнала и института. Партийная организация ИФ АН пополняется новыми членами, политически возбужденными, амбициозными и непугаными. («Ох, не били вас мордой об стол», – говорят им некоторые старики).
Однажды я спросил жену: «Какими вспоминаются тебе партийные собрания 60-х годов?» Жена (а это Е. А. Фролова, выпускница философского факультета МГУ, одна из старейших сотрудниц Института) по-молодому сверкнула глазами и заявила: «Как место, где можно и нужно спорить!».
И вот что, пожалуй, самое замечательное. Атмосфера открытого спора сохранилась в институтской парторганизации и тогда, когда начал набирать силу процесс ресталинизации. Не помню случая, чтобы в семидесятые годы кому-нибудь осмелились заткнуть рот или согнали с трибуны окриком «Демагогия!». Не помню, когда бы на собраниях прозвучало официальное оправдание Сталина или назидание на тему «распустили народ», или аплодисменты при почтительном упоминании имени вождя (в темных залах кинотеатров они раздавались повсеместно).
Я далек от какой-либо ностальгической привязанности к «годам застоя» (это уже давно разделяло меня с А. А. Зиновьевым). Идеологическая атмосфера в стране и в институтах Академии была тягостная, и я не согласился бы вернуться в нее даже ценой возвращения молодости. Вместе с тем, я хотел бы обратить внимание на то, как упорно Институт философии сопротивлялся установлению этой атмосферы.
Институтская партийная организация, по сути дела, саботировала компанию по осуждению «антинародного искусства», которая повсеместно развернулась в 1962–1963 годах, после знаменитого посещения Н. С. Хрущевым выставки в Манеже. Примерно в то же время Институт – несмотря на настойчивые приглашения – отказался от участия в идейных (горкомовских) расправах над философским факультетом Ленинградского университета. В 1966 году в партгруппе «Вопросов философии», а затем – на партийном бюро Института, рассматривалось скандальное персональное дело академика Митина (тогдашнего главного редактора журнала). Академику был вынесен строгий выговор за плагиат статьи философа Я. Стена, арестованного в 1936 году (взыскание, которое повергло в панику Ленинский райком партии и, разумеется, не было им утверждено).
В августе 1968 года партбюро умудрилось не провести партийного собрания в поддержку введения советских войск в Чехословакию.
В тягостном 1974 году до Института докатилась идеологическая чистка, которую учинил в Академии наук некто Ягодкин, тогдашний секретарь Московского горкома по идеологии. Люди Ягодкина возглавили Дирекцию и партбюро, было распущено самое талантливое и работоспособное подразделение Института, сектор исторического материализма, собранный В. Ж. Келле[9]9
Вот перечень явно незаурядных людей, долго ли, коротко ли подвизавшихся в секторе Келле в годы моего пребывания в нем (1970–1975): Ю. М. Бородай, М. М. Виткин, А. В. Гулыга, Ю. А. Левада, В. М. Межуев, Н. В. Мотрошилова, Н. В. Новиков, Е. Г. Плимак, И. Н. Сиземская, В. И. Толстых. (Курсивом выделены выпускники философского факультета МГУ. – Э. С.).
[Закрыть].
Но в течение пары месяцев тогдашний директор-победитель Б. С. Украинцев подвергался уничижительной критике со стороны сотрудника сектора истмата Н. С. Злобина. И нельзя было согнать охальника с кафедры: собрание не давало. Хотя все уже понимали – не в надежде на торжество правды выступает Наль Степанович, а просто по формуле: «делай что должно, и будь что будет». И вот парадокс для теории ожиданий: безнадежно мужественная акция Н. С. Злобина спустя полгода уже выглядела как вполне успешная: скинули Ягодкина с поста горкомовского секретаря. Институт переживал это как свидетельство необратимых перемен, начавшихся на переломе 50–60-х годов. Переживал в ту мрачную пору, когда уже значительная часть интеллигенции (ленинградской, московской, свердловской) сказала себе: с этой властью и этим обществом никакого дела иметь нельзя.
* * *
Важной компонентой этой идейной стойкости были понятия, установки, полемические символы, которые родились в ходе философского обновления конца пятидесятых – начала шестидесятых годов и целеустремленно прорабатывались Э. В. Ильенковым в публикациях 1964–1968 гг. (едва ли не каждая из них делалась в Институте философии предметом живого обсуждения).
Уже в факультетской дискуссии о предмете философии за столкновениями спорящих кафедральных партий и кружков проступила оппозиция предельного исторического масштаба. Я имею в виду оппозицию философии, как она понималась и культивировалась веками, и наличной псевдофилософии, эрзац-философии, представленной партийно-просветительским «официозом диаматистмата»[10]10
Выражение, найденное Львом Науменко в очерке «Эвальд Ильенков: портрет в интерьере времени» (Науменко Л. К., 2004).
[Закрыть].
В удивительном очерке «Маркс и западный мир», готовившемся в 1965 г. для зачтения на международном философском конгрессе во Франкфурте, но опубликованном лишь в постсоветское время, Э. В. Ильенков отваживается на следующую констатацию, в общем-то элементарную, но невозможную в отечественных подцензурных изданиях: в СССР «марксизм впервые утвердился в качестве официально узаконенной идеологии»[11]11
Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Изд. политич. литературы. 1991. С. 157.
[Закрыть].
Хронической болезнью этой идеологии сделался догматизм, в котором, по мнению Эвальда Васильевича, сказывалась и сказывается неизжитость «еще добуржуазных, докапиталистических форм регламентации жизни, имевших в России силу традиции»[12]12
Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Изд. политич. литературы. 1991. С. 158.
[Закрыть]. Философы-догматики подбирают и выдумывают понятия, которые позволяют, подобно цементному раствору, скреплять различные «составные части» идеологически выстроенного марксизма.
Я не помню другого человека, который бы в 60–70-е годы относился к «официозу диамат-истмата» с такой же неприязнью, обеспокоенностью и методичным презрением, как Эвальд Васильевич. Наименования «диаматчик», положенного ему по месту работы (по названию институтского сектора) он не переносил; в известной беседе с М. А. Лифшицем просил понять, что «исповедует вовсе не истмат, а материалистическое понимание истории». В очерке «Философия и молодость» наводил читателя на мысль, что сегодняшние «начетчики от философии» – это наконец-то найденное наглядное пособие к стародавнему народному понятию «ученый дурак».
Психо-идеологический склад «ученой глупости» – это «ханжеская лживость внушаемых правил»[13]13
Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968. С. 52.
[Закрыть]. При Сталине она была наглой; после ХХ съезда партии стала приспособленчески верткой. В лексиконе ильенковцев выражению «догматик» сопутствовало другое, облюбованное Эвальдом, а именно – «прохиндей»[14]14
Словари растолковывают «прохиндей» как «мошенник», «обманщик», «ловкач» и (уж извините) «хитрожопый». Возможно также: «про-ходимец», «про-идоха», «про-ныра», «про-хвост», «про-щелыга».
[Закрыть]. Оно стало одним из паролей московского философского обновления. К середине 60-х словечком «прохиндей» перемигивалось все молодое поколение философов от Ленинграда до Ростова и Алма-Аты. На прохиндейство мы проверяли весь советский философский цех в качестве цеха «идеологических работников».
Прохиндей, разъяснял Эвальд, был бы рад видеть вокруг себя умственно косных людей и именно их стремится воспитывать и размножать. Эта губительная тенденция все более заметна в практике философского образования.
Удивительно интересна уже упомянутая мною статья «Философия и молодость», написанная Э. В. Ильенковым в середине шестидесятых годов. Заголовок и зачин статьи располагали ожидать, что ее автор будет проповедовать возможно более раннее увлечение философскими занятиями. На деле основная интенция статьи – это критическое предостережение. Ильенков видит коварную двусмысленность самого выражения «занятие философией». Он готовит молодого читателя к осмотрительному различению действительной философии и ее расхожих подобий, а затем с предельной прямотой говорит ему: «Надо знать, что ты глотаешь, чтобы потом крепко не пожалеть». Надо быть готовым к тому, что философия и философский ширпотреб окажутся похожими друг на друга «как шампиньон и бледная поганка»[15]15
Ильенков Э. В. Философия и культура. С. 28.
[Закрыть].
Каковы приметы опасных подобий философии, претендующих на овладение юными умами? – Ильенков обозначает по крайней мере две из них.
Первая – это культивирование благих упований, которого подлинная философия никогда себе не позволяет. В царстве официозного диамат-истмата молодой человек, который решил заняться философией, раньше всего встретит «бездумный оптимизм». Эвальд Васильевич находит для него разъяснение, поразительное по простоте и точности: «оптимизм до первой беды»[16]16
Ильенков Э. В. Философия и культура. С. 19.
[Закрыть]. Напомню, что формула эта предъявлена вскоре после оглашения новой программы КПСС, погружавшей всю советскую идеологию в атмосферу беспросветно благостных обещаний.
Другая стойкая примета расхожих подобий философии – это позиция и стиль ментора, вкладывающего в головы людей готовое и расфасованное знание. Критика менторства проходит сквозь все наследие Э. В. Ильенкова, и, пожалуй, никто другой в отечественной философии ХХ века не проводит ее с такой же страстью и таким же упорством. Десятки фрагментов ильенковского текста смотрятся как экспликации (порой совершенно неожиданные) замечательной метафоры Плутарха: учитель должен не просто влить свои знания в ученика, как воду в сосуд; он должен своим факелом зажечь в ученике его собственный огонь.
Философия как идеология тяготеет к тому, чтобы найти и взрастить среди людей «чистых репродуктивов»[17]17
Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 22.
[Закрыть]. «Традиционная философия в лице лучших своих представителей» (таково ключевое понятие Ильенкова) ищет и взращивает в людях автономию мышления, – «“силу суждения”, как назвал когда-то эту способность Кант»[18]18
Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 21.
[Закрыть]. Ильенков видит здесь основную дефиницию ума. «Ум, – заявляет он, – резонно определить как способность суждения»[19]19
Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 25.
[Закрыть].
Меня удивляет и печалит то обстоятельство, что Эвальд, судя по всему, не был знаком со статьей Канта «Ответ на вопрос: “Что такое просвещение”?». Ни в одном из его сочинений я не встретил ссылки на эту выдающуюся журнальную публикацию 1792 г., породившую десятки интереснейших откликов и по сей день пребывающую в поле актуальной полемики. Вместе с тем Ильенков как бы рвется навстречу кантовскому тексту, как бы пытается разъяснить его и развить.
В своем манифесте «истинного просвещения» Кант, если помните, ставил всю практику обучения мышлению под известный древнеримский девиз «Sapere aude!» («Имей мужество мыслить сам!»); он предполагал в слушателе и читателе совершеннолетнего реципиента (отстаивал в обучении «презумпцию совершеннолетия», если говорить философско-правовым языком); он утверждал просвещение в противовес просветительству в узком смысле слова, то есть прописям и авторитарному назиданию. Их исходный смысл помечен у Канта жестко акцентированным глаголом «leiten» («руководить»)[20]20
См. Мотрошилова Н. В. История философии: статьи, их роль в науке и в публичном пространстве // История философии в формате статьи / Сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая. – М.: Культурная революция, 2016. С. 40–48.
[Закрыть].
В очерке «Философия и молодость» (и еще в двух-трех публикациях, близких ему по времени и по теме) Ильенков проигрывает эти кантовские мотивы. «Ум, – заявляет он, – это умение, которое каждый человек может и должен воспитывать в себе сам и которое даром не дается»[21]21
Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 21.
[Закрыть].
Обращаясь к богатому потенциалу русского языка, Эвальд Васильевич предъявляет констатацию, которая наверняка радостно поразила бы Канта: «В русском языке “ум” одного корня со словами “умение”, “умелец”»[22]22
Ильенков Э. В. Указ. соч. С. 21.
[Закрыть].
«Умение» в понимании Ильенкова – это личностно неповторимый и лишь через личность формируемый задаток. В полном развитии – трудами наработанный талант.
«Ум» – не что иное, как всеобщность умения, способность к самочинности суждения и действия, которую общество должно равным образом предполагать в каждом и без которой талант не развивается ни в ком.
Этот комплекс понятий более всего отвечал проблематике образования и именно работникам образования прежде всего адресовался. С середины 60-х годов Эвальд Васильевич облюбовал тему обучения и иногда называл свои философские поиски «философией педагогики» или даже «социальной педагогикой». Но то, что он говорил, задавало новые ориентиры к размышлению о творческих коллективах, о наилучшей организации живых ячеек научного сообщества. Борьба с менторством, тема «воспитания самих воспитателей», идея упреждающего доверия к умению и таланту – всё это (пусть под другими терминами) страстно дебатировалось тогда в институтах Академии наук.
В пору работы на философском факультете Эвальд Васильевич, как я упомянул, славился своими незаурядными учебными семинарами. Вот выразительная и, я думаю, весьма точная характеристика Ильенкова как преподавателя: он «говорил так, словно впервые, здесь, на кафедре задумался над проблемой», и мыслители прошлого, о которых он рассказывал, «были никак не объектами, а именно субъектами и занимались они одним делом, советуясь, споря, помогая и поправляя друг друга»[23]23
Науменко Л. К. Указ. соч. С. 61.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































