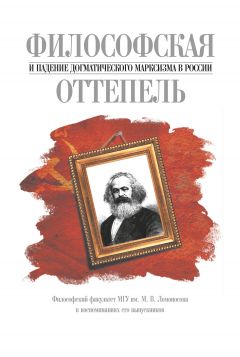
Автор книги: Вячеслав Шестаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я не исключаю того, что, выдворив преподавателя Ильенкова, руководство факультета, если говорить о будущем, лишило Московский университет одного из самых выдающихся мыслителей-педагогов.
Я также глубоко сожалею о том, что в семидесятые годы сам Эвальд Васильевич не попытался выступить в Москве (или в Новосибирске, куда его приглашали) с комплексом свободных лекций о философии. Не могу не отметить, что эта инициатива блестяще удалась Мерабу Мамардашвили, соратнику и сопернику Эвальда Ильенкова по теме «Гегель и Маркс» (на момент факультетской дискуссии о предмете философии – аспиранту кафедры ИЗФ).
Вместе с тем совершено неверно, будто по части воспитания философов Э. Ильенков оказался человеком несостоявшимся. Десятки молодых сотрудников ИФ АН нашли в нем учителя, который помог им
– отнестись к старшему поколению с достоинством совершеннолетних,
– не поддаться эйфории завышенных ожиданий,
– стоически отстаивать свою непризнанную позицию, если она не опровергнута теоретически,
– встречать рутину, штамп и переменчивую идеологическую моду уверенной (а если потребуется, то и беспощадной) философской иронией.
Без Э. Ильенкова (и, конечно же, надо добавить – без А. Зиновьева, Ю. Левады, В. Лекторского, Н. Юлиной, Е. Плимака) Институт в шестидесятые годы не знал бы настоящих дискуссий и ничего не добился в борьбе за внутрипартийную демократию и формирование атмосферы гражданского общества.
В России не было, да еще и сегодня нет гражданского общества. И все-таки в шестидесятые годы Институт философии имел приметы его элементарной ячейки.
Любопытной институцией были защиты кандидатских и докторских диссертаций. В Академии наук достаточно строго соблюдался их старый (еще дореволюционный) либеральный формат. Выступать мог каждый. В 1963 году общественность Института использовала эту возможность на защите докторской диссертации эстетиком В. А. Разумным, имевшим высокую идеологическую поддержку. Обсуждение длилось 9 часов! Запомнились отважные и умелые выступления молодого тогда эстетика В. Тасалова и молодого психолога В. Давыдова.
Завалить Разумного не удалось. Однако тексты, прозвучавшие с трибуны, подготовили почву для журнальной критики. Ядовитый памфлет появился в журнале «Вопросы литературы», а затем «Новый мир» опубликовал один из шедевров философской публицистики шестидесятых – статью М. Лифшица «В мире эстетики». Разумный предстал в статье как эклектичный эстетик-прохвост, который в новых условиях закономерно и бойко заместил эстетика-доктринера. Рассуждения Разумного Лифшиц сравнивает с базарными гуттаперчевыми рожицами, которые, потяни их вдоль, примут выражение унылое, а потяни поперек, сделаются веселыми и радостными, как колхозники в «Кубанских казаках». «Не читайте Разумного, – заключает Михаил Александрович. – Я прочел его за вас».
Здесь, когда дело дошло до жесткой философской иронии, нельзя не вспомнить еще об одной форме публичной активности, сообщавшей ИФ АН достоинство института гражданского общества. Я имею в виду институтскую стенную печать.
* * *
Стенгазета «Советский философ» уже достаточно почтена в мемориальной литературе. Лучшей из кратких ее характеристик я считаю следующую реплику А. В. Гулыги: «В 1960-е годы наша стенная газета пользовалась большой известностью. Это был подлинный рупор общественного мнения не только Института. Там сотрудничали специалисты высокого класса. Нашу стенную газету приходили читать сотрудники из других академических институтов, студенты и преподаватели философского факультета. Ее знали и за пределами страны. По словам польского профессора Адама Шаффа, это был “лучший философский орган социалистического лагеря”. В стенной газете было впервые сказано, что автором философского раздела “Краткого курса истории ВКП(б)” был не Сталин, а Я. Стэн. В 1964 году стенгазета опубликовала образчик постыдной печатной продукции, которую в то время уже прятали от глаз, как чертову свитку, – разносную рецензию Митина на книгу уважаемого всеми В. Ф. Асмуса “Маркс и буржуазный историзм” (“Правда” в 1930 годы), где Асмус был назван пустозвоном и антимарксистом»[24]24
Гулыга А. В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке. СПб., 2000. С. 399.
[Закрыть].
Поговорю о том, к чему я прямо был причастен, – о работе стенгазетной команды по сатире и юмору. Ее вожаками были художники-карикатуристы: А. Зиновьев, Э. Ильенков, Б. Драгун, Е. Никитин, чье мастерство, право же, было не меньшим, чем мастерство Кукрыниксов.
Немногие знают, что по части гротеска и шаржа стенгазета «Советский философ» наследовала стенгазете «За ленинский стиль», вывешивавшейся в коридоре философского факультета МГУ. И Ильенков, и Зиновьев, и Никитин принимали участие в ее сатирических затеях, пусть нечастых и робких. Впечатляющим событием стала карикатура А. Зиновьева, появившаяся на ватмане газеты «За ленинский стиль» как раз в дни факультетской дискуссии о предмете философии. Александр Александрович представил читателям убийственно похожего Эвальда Васильевича, который темной ночью раскапывает могилу Гегеля. Для несведущих это был просто озорной дружеский шарж. Для тех же, кто знал о подоплеке жестоких идейных передряг, разыгравшихся в конце сороковых годов, Эвальд в изображении Сашки был иронически поданным героем: он выкапывал Гегеля, которого Сталин, Жданов и их убогий факультетский подсказчик, З. Белецкий, попытались было захоронить и завалить могильной плитой с надписью «феодально-аристократическая реакция на Французскую революцию».
Карикатура провоцировала и другие уже назревшие полемические суждения.
Помню один из разговоров, состоявшихся по данному поводу (правда, уже не в 1954 году, а много позже).
– Это ведь очень метко, это самая суть того, что хотел и хочет Ильенков! – вспомнил кто-то.
– Было бы точнее, если бы Ильенков на картинке раскапывал могилу Маркса, – возразил Юрий Корякин.
– Могилу молодого Маркса, – поправил его Борис Грушин с полной серьезностью.
В институтскую газету «Советский философ» меня пригласили за прежние крамольные заслуги.
Студентом-пятикурсником я сочинял и режиссировал «капустник» философского факультета МГУ. Он был хорошо известен (воспоминания проникли даже в художественную прозу конца 1970-х годов). Зуд «капустника» донимал меня и в дальнейшем.
В октябре 1960 года, уже будучи сотрудником «Вопросов философии», я угодил на военные сборы в Улан-Удэ (был переквалифицирован из пехотинцев в ракетчики). Прошла пара недель после моего возвращения в Москву, и на Волхонку, 14 поступил сигнал, подписанный генерал-полковником, начальником политуправления Забайкальского военного округа: «При прохождении лагерных сборов младший лейтенант Соловьев сочинял куплеты и частушки, порочащие жизнь и быт офицеров Советской армии».
Я был еще комсомольцем, но мой проступок разбирался на собрании партийной организации журнала. В обсуждении участвовали неправдоподобно молодые Н. Биккенин, И. Блауберг, Н. Лапин, М. Мамардашвили. Было уютно. Говорили о том, что слова иронически представленного персонажа никак нельзя вменять автору, который его сочинил (Скалозуб – не Грибоедов, Чичиков – не Гоголь, Клим Самгин – не Максим Горький). Мераб Мамардашвили произнес блистательную назидательную речь на тему «Быть, а не казаться». Стыдясь, я нежился под крышей интеллигентной партийности, так решительно отличавшейся от партийности военно-окружной. И поеживался, вспоминая, как на двое суток («до выяснения обстоятельств») был задержан там, – в местах не столь отдаленных от Магадана.
Меня красноречиво пожурили, но от взыскания оградили, порешив, что письмо генерал-полковника в комсомольскую организацию Института лучше вообще не передавать. После собрания на площадке у лифта меня обнял за плечи тогдашний главный редактор «Вопросов философии» А. Ф. Окулов, милейший малообразованный человек, подмигнул и шепотом спросил: «А что, признайся, песенки-то твои были веселые!»
Спустя пару дней на той же площадке ко мне обратился А. В. Гулыга и сказал, что редколлегия институтской стенной газеты была бы рада видеть меня в своих рядах.
Газета делалась в помещении месткома. Там мы запирались и хулиганили. Время от времени в дверь заглядывал кто-то из сотрудников и скороговоркой высказывал поощрение. Пахло акварелью. Я метался из угла в угол в поисках рифм. Лучшие девушки Института приносили из столовой пирожки, и одна из них с большой надеждой смотрела на Александра Зиновьева, который пририсовывал хвост кому-то из философских чиновников.
Хорошо помню мой поэтический дебют.
Институт готовился отметить праздник 8 марта. Как раз в этот момент случилось событие, возмутившее всех. Член-корр. И. Т. Иовчук грубо, по-хамски отчитал свою секретаршу Полину П., которая не по форме, частным письмом сообщила ему об обязанности прочесть публичную лекцию. Редколлегия попросила меня написать об этом фельетонно острое стихотворение. При этом было крайне желательно, чтобы ни фамилии, ни звания, ни должности ни в коем случае не упоминались, но чтобы сам Иовчук без труда распознавался сразу и всеми. «Не бойся наивностей. – наставлял Эвальд. – Напиши стишок для детей. Считалку о прохиндее».
Вот как были решены поставленные передо мной задачи:
Растопчук и Проглочук
Горько плакала Полина,
Жертва спеси,
жертва сплина,
Из-за этого весьма
Злополучного письма.
Так старалась:
в каждой строчке
Всё продумала до точки,
Изложив по чести честь
Просьбу лекцию прочесть.
Мы ещё не знаем сами,
В чём была её вина:
То ли почерк плох местами,
То ль духами
на бумагу не побрызгала она.
Только вдруг в конце недели
В окнах стёкла зазвенели
(В дверь ядром ударил зад),
И явился адресат.
Как с порога зарычит на неё,
Как ногами застучит на неё!
«Вы, – кричит он, – не артистка,
Вам поболе тридцати,
Чтоб со мною переписку
Персональную вести.
За повторную попытку:
Бандероль или открытку, –
Я вас тотчас привлеку!
Куд-кудах-ку-ка-реку!»
«Я на то и Наскочук, – говорит.
Растопчук и Проглочук, – говорит.
У меня в квартире газ.
Это раз.
В ста учебниках – глава.
Это два…
А в-четвёртых, – спецпакетом
Для просмотра, для совета
Шлют мне множество статей,
Ибо я по всем предметам
Всех умней и всех правей…»
Вот что вынесла Полина
От раздутого павлина
Из-за этого весьма
Злополучного письма.
В 1963 г. вышел в свет первый том новой «Истории философии», готовившейся под началом Иовчука. Убогим до фарса предстал в нем Сократ – «идеолог афинской аристократии». Эвальд Ильенков принес в редакцию стенгазеты такой стишок:
Гоп со смыком, это буду я,
Верховод афинского жулья.
Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
И цикута плачет за меня.
– Вот, – сказал Эвальд. – Может, добавишь пару строф, чтобы получился законченный прощелыга.
Сочинилось и добавилось четыре строфы:
Я особо пакостный софист,
Потому что с детства неказист:
Уродился я курносый,
Глупый, лысый и гундосый,
Сразу видно, что идеалист.
Потирая старческую плешь,
Ловко охмуряю я невеж,
Истязаю в диалоге,
Вовлекая их в итоге
В аристократический мятеж.
Но не верьте, будто бы Сократ –
Попросту партийный бюрократ.
Ибо нету у Сократа
Никакого аппарата,
Только секретарь Алкивиад.
Выкормыш притонов и лачуг,[25]25
Эта поэтически некорректная (незарифмованная) строка запрашивала Иовчука в рифму.
[Закрыть]
Ни идей не чту я, ни людей.
Всё крою под конъюнктуру,
Мою подлую натуру
Понимает только… прохиндей.
Получилась озорная песенка, которая Эвальду полюбилась. Она исполнялась мною на двух институтских вечерах (концертный вариант – когда я выходил в сандалиях на босу ногу и в античной тоге), а также просто в дружеских компаниях. Получил одобрение А. Ф. Лосева.
Но самым значительным достижением институтского газетного юмора стоит, пожалуй, признать Митрофана Полупортянцева.
Митрофан Лукич Полупортянцев – лицо вымышленное. Маска номенклатурного советского философа, предвосхитившая маску номенклатурного советского писателя Е. Сазонова на шестнадцатой странице «Литературной газеты». Персонаж родился в 1966 г. Имя и идея исходили от Арсения Гулыги; лаконичный графический образ начертал Борис Драгун, а самопредставление Митрофана Лукича («Моя афтобеография») сочинялось Эвальдом Ильенковым и мною. В зависимости от того, в какие предлагаемые обстоятельства попадал Полупортянцев, он живо напоминал то одного, то другого руководителя тогдашнего философского фронта.
Если Газета славословила:
наш Лукич как загорится –
весь в работе Институт,
глядь и ахнет заграница,
глядь и премию дадут, –
то читатель без труда угадывал в Лукиче-энтузиасте М. Т. Иовчука, который забрасывал Комиссию по Государственным премиям томами новой «Истории философии», но все никак не делался лауреатом.
Если в пору проведения Международного социологического конгресса в Эвиане Газета сообщала:
Рано утром в Эвиан
Улетал аэроплан,
Как Бутырская ворами,
Был набит он докторами;
Но в Москве остался наш
Обобщенный персонаж,
Самый видный из загранцев
Митрофан Полупортянцев, –
то уж тут всякий мог понять, что речь идет о М. Б. Митине, которому французское посольство отказало вдруг во въездной визе.
В «Афтобеографию» Полупортянцева Эвальд Васильевич включил следующий список его печатных работ:
«1) «Империалиствующие империалисты» (8 стр., издание НИИБЕ – НИИМЕ, 2-е издание «Academia», 1938, 3-е издание «Наука» – подготовлено в 3-х томах).
2) Приказ об отчислении группы империалиствующих империалистов и примкнувшего к ним аспиранта (22 стр., изд. «Academia», 1938).
3) «Смертоубийцы в халатах» («Советская культура» от 2 февраля 1953 г., удостоена Государственной премии в 1953 г.).
4) «Вершина мировой философской мысли» (1950).
5) «Еще одна вершина мировой философской мысли» (1951).
6) «Эльбрус философской мысли» (1952).
7) «Памир (крыша мира) философской мысли» (рассыпана в 1954 г.). […]
8) «Кукуруза как вершина мировой философской мысли» (рассыпана в 1964 г.).
9) «Кукуруза как пример волюнтаризма и волюнтариствующего субъективизма» (ноябрь 1964).
К списку печатных работ был подсоединен еще и фрагмент анкеты:
«7. Незаконченное […]
17. Не состоял.
18. Не было етого.
19. Снято.
20. Опять женат»[26]26
Сохранилась фотография Э. В. Ильенкова, заснятого рядом с тем выпуском стенной газеты, в котором помещена «Афтобеография» Митрофана Полупортянцева. Есть также фотокопия самой «Афтобеографии», составленной из машинописного текста и текста, написанного моей рукой. И тот, и другой можно прочесть, воспользовавшись увеличительным стеклом (см. Наш философский дом. М: Прогресс-Традиция, 2009. С. 468–469).
[Закрыть].
«Афтобеографию» Митрофана Полупортянцева не причислишь к произведениям высокой сатиры. Перед нами, скорее, сатирическая «оплеуха наотмашь», которые институтская газета шестидесятых годов отвешивала нередко и которые сегодня едва ли могут служить примером для подражания. Вместе с тем, воспроизведенный мною текст – документ высокой ценности.
Перед нами ведь не что иное, как список печатных работ типового прохиндея позднего сталинского времени, вышедший из-под пера Ильенкова. «Афтобеография» Полупортянцева открывает «Прохиндиаду», над которой Эвальд Васильевич будет работать все 60-70-е годы, используя разные литературные жанры, разные поводы и контексты. Работа эта пока что не стала предметом специального внимания, хотя именно она, на мой взгляд, содержит самые выразительные свидетельства того, как набирала силу философская оттепель и как терял ее догматический марксизм, корчивший все новые и новые спесивые гримасы, то грозные, то жалкие.
В. М. Межуев. Факультет в середине 60-х годов XX века
Найденкин М. С.: Расскажите, как вы стали философом.
Межуев В. М.: Я поступил в МГУ на философский факультет в 1951 г. Курс был очень сильным: на нем учились Генрих Батищев, Неля Мотрошилова, Генрих Волков, Лев Науменко, Вадим Садовский, Ира Балакина, Александр Володин, Петр Алексеев и многие другие впоследствии известные философы. Сталин умер, когда мы учились на втором курсе. До того было «дело врачей», и уже на первом курсе я догадывался, что мы живем в ситуации, крайне опасной для любого из нас. Так что смерть Сталина, честно говоря, не стала для меня большой трагедией, я не рвался, как многие, в Колонный зал, чтобы посмотреть на мертвого вождя. И последовавшие вскоре после пышных похорон реабилитация врачей и арест Берии не показались мне слишком неожиданными. Уже тогда я смутно понимал, что многое делается у нас не так, как нужно, но до полного прозрения было, конечно, еще далеко.
До третьего курса я толком не знал, чем заняться, всё было неинтересно. Но на третьем курсе произошел прорыв: мы открыли для себя Эвальда Васильевича Ильенкова. Это было как откровение свыше, но только философское. Перед нами, как тогда казалось, наконец раскрылся истинный смысл и назначение философской деятельности, причем, что было важно, в границах самого марксизма. Никто из моих сверстников, равно как и более старшее поколение, не мыслил себя в то время вне марксизма. Даже те, кто занимался историей философии, видели в марксизме вершину философской мысли. Знание современной западной философии было практически на нуле, зарубежная литература, за редким исключением, находилась в спецхране и была нам недоступна. Ильенков положил начало так называемому движению гносеологов: он доказывал, что главным предметом философии является теория познания, логика – не формальная, а диалектическая, т. е. содержательная, соответствующая всеобщему порядку действительного мира. Он обосновывал свою позицию, опираясь на «Капитал» Маркса с его методом восхождения от абстрактного к конкретному. Впервые об этом методе мы узнали именно от него. Тогда многие молодые философы предшествующего нам поколения увлекались логикой «Капитала». С нее начинали Зиновьев, Мамардашвили, Грушин. Но только Ильенков стал нашим «властителем дум», что во многом объяснялось его умением четко и выразительно формулировать свою позицию. До Ильенкова философию определяли как науку об общих законах развития всего на свете. Было непонятно, как реально работать с такой формулой. Ильенков открыл нам, что подлинным призванием философа является методология науки, логика, гносеология.
В концепции Ильенкова по критериям того времени было одно слабое место: куда девать исторический материализм, считавшийся неотъемлемой частью философского образования? Не забывайте, только что умер Сталин. И вот я решил этот пробел восполнить. На четвертом курсе я написал статью, в которой доказывал (я и сейчас могу под этим подписаться), что материалистическое понимание истории никакого отношения к философии не имеет. Исторический материализм был создан Марксом с целью покончить с философией истории, перевести изучение истории в строго научное русло. Это примерно как теория Дарвина в биологии. Я показал статью Ильенкову, он ее одобрил, внес какие-то поправки, и я ее послал в журнал «Вопросы истории», откуда получил ответ за подписью главного редактора журнала, известного медиевиста академика Сказкина. В письме сообщалось, что статья понравилась, но по содержанию она больше подходит журналу «Коммунист» или «Вопросы философии». Я понял всю нереальность такого предложения и опубликовал статью в журнале НСО (научно-студенческого общества), выходившем на нашем факультете. В результате получил персональное дело по комсомольской линии с каким-то очень грозным политическим выговором. Не буду даже говорить, кто меня прорабатывал на комсомольском собрании. Я был практически на грани исключения, но хорошо учился и времена изменились: в горкоме комсомола выговор не утвердили, и меня послали перевоспитываться на лето в колхоз.
Н.: А кто был тогда деканом?
М.: В. С. Молодцов. Он меня за что-то невзлюбил. А свой диплом я писал под руководством Валентина Фердинандовича Асмуса. Тема диплома «Критика Гегелем формальной логики». Влияние Ильенкова очевидно. Рецензентом по диплому был Мамардашвили, тогда еще аспирант, оппонентом – Е. Ситковский, член редколлегии «Вопросов философии». Асмус – автор учебника по формальной логике и крупнейший кантовед, не любивший Гегеля, сказал на защите: за диплом надо поставить «отлично», но он просит, чтобы его не считали ответственным ни за одно слово, там написанное. Примерно в том же духе высказался и Мамардашвили, он был антигегельянец, о чем я тогда не знал. А Ситковский сказал мне: «Вадим, очень хороший диплом, делай статью для “Вопросов философии”». И я ее написал. Она называлась «Основные принципы гегелевской критики формальной логики» и была опубликована в 1957 г. в первом номере. Это моя первая публикация. «Вопросы философии» в то время был единственным философским журналом на всю страну, там публиковались всем известные имена, и мне завидовал весь курс. Статью перевели на три языка, она попала в список литературы, посвященной Гегелю, мне заплатили огромный по моим понятиям гонорар, на который я купил первый в своей жизни костюм. До того ходил в каких-то куртках. И вот с опубликованной статьей в центральном философском журнале меня почти семь лет не принимали в аспирантуру. Куда бы я ни поступал, как мне потом сказали, за мной следовала бумага за подписью В. С. Молодцова: «Не брать».
В 1962 г. я всё же поступил в аспирантуру Института философии, в только что открывшийся сектор культуры. Пришел уже учившийся там мой друг Р. В. Садов и сообщил мне: «Открылся новый сектор в Институте философии, тебя туда могут принять в аспирантуру, напиши только какой-нибудь автореферат». «Что за сектор?» – спрашиваю я. «Сектор культуры». «А это о чем?» «Какая разница, есть место, потом разберешься». И я согласился. В то время попасть в Институт философии даже в качестве аспиранта было мечтой любого философа. Академическая свобода! Я написал какую-то ерунду, и меня приняли. Завсектором был Александр Никифорович Маслин – отец М. А. Маслина, который ныне заведует кафедрой истории русской философии на философском факультете МГУ.
Он до того работал в ЦК КПСС. Его заместителем был А. И. Арнольдов. Тогда в институте работал и Ильенков, изгнанный из МГУ. Я был с ним уже хорошо знаком, бывал него в гостях в квартире на улице Горького. Конечно, мы приходили к нему, когда он нас приглашал. Он ко мне неплохо относился, хотя я не был ни гносеологом, ни логиком, и вся эта логистика меня, честно говоря, мало интересовала. Я всегда был, что называется, социально озабоченным, меня интересовала социально-историческая проблематика, которая в то время числилась по ведомству истмата. Разумеется, сам истмат мне был интересен не в том виде, в каком его нам преподавали. Если быть совсем точным, меня привлекала философско-историческая проблематика, из чего потом и выросла моя философия культуры.
Н.: А на факультете вы на какой кафедре были?
М.: Это не на факультете, а в Институте философии.
Н.: Это я понимаю. А на факультете вы по какой кафедре?
М.: Я писал диплом по кафедре истории философии. В институте короткое время директором был Павел Васильевич Копнин, он приехал с Украины, был очень хорошим человеком, известным философом, единомышленником Ильенкова. Он как-то меня встретил в коридоре института, мы о чем-то заговорили, и он мне сказал: «Вадим, ты так хорошо начинал как историк философии, а теперь какой-то культурой занялся». Я ему: «Павел Васильевич, лет через десять культура станет одной из самых популярных тем в философии». Он: «Нет такой проблемы в философии». Я: «Поверьте, есть».
В то время сектор приступил к написанию коллективной монографии «Коммунизм и культура». Я аспирант, и предложил себя в качестве автора первой главы «О понятии культуры», которая показалась мне наиболее теоретической. Поскольку Маслин знал о моем студенческом дипломе, опубликованном в «Вопросах философии», он согласился. В процессе работы над главой я опубликовал в «Вопросах философии» статью «Проблема культуры в домарксистской философии» (1964). Это моя вторая публикация. Между первой и второй прошло ровно семь лет. В нашей послевоенной философии я, кажется, был одним из первых, кто обратил внимание на культуру как сквозную тему всей новоевропейской философии. Когда меня приняли в аспирантуру, Эрих Соловьев, работавший тогда в «Вопросах философии», сказал мне: «Ну, Вадим, ты на семь лет отстал, уже не нагонишь». К тому времени многие мои сокурсники, действительно, успели защититься, что тогда было намного сложнее, чем сейчас. В институте я сдружился с Олегом Дробницким, окончившим университет на год позже меня. Слыхали о нем?
Н.: Расскажите.
М.: К моменту нашего знакомства и последующей дружбы он был уже известным в стране и за рубежом этиком, самым молодым из советских философов, защитивших докторскую диссертацию. О нем можно долго рассказывать. В сорок лет он трагически погиб – разбился на самолете, возвращаясь из Болгарии в Москву. Его книга «О понятии морали», вышедшая уже после его гибели, с моей точки зрения – лучшее, что было у нас написано на эту тему.
Н.: Он был из вашего сектора?
М.: Нет, он работал в секторе истории (или критики) зарубежной философии. А мы, как я говорил, готовили к изданию книгу «Коммунизм и культура». Кстати, хорошее название, многое объясняющее в том и другом. Работая над главой, я опирался, естественно, на идеи Ильенкова, отчасти Генриха Батищева, но тогда уже предложил в качестве базовой категории теории культуры вычитанное мной у Маркса понятие духовного производства. В советской философской литературе того времени никто этим понятием не пользовался, я был, пожалуй, первым, кто ввел его в философский оборот, хотя впоследствии отказался от его отождествления с культурой. Но приравнивание культуры к духовному производству прижилось в нашей литературе, было поддержано рядом философов, в частности, В. Ж. Келле и Н. С. Злобиным (особенно последним). Книга «Коммунизм и культура» вышла в 1967 г. и стала философским бестселлером. А. Н. Маслин, который вначале был мной недоволен, даже хотел отчислить из аспирантуры (он считал, что категории «деятельность» и «производство» применительно к культуре подменяют ее философский анализ экономическим) после успеха книги вдруг в корне изменил свое отношение ко мне и даже уговаривал остаться и продолжить работу в секторе.
Н.: А потом сепарировалась культурология?
М.: Да. Правда, она называлась не культурологией, а теорией культуры. Книга стала широко известна в философских кругах, и после ее выхода в разных городах страны начали образовываться философские центры по изучению проблем культуры. Помню, приехал из Свердловска Л. Н. Коган и сказал мне: «Я бы тебе за одну твою главу дал кандидата философских наук». А. И. Арнольдов через общество «Знание» издал ряд глав из этой книги, в том числе мою, в виде отдельных брошюр. Моя называлась «Что такое культура?». С книги «Коммунизм и культура», собственно, и начинается у нас разработка философской теории культуры. До того ни в одном учебнике по философии вы не найдете главы о культуре. Но книга, конечно, была советской, сами понимаете. Чуть позже были изданы учебники по теории культуры, а сама теория включена в число философских дисциплин и специальностей. Так что в разговоре с Копниным я оказался прав. Интерес к проблеме культуры в те годы вполне объясним: общество после ХХ съезда стало немного оттаивать и гуманизироваться, что повысило интерес к человеческой личности, а следовательно, и к культуре как главной среде ее обитания.
Н.: И у вас, начиная с 3 курса, сохранилась связь с Ильенковым и деятельностным подходом?
М.: Через это все прошли. Иное дело, что так называемый «деятельностный подход» не всеми понимался одинаково.
Н.: А чем объясняется такая волна? В чем суть этой вехи, с вашей точки зрения?
М.: Следует учитывать, как строилось философское образование до появления философов-шестидесятников. Оно базировалось на главе из «Краткого курса истории ВКП(б)» «О диалектическом и историческом материализме», авторство которой приписывалось Сталину. Мы заучивали четыре черты материализма, три закона диалектики, потом распространяли их на понимание истории. Когда после смерти Сталина впервые на русском языке были изданы ранние рукописи Маркса, всем стало ясно, что центральной категорией для Маркса является труд, или деятельность. О чем первый тезис Маркса о Фейербахе? О том, что действительность надо брать не в форме объекта, а как чувственно-практическую деятельность, т. е. субъективно. Мир не просто материален, а практичен, и следовательно, в самой практике надо искать ответ на вопрос о том, в чем состоит его материальность. Маркс называл свой материализм не диалектическим и даже не историческим, а практическим. Субстанцией для Маркса была не природа, не мертвая материя, а живая человеческая деятельность. Это и доказывал Ильенков, но применительно лишь к мышлению, к сознанию.
Объяснение мышления как деятельности постепенно вытесняло из философского оборота ленинскую теорию отражения, хотя сам Ильенков пытался как-то совместить эти две концепции. Именно здесь пролегал основной философский водораздел между периодами сталинизма и оттепели. Наиболее ярко он предстал в работах Э. В. Ильенкова. Тогда же вышли книга М. Б. Туровского «Труд и мышление», Ю. Н. Давыдова «Труд и свобода», работы Г. С. Батищева о деятельностной природе человека – своеобразный вариант марксистской философской антропологии. Через категорию деятельности стали анализировать искусство и мораль, эстетика и этика как бы обрели новое дыхание. Иное дело, что вокруг понятия деятельности завязалась острая дискуссия, чем-то напоминавшая ту, что шла в свое время в новоевропейской философии вокруг понятия разума. Концепция деятельности была положена нашими философами, в частности мной, и в основу определения культуры, хотя саму деятельность мы трактовали по-разному.
Н.: И в психологии в том числе?
М.: Да, возникла школа В. В. Давыдова – ученика Выготского и Леонтьева, близкого друга Ильенкова, появились другие крупные психологи, которые предприняли попытку создания деятельностной теории обучения и всего педагогического процесса. А в общем курсе философского образования появилась новая дисциплина – общая теория культуры. Ее, правда, называли марксистко-ленинской, но тогда всё так называли. Общей методологической установкой для этой теории служил всё тот же деятельностный подход, хотя, повторю, по-разному интерпретированный разными авторами. В своей книге «Идея культуры», вышедшей в 2007 г., я попытался рассказать о некоторых из этих интерпретаций. Но вот что важно. Именно приверженностью к деятельностному подходу объясняется, почему многие философы, критически настроенные по отношению к советской власти, сохраняли верность марксизму. Ведь данный подход, сменивший плоскую теорию отражения, был заимствован у Маркса, и, казалось, ему нет разумной философской альтернативы. До какого-то времени и я придерживался того же мнения, хотя несколько по-иному, чем другие, понимал саму деятельность. Но об этом чуть позже.
В 1977 г. вышла моя книга «Культура и история», которую перевели на несколько языков, включая немецкий, французский, испанский. В ней я попытался вписать культуру в историческую теорию Маркса. Но главное даже не в этом. Через призму культуры я хотел разобраться в самой этой теории, понять ее смысл. И здесь я несколько разошелся с Э. В. Ильенковым.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































