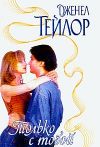Текст книги "Все мои женщины. Пробуждение"
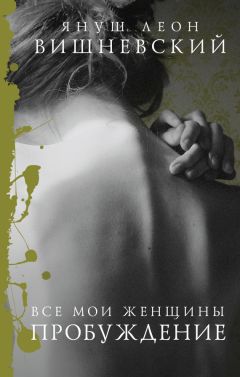
Автор книги: Януш Вишневский
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
А сегодня, лежа на каталке, из окна коридора больницы, даже адреса которой Он не знал, шесть месяцев спустя, Он смотрит на другой сад. Раннеосенний, потому что вид летних садов в этом году Он пропустил.
Зелень травы на клумбах была уже не такой сочной, вдоль каменных тропинок заросли вереска создавали широкий пурпурно-фиолетовый ковер, на скамейках под деревьями лежали одинокие желтые листья, на зеленом покрывале плюща, увивающего стену стоящего напротив здания, в некоторых местах пламенели темно-оранжевые пятна. Осень медленно, исподволь, незаметно окрашивала все вокруг в свои цвета, сообщая о своем наступлении.
Не сводя глаз с этого великолепия, одурманенный свежестью воздуха, которым дышал, Он представлял себе, как на собственных ногах дойдет когда-нибудь до одной из этих скамеек и сядет на нее, закурив сигарету.
– Ты когда-нибудь видела, как цветут магнолии? – спросил Он неожиданно, оборачиваясь к стоящей у Него за спиной Лоренции.
И услышал громкий смех, чувствуя, как дрожит каталка, сотрясаемая животом смеющейся Лоренции.
– Ну ты что, Полонез? Ты о чем спрашиваешь старую Лоренцию? Как цветут магнолии – видел каждый, а кто не видел – тот пусть жалеет! – воскликнула она удивленно. – Во дворе моей школы, в Минделу, росли только магнолии, потому что там был когда-то сад, который принадлежал какому-то богачу, пока его не отняли после деколонизации. А наша Сезушка на своих концертах по весне втыкала в волосы цветы магнолии. И пела о них. И я тоже втыкала – для красоты. Когда мы с моим бывшим венчались, у меня на голове под фатой были вплетены в волосы магнолии. А он, мой бывший, чтобы соответствовать, вставил цветок магнолии себе в нагрудный карман. Не то чтобы он сам сообразил так сделать – это его мать, женщина уважаемая и чуткая, ему посоветовала. Он-то сам по себе о магнолиях и не слышал никогда. Цветы не любил и мне в жизни цветов не дарил. Может, и на похороны мои без цветов припрется…
– Уже тогда я могла бы догадаться, какого беру в мужья недоделка, – добавила она после паузы.
– А с чего ты вдруг осенью спрашиваешь про магнолии-то? В нашем саду у больницы ты их не увидишь. Не посадили их. А я магнолии, Полонез, очень люблю. У меня с ними связаны хорошие воспоминания.
– И у меня… – отозвался Он.
На лифте они спустились на первый этаж. В полутемной комнате без окон, разделенной зеленой стеклянной стеной на две половины, Ему пустили по вене контрастную жидкость, а через несколько минут сунули Его голову в широкое отверстие чего-то, напоминающего лежащую на земле огромную воронку. Он лежал в полной темноте и слушал самые разные звуки – от воя пожарной сирены до стука молотков по металлу. Когда Его наконец вытащили из этой воронки, Маккорник сидел в другой половине комнаты и сосредоточенно всматривался в экраны нескольких мониторов, стоящих рядом на поверхности огромного стола. Через несколько минут, улыбаясь, Маккорник прижал к стеклу вырванный из принтера листок бумаги с картинкой, которая напомнила Ему почти не читаемую цветную карту из школьного атласа. На этой карте Его обведенный тонкой линией черепа мозг был похож на внутренности разломанного надвое грецкого ореха. Стена, разделяющая комнату пополам, была такой толстой и прочной, что Он совершенно не слышал того, что говорил Ему Маккорник, но Он видел его обрадованное лицо и понимал однозначную жестикуляцию. В какой-то момент Маккорник несколько раз постучал пальцем по своим часам на запястье, а потом нарисовал круг в воздухе.
За дверями зала, из которого Его вывез неразговорчивый, угрюмый ассистент Маккорника, находилась небольшая приемная с несколькими креслами и невысокой лавочкой, на которой в беспорядке лежали газеты и цветные журналы. Лоренция, повернувшись спиной к Нему, стояла у инвалидной коляски, на которой сидел мускулистый молодой мужчина. Его ампутированные ноги в зашитых на концах пижамных штанах совсем чуть-чуть выходили за пределы сиденья коляски. Пижамная куртка у него была задрана вверх, и улыбающаяся Лоренция массировала ему шею, спину и плечи, что-то без остановки приговаривая по-португальски и вставляя то там, то здесь свое «ноу стресс». Мужчина молчал и только иногда закрывал глаза и поднимал руку, чтобы нежно коснуться или погладить ладонь Лоренции. Наконец она похлопала мужчину по плечу, опустила верх его пижамы, поцеловала его в лоб и, повернувшись, произнесла:
– Ну, а мы, Полонез, поехали на шестой этаж. Нелегко тебе сегодня придется. Отдохнешь теперь только вечером. Лоренция уже туда позвонила, они там тебя ждут с пилоткой. Такой беленькой, с серебряными штучками наверху. Они тебе ее на голову наденут, подключат тебя к проводам через эти штучки и будут искать волны в твоем мозгу.
Тебе там понравится, Полонез, потому что они там очень интересуются головами и немножко похоже на какой-нибудь университет…
…Толкая Его каталку по длинному узкому коридору, она говорила:
– Так я обрадовалась, когда там в приемной резонанса увидела Антонио. Я ж его три недели не видела. Или даже дольше. Да чего я вру?! Последний раз еще летом это было! Антонио родился в Лиссабоне, хотел стать инженером. Ему его отчим в Амстердаме нашел курс в Политехническом и все оплатил. И дорогу, и крышу над головой, и за книжки, и за автобусы. Даже компьютер ему купил. Хороший человек у него отчим. Лоренция с ним часто об Антонио говорила. Парень-то через год влюбился в красивую девушку. А она в него еще сильнее влюбилась. Ее звали Гюльсерен. И жила она в многоэтажке в Коленките[23]23
Район Амстердама в западной части города. В Коленките в основном проживают иностранцы (до 80–85 %). Там самый высокий процент безработных в Нидерландах и высокий уровень преступности.
[Закрыть]. А там нормальным людям ходить-то опасно. Особенно темными вечерами и ночами. В двухкомнатной квартире они жили. Она, мать ее больная, отец и двое братьев. Она родилась уже в Амстердаме, тут и в школу ходила. Нормальная девушка, как все. Родители ее приехали из Турции и открыли тут овощной магазин, в Коленките. Она им там иногда помогала, и там ее Антонио и встретил первый раз, когда покупал клубнику. Гюльсерен не хотела уже жить как ее мать, ее двоюродные сестры, тетки, а главное – не хотела жить так, как указывали ей ее отец и братья. И когда ее любовь к Антонио стала очевидной и она не захотела от нее отказаться – отец приказал братьям наказать сестру. И защитить честь всей семьи, потому что Гюльсерен ведь покрыла позором всю семью. И тех, кто здесь, в Коленките, и тех, кто в Турции остался. И своим поведением, и своим упрямством она опорочила имя пророка Магомета. И вот однажды на автобусной остановке, среди белого дня, зимой это было, братья облили Гюльсерен кислотой. В лицо ей плеснули. И ее лицо превратилось в один огромный страшный шрам. И зрение она потеряла. Отец, так мне рассказывал отчим Антонио, им за это подарил в благодарность золотые часы. Через несколько месяецв после этого девочка в больнице открыла окно и выбросилась на бетонный тротуар. А еще через два месяца Антонио решил сделать то же самое. И сделал – но выжил, потому что пьян был в стельку. Хотя ноги и возможность ходить, как ты сам видел, потерял.
– Я ему иногда хожу делать массаж. И мы с ним по-португальски разговариваем, – вздохнула она.
– Он постепенно приходит в себя. В последнее время полюбил, когда ему приносят клубнику, поэтому я ему часто свежую на рынке покупаю. А раньше, когда я ему клубнику приносила, он плакал, как ребенок. А сейчас потихонечку приходит в себя. Это я уж по клубнике понимаю…
Кабинет на шестом этаже вовсе не был похож на место, связанное с больницей. Небольшая светлая комната с узкой, твердой кушеткой посередине, сбоку соединенный с кушеткой металлический, выкрашенный белым овальный стол, на котором стоял небольшой прямоугольный шкафчик, похожий на пульт телефонистки. Из расположенных рядами отверстий в дверцах шкафчика свисали длинные разноцветные провода. Шкафчик был соединен с плоским экраном, рядом с которым находился огромных размером принтер – типа тех, что используют архитекторы. За столом под стеной, на нескольких столиках стоял ряд стационарных компьютеров, подключенных к приборам, серые ящички со светящимимся разными цветами лампочками, большие и маленькие клавиатуры со странными значками, консоли, джойстики и принтеры. Он вдруг ощутил себя так, словно оказался в мастерской электроники, которую помнил еще со студенческих времен, только здесь она была больше похожа на лабораторию из научно-фантастического фильма. Он переместился с каталки на кушетку, Лоренция удобно устроилась в кожаном кресле, стоящем у окна, и сказала довольным голосом:
– Я же тебе говорила, Полонез. Ну что, нравится тебе здесь, да?
Молодая девушка в белом тесном халатике наклонилась к нему, демонстрируя в разрезе халата большую часть своей груди. На одной из них, прямо над самым соском, он заметил маленькую татуировку. И не сводил с нее глаз, пока она натягивала Ему на голову что-то похожее на резиновую шапочку для купания. Потом она к этой шапочке присоединила несколько цветных проводков и села за пульт. Он услышал шум работающего электроэнцефалографа. Через несколько минут девушка оторвала кусок бумаги, быстренько его подписала маркером и подошла с ним к Лоренции. Когда она снимала с Его головы шапочку, рядом с ней возник косоглазый, маленького роста мужчина в очках. Одет он был в черную застиранную футболку и потертые джинсы. Он представился по имени и фамилии и начал по-английски рассказывать о проекте, над которым работает совместно с клиникой. Лоренция поднялась с кресла, подошла к ним и, прервав мужчину, нетерпеливо произнесла:
– Вот вы не вовремя, мистер! Пациенту надо сначала поесть, мистер. Он ничего не ел с самого завтрака. И по больнице мы с ним гоняем на голодный желудок. А эти свои штучки вы можете и на завтра оставить. Человек же с голоду ослабнет – и что тогда будете делать с его мозговыми волнами?
Мужчина не сдавался и вежливо, но решительно и упрямо повторял свое. Этот упрямец напомнил Ему Его же в этом возрасте: тогда Он в принципе не умел отступать. И этот такой же. Точно такой же упертый.
– Мы, то есть моя фирма, работаем над нейрофидбеком, – сказал он, не обращая ни малейшего внимания на протесты Лоренции. – Вот уже несколько месяцев мы разрабатываем приложение для смартфонов. Мы хотим, чтобы вы могли узнать частоту своих мозговых волн в любую минуту. Дома на диване, на работе перед важной встречей, в постели перед сном. А не только в кабинете ЭЭГ. Если вы будете это знать, то сможете менять их частоту путем концентрации, релаксации или трансформации мысли. То есть вы просто будете понимать, когда надо это сделать. И в конце концов научитесь своими мозговыми волнами управлять. И после такого тренинга, даже уже не зная показателей, вы сможете перестать бояться, сможете уснуть или лучше сконцентрироваться, когда вам это будет нужно.
– Это займет пятнадцать минут, не больше. – Он умоляюще посмотрел на Него.
– Я вам надену на голову что-то вроде наушников с одним электродом и покажу, пока, правда, на планшете, а не на смартфоне, кривую ваших мозговых волн. И одновременно с этим на другом планшете буду показывать вам серию картинок, вызывающих у большинства людей либо страх, либо возбуждение, либо печаль. Если у вас возникнут страх, возбуждение или печаль – я вас попрошу изменить ход ваших мыслей. А сам буду регистрировать все изменения частоты ваших волн. Пожалуйста, это очень важно, смотрите попеременно на оба планшета. Сможете? – спросил он с надеждой.
Лоренция махнула рукой и решительно вернулась в свое кресло, бурча себе что-то недовольно под нос.
– Могу, конечно. Можете меня спокойно и сколько угодно пугать и волновать, – ответил Он с улыбкой.
Парень радостно хлопнул в ладоши и подал Ему пластиковый ободок, похожий на венок. В одном месте к нему был приделан заостренный электрод. Парень помог Ему закрепить ободок на голове, а электрод прижал под волосами к коже на затылке. В одну руку он сунул Ему планшет поменьше, а в другую – побольше. Затем повернулся к компьютеру и спросил:
– Вы гей?
Лоренция начала громко хохотать, ухватившись обеими руками за подлокотники своего кресла.
– Ну, на какой-то небольшой процент, как и каждый мужчина, я гомосексуален, но в целом – нет, – ответил Он, забавляясь. – Я гетеро. Но какое это имеет для вас значение? – поинтересовался Он с любопытством.
Вскоре стало понятно, что это имеет значение. Причем решающее. Очень скоро на экране меньшего планшета появилась то поднимающаяся, то опускающаяся линия, похожая на ту, которую рисует сейсмограф во время землетрясения. Почти в ту же самую минуту на экране большого планшета Он увидел изображение обнимающейся и целующейся парочки. На следующем фото женщина снимала через голову блузку, а потом появилось фото мужских пальцев, расстегивающих крючки лифчика, потом – женская рука, вытягивающая из расстегнутых штанов мужчины кончик кожаного ремня, потом – растрепанные волосы мужчины, голову которого сжимает своими бедрами жещина. Ни разу, совсем, ни единого разу Он не посмотрел на ту кривую землетрясения на маленьком планшете, Его не волновали сейчас рушащиеся, как карточные домики, здания. Его все это вообще сейчас не интересовало. Это не продуманный эксперимент, пронеслось у Него в голове. Разве кого-то волнует землетрясение в такие моменты? И мыслей о возбуждении Он тоже от себя не отгонял. Скорее – наоборот. Он думал о брошенном на пол машины лифчике Эвы, о своей голове, с силой сжатой ее бедрами, о ее вкусе на своих губах и языке и о своем кожаном ремне, которым Он связал ей руки. Это там, в той тесной машине, был нейрофидбек в самом что ни на есть чистом виде. Правда, к счастью, без всяких веночков вокруг Его головы…
Когда эксперимент закончился, парень осторожно отогнул электрод и снял пластиковый венок с Его головы. Поблагодарил Его, не комментируя результаты ни единым словом. Улыбающаяся веселая Лоренция вывозила Его каталку из небольшой лаборатории, Он вспомнил слова Маккорника: «Нельзя исключить, что теперь, когда вы пришли в сознание, у вас будет возникать неконтролируемая или, чего я вам от всего сердца желаю, контролируемая эрекция».
Они вернулись в палату. Лоренция вставила иглу в венфлон, опустила жалюзи и сняла с Его глаз очки. Поправила подушку под Его головой и подала Ему стакан с водой, после чего придвинула к кровати стойку с компьютером, включила какую-то тихую музыку и, сев около Него, стала тихонько напевать. Он почувствовал, как Его тело постепенно окутывает расслабленная нега. И вскоре уснул.
Когда Он открыл глаза, Лоренции не было. Он не шевелился. Дверь в палату была закрыта, на подоконнике горела лампа. Рядом с ней, с книжкой на коленях, сидел Маккорник. Он тихо высвободил руку из-под одеяла и потянулся к стакану с водой. Маккорник заметил тень на стене, слез с подоконника и подошел к Нему.
– У вас сегодня был насыщенный день, – сказал Маккорник, присаживаясь на стул. – Это очень хорошо. Ваш мозг нуждается сейчас в большом количестве впечатлений.
Он взял оранжевую папку, лежащую на стойке, и начал ее просматривать.
– Итак, МРТ у вас отличная, как я и думал. Завтра сделаем PET. Так, на всякий случай, для успокоения совести. Но я ничего другого не ожидаю. Лоренция принесла мне описание ЭЭГ – абсолютно нормальные графики. И амплитуда, и частота. Если бы ваше тело не отставало от мозга – вы бы уже завтра могли вернуться в Берлин. Причем не в клинику «Шарите», а сразу домой. Случай пробуждения вашего мозга – и тут наш главврач, доктор Эрик Энгстром, совершенно прав, – разумеется, нужно описать очень подробно, причем открыв доступ к нашей документации. В результате сегодняшних исследований у меня складывается удивительное впечатление, что этой полугодовой комы ваш мозг как бы просто не заметил. Он хорошо выспался, очнулся – и как ни в чем не бывало пошел себе дальше своей дорогой. Я работаю в этой клинике с такими пациентами, как вы, уже добрых десять лет, но такого случая у нас еще никогда не было.
– Кстати, о «Шарите», – добавил он. – То, что вы туда не захотели отправиться, очень расстрогало Эрика. Я его знаю слишком хорошо, чтобы это заметить. Когда вы высказали свое решительное «нет», Эрик немедленно схватился за свой бант на шее и начал его поправлять – а он так делает, когда сильно волнуется или нервничает. Он тогда сосредоточивается исключительно на этом действии и отключается от внешнего мира. Это такой защитный механизм, чтобы не показывать того, что он на самом деле чувствует в данный момент. Его поэтому в клинике считают человеком без чувств и эмоций. Кто-то его боится, другие удивляются, третьи воспринимают как опасного и непредсказуемого чудака, но все это неправда. Я не знаю более справедливого и доброго человека.
Эрик в молодости работал в «Шарите». Там и докторскую защитил. И с женой там познакомился, она была врачом из советского Владивостока, которая решила, что родит в «Шарите» ему дочку. И родила. Так что он этим местом в Берлине отмечен. Оно у него в сердце и голове навсегда. Одновременно объект восхищения и огромной зависти.
…Маккорник взглянул Ему прямо в глаза, поднял с колен книгу и приблизил к Его лицу.
– Эту книгу прислала Сесилия. Я вам о ней сегодня ночью говорил. Я позволил себе утащить ее из посылки. Великолепная вещь. Читаешь и прямо чувствуешь, как становишься умнее. Не думал я, что Зюскинд может так глубоко философствовать. До сих пор он у меня ассоциировался исключительно с «Парфюмером». С моей точки зрения, кстати, достаточно отвратительным.
Он сразу узнал характерную обложку немецкого издательства. Он читал это – в польском переводе – недавно вслух Эве в машине, когда они после совместного уик-энда возвращались из Сопота в Познань. Ему нравились такие их «литературные» поездки. Только с Эвой Он готов был не садиться за руль и оставаться пассажиром. Он по секрету от нее покупал какую-нибудь книгу и, когда на дороге становилось спокойно, начинал читать ей вслух, не показывая обложку. И чувствовал нечто вроде гордости и радости победы, когда Ему удавалось выбрать то, что она еще не читала. С пожирающей книги полонисткой это было не так-то просто. Читала она книгу или нет, становилось понятно обычно довольно скоро. И Ему очень нравились ее очаровательные рассказы об авторе, об историческом фоне, о связи с эпохой, трендах, о господствующем стиле. Чаще всего говорила она, а Он молчал, потому что Ему особо не о чем было рассказывать. Когда Он слушал эти ее минилекции, Его математика со своим высокомерным абстракционизмом и совершенной оторванностью от настоящей жизни начинала Ему казаться чем-то незначительным, необязательным и даже жалким. Никто никогда не жег учебники математики, а вот книги о любви – еще как. Как небезопасные для хода истории, особенно истории диктатур. Когда Он спросил Эву, какие именно книги жгли нацисты той памятной ночью в мае тридцать третьего года в Берлине, она ответила. Перечислила авторов: Манн, Ремарк, Фрейд, Кафка, Тухольский… знала их название и содержание. Иногда Он чувствовал себя рядом с ней неучем, образованным ослом с математическими шорами на глазах. Но первый раз при этом – именно с ней, с Эвой – не было стыда по этому поводу. Она не играла роли учительницы. И чем больше Он ее узнавал – тем большему хотел у нее научиться. Она никогда не показывала ни жестом, ни взглядом удивления типа: «Ты что, этого не знаешь?!» Не считала, что находится на «более высокой ступени» только потому, что ее знаниями можно похвалиться, в то время как Его вызывают обычно всеобщее непонимание, подозрительное удивление, а иногда так и просто насмешку. Как можно быть таким эксцентриком, чтобы столько времени тратить на нечто столь непрактичное, как математика? Он мог бы вспомнить много ситуаций, еще со студенческих своих времен, когда в общежитии за столом или в лагере у костра смотрели с презрением на того, кто случайно признавался, что не знает, кто, например, является автором «Ста лет одиночества», и в то же время выражали полную солидарность и поддержку тому, кто спокойно и громко сообщал, что с математикой «покончил сразу после кривых, которые и сейчас ненавижу!», причем сообщал с гордостью. Сегодня все то же самое – если дело касается математики. Хотя вот незнанием Маркеса сегодня уже никого не удивишь, а тем более не опозоришься. У Него все чаще складывается впечатление, что в большой степени Его окружают люди, которые мало того что ничего не понимают в простейших параболах и гиперболах, но и не читают ничего. Кроме постов друзей в «Фейсбуке».
У Эвы, когда Он с ней познакомился, математика ассоциировалась с усатой учительницей, которая ее унижала в лицее, а также с ее первым парнем, который выиграл компьютер, участвуя в олимпиаде по математике, после чего Эву сразу же бросил и стал «ходить» с ее лучшей подругой. Она математики боялась, но в то же время относилась к людям, которые ее понимают, как к гениальным виртуозам, которых Бог поцеловал в темечко, а тех, кто ею занимается, и вовсе как к шаманам от науки. Он помнит, что довольно долго скрывал от нее, чем именно занимается в Берлине. И когда наконец правда все-таки всплыла и выяснилось, что Он математик, да еще с диссертацией и степенью, произошло нечто неслыханное. Эва вошла в фазу очарования математикой. Она вела себя как от рождения хромой человек, который вдруг решил для себя, что со дня на день будет танцевать в балете. Она читала биографии математиков, приволокла из кладовки свои замурзанные школьные учебники, сама устраивала для себя уроки, ходила слушать открытые лекции в университет в Познани, регулярно просматривала ролики с лекциями математиков на «Ютьюбе». Однажды ночью она взяла свой ноутбук в постель. Она иногда так уже делала раньше, и они вместе смотрели порно, хотя им никогда не удавалось досмотреть ни один фильм до конца. А в ту ночь она прошептала Ему в ухо: «Сегодня никакого «Редтьюб», любимый, сегодня будет «Ютьюб», я чуть было не лопнула от гордости, когда случайно на это в Сети наткнулась!» А потом включила Его же лекцию, о которой Он давным-давно позабыл. Когда-то в австралийской Аделаиде, в актовом зале, забитом так, что яблоку некуда было упасть, двадцать минут рассказывал в рамках TED[24]24
TED (от англ. Technology, entertainment, design – технологии, развлечения, дизайн) – научные конференции, организованные некоммерческим фондом Sapling Foundation. Его цель – популяризация науки, а девиз: «Идеи, достойные распространения». Лекции TED не могут длиться более 18 минут и записываются для канала «Ютьюб». Их цель – простым образом рассказать о сложных предметах из разных областей науки и культуры. Среди докладчиков – много лауреатов Нобелевской премии.
[Закрыть] о пространствах Минковского. И этот ролик они тоже до конца не досмотрели.
На следующее утро во время завтрака она начала настаивать, чтобы Он написал книгу о современной математике для «таких вот последних математических дураков, как я». Она говорила об этом с таким энтузиазмом, как будто это для нее было самым важным на свете. И с такой уверенностью, что Он это сделает, как будто уже видела эту книгу на полках книжных магазинов. Ночью, возвращаясь ночным рейсом в Берлин, Он еще из аэропорта позвонил Нираву. Разбуженный среди ночи, Нирав Его сначала послал, а потом – скорей всего, чтобы ему дали поспать! – согласился. Они встречались более-менее регулярно в Его квартире, работали вместе над лекциями в рамках TED с участием двух человек, один из которых является лектором, наговаривали это – для уверенности – на диктофоны и потом отправили все эти записи в какое-то издательство. Нирав иногда приводил с собой свою младшую сестру Сатвари, которая не имела ни малейшего представления о математике, и заставлял ее слушать эти лекции, а потом задавал ей вопросы, чтобы выяснить, что она поняла. И если бедная сестренка не понимала и не могла повторить услышанное – лекцию упрощали и повторяли снова. Иногда, когда Эва приезжала в Берлин, она исполняла роль Сатвари, что было для нее поистине трудной задачей, потому что ей приходилось напрягаться не только для понимания математики, но и для понимания английского языка. А в случае индусской версии английского у Нирава это было вдвойне трудно, даже если бы Нирав говорил о литературе, а не о единичной системе счисления. Он и сам частенько не понимал Нирава. Индусский английский понимают часто только индусы – и то только в том случае, если относятся к той же касте.
Эта совместная работа над «теоретической математикой для чайников» сблизила их. Первый раз с момента эмиграции из Польши в Берлин Он мог сказать: у меня есть настоящий друг. И это было новым для Него ощущением. До этого Ему не удавалось долго находиться в дружеских отношениях. И виноват в этом был Он сам. Он просто не мог себе позволить подарить кому-то достаточное количество своего времени, своего внимания, своего интереса. И поскольку не получалось, то Ему вроде как и не надо было друзей. Все Его дружбы in spe[25]25
В надежде, в замысле, в проекте (лат.) – Примеч. ред.
[Закрыть] очень скоро чахли и в конце концов возвращались к статусу доброго знакомства, подкрепленного редкими случайными встречами. Так было в свое время с Его врачом Лоренцо. А вот с Себастианом, немецком мужем лучшей берлинской подруги Патриции, было иначе. Не получая ничего взамен своему долгому и терпеливому стремлению к более близкой дружбе, Себастиан, чувствительный информатик, пишущий стихи в стол, разорвал с Ним все отношения и демонстративно отказался от визитов в их дом, не приветствуя Его визитов в свой дом. Это тогда расстроенная и разозленная Патриция кричала Ему в очередной раз, что Он «эгоцентричный и заумный придурок, унижающий людей, у которых, кроме сраного института, хватает времени на нормальную жизнь и которые во всем готовы идти на уступки, только бы заручиться дружбой якобы гениального математика». Он любил Себастиана, Ему необычайно импонировала способность того существовать одновременно в двух, на Его взгляд, взаимоисключающих ипостасях, но это не значило, что Он готов дарить ему свое время так часто, как Себастиан бы этого хотел. А кроме того, была еще одна важная причина, по которой Он не стремился к близкой дружбе с Себастианом. Но этого Он Патриции говорить не хотел. Его доктор Лоренцо в свое время понял это без каких-либо проблем, а поэт Себастиан не понял и несказанно и смертельно обиделся. В случае с Ниравом все было по-другому. В их отношениях никто никому не должен был уделять время. Их дружба родилась из совместного проекта. Из общей цели. И еще они оба хотели и не хотели одного и того же. А для Него это и было самым точным определением дружбы.
С женщинами дружить Ему было трудно. С теми, которые не являлись для Него потенциальными сексуальными объектами, Он не сближался больше, чем требовалось, а те, с которыми сближался, в результате оказывались в Его постели. Видимо, не случайно, что когда Он перестал спать с Патрицией, Ему очень важно было, чтобы они остались друзьями. Ему не важно было, чтобы она верила Ему – важнее всего было, чтобы она Его понимала. Оказалось, что она и не верила, и не понимала…
– Да. «О любви и смерти» – потрясающий роман, – ответил Он после долгого молчания, взглянув на Маккорника, который, не прерывая Его внезапной продолжительной задумчивости, спокойно читал книгу.
– Гениальный по замыслу философский эксперимент Зюскинда, – сказал Он, старательно подбирая слова. – Любовь как сила. Одновременно божественная и адски жгучая. Уничтожающая и в то же время спасающая. Отсюда и это неочевидное, на первый взгляд, сопоставление: любовь и смерть как две неразлучные сестры, постоянно соревнующиеся между собой. Это старо как мир. Я не слишком верующий человек, но меня всегда восхищала Библия. Больше с точки зрения философии, а не теологии. Уж не помню, кто и по какому случаю сказал, но цитату помню очень хорошо: «Ибо крепка, как смерть, любовь»[26]26
Пн. 8:6. – Примеч. ред.
[Закрыть]. А уже значительно позже любовь и смерть связял в своих произведениях другой немец, Рихард Вагнер – это уже не в литературе, это уже в своих монументальных операх он сделал. А если вы знакомы с биографией Клейста[27]27
Генрих фон Клейст (1777–1811) – немецкий писатель, драматург, поэт и публицист. Он совершил самоубийство возле Ванзее под Берлином – застрелился, застрелив сначала свою подругу Генриетту Фогель, которую убедил вместе совершить самоубийство.
[Закрыть], то понимаете, о чем я говорю. И любовь побеждает. Даже тогда, когда находит в смерти свое наивысшее и самое прекрасное отражение. А у Клейста даже в большей степени. Хотя любовь так страшно глупа. Даже глупее, чем Орфей…
Маккорник посмотрел на Него внимательно и, сжимая книгу в руках, спросил с явственным оттенком недоверия в голосе:
– Вы так действительно думаете? Что любовь заключает в себе глупость или даже целиком состоит из нее?
– Знаете что? – добавил он после долгого размышления. – Сегодня ночью, после вашего пробуждения, я позволил себе огромную слабость. Никогда раньше со мной ничего подобного не происходило. Вот та история про мою бывшую жену, к которой я вернулся после ее звонка по вашему вопросу, – эту историю никто никогда не должен был слышать. Тем более в больнице. Это непрофессионально и не должно было произойти. О любви можно рассказывать только тому, кого она касается. И только в момент наивысшей убежденности, к которому приходишь в тишине одиночества, а не под влиянием, например, неосуществленного или осуществленного желания или тоски. И также не должно было иметь места мое волнение по поводу вашего пробуждения. Я имел право его чувствовать, но ни в коем случае не должен был выражать его публично. Однако выразил. Импульсивно. Не смог с этим импульсом справиться. Вам это может показаться странным, но с самого начала вас все эти шесть месяцев окружала какая-то удивительная атмосфера любви. Ваша дочь, словно ангел, следила за вами каждый день по «Скайпу», все эти женщины, которые приезжали к вашей постели с разных концов света, эта ваша фирма, которая вопреки всему, что я знаю о капитализме и его логике, так беспокоится о вашей судьбе, наша Лоренция, которая пела вам свои песни, эти букеты цветов, которые приносили посыльные… Если любовь, по вашему мнению, это глупость, то что тогда в жизни человека НЕ глупость?
Подав Ему стакан с водой и придвинув свой стул к постели, он произнес:
– Я вас спрашиваю чисто теоретически, больше от беспомощности, чем из желания услышать ваш ответ. Признаюсь вам абсолютно честно – биографии господина Клейста я не знаю. Что еще хуже – я даже никогда не слышал об этом господине. Первый раз слышу эту фамилию от вас, а ведь вы математик.
– Хм, вы меня озадачиваете. Все больше, – добавил он.
– А можно, я отдам вам книгу через несколько дней? Если, конечно, вы не возражаете, – спросил он.
– Разумеется. Конечно. Я эту книгу уже читал два раза. Некоторые фрагменты – на польском – знаю наизусть. Так что отдадите, когда сочтете нужным. Я ее хочу иметь у себя только потому, что это книга от Сесилии.
– А что касается Клейста, – добавил Он, – то я в вашем возрасте и еще много лет потом тоже понятия не имел о его существовании. И узнал о нем исключительно благодаря одной жещине. Вы, возможно, ее встречали, потому что ее фотографию мне тоже тут демонстрировали. Это… Эва. Если вы помните. Она, кстати, Клейстом особо не увлекается, не любит его. Но знает – в силу своей профессии. Из романтиков она предпочитает Вертера Гёте, который тоже умер от любви. Чистой и настоящей. Посвятив себя своей любви. Всего себя. Клейст же, по ее мнению, всю жизнь был увлечен, вплоть до одержимости, идеей совместного самоубийства как последнего проявления единения и верности. И будучи психопатом – в конце концов этого добился, но только в этом действии не было никакого романтизма. А только ужасная развязность по отношению к смерти. Клейст относился к смерти из-за любви легко и без страха. Видел в ней единственный способ освобождения от невыносимого страдания, вызванного невозможностью достижения полного единения. Клейст был уверен, что наивысшее наслаждение должно заканчиваться небытием. А иначе должно существовать еще большее и еще высшее наслаждение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?