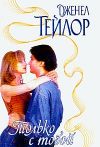Текст книги "Все мои женщины. Пробуждение"
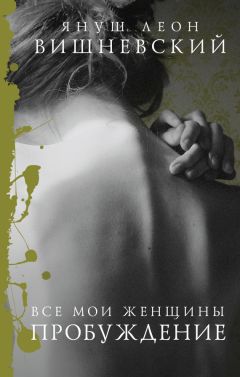
Автор книги: Януш Вишневский
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Дарья…
Наивная, одурманенная влюбленностью, тонкая и хрупкая девочка с огромными, серо-голубыми, блестящими глазами и необычайно густыми, пышными, волнистыми, золотисто-бронзовыми волосами, достающими почти до самых выпуклых ягодиц. На год моложе Его дочери! Увлеченная с первой лекции «этим всегда грустным, загадочным профессором из Берлина», она обменивалась с Ним мимолетными улыбками в коридорах во время перерывов между лекциями, подсаживалась к Его столику во время обеда в студенческой столовой и развлекала Его долгими беседами, а потом наконец дождалась приглашения в кино, и на обратном пути из кино в общежитие Он неосторожно коснулся ее руки, когда они шли по пустынной аллее темного безлюдного парка под тихий шепот листьев, которые шевелил легкий ветер. Она Его ладонь схватила так, как будто только этого и ждала все время, и впилась ногтями Ему в кожу с недюжинной силой.
Жили они оба в общежитии: она – в обычной студенческой комнате на четыре человека на третьем этаже, а Он – в так называемом «профессорском», в отдельной секции на первом. На самом деле комната точно такая же, отвратительная, а отличается только тем, что кровать одна, а еще есть маленький утробно рычащий холодильник и душ один на две комнаты, а не на четыре. Он не хотел жить в гостинице, хотя Ему неоднократно предлагали как «особому гостю». Но Он не видел ни одной убедительной причины, чтобы тратить время на поездку утром по пробкам Познани. Через грязное окно своей комнаты в общежитии Он видел окна аудитории, в которой читал лекции – прямо напротив, и эта близость давала Ему утром спокойствие и минимум полтора часа дополнительного сна.
Он спросил ее, не хочет ли она погреться чайком в Его комнате. Она внимательно осмотрелась по сторонам и, заметив подозрительный, сверлящий взгляд старухи-консьержки, сидящей в деревянной будке, похожей на газетный киоск, быстро вырвала свою руку из Его руки. Лицо ее вспыхнуло, и, не глядя Ему в глаза, она тихо ответила, что «вообще не замерзла, даже наоборот», и что ей надо пойти наверх, к себе, и сказать девочкам, что ее не будет всю ночь, чтобы не нервничали, но что чай она очень любит и с удовольствием выпьет, так что пусть он ждет, она скоро постучит к Нему в дверь. И быстро побежала к лестнице. Он включил чайник, в две чашки положил чайные пакетики и стал ждать, читая книгу. Ее долго не было – и Он решил лечь спать. Разбудил Его стук в дверь и какое-то нервное дерганье дверной ручки. Не включая свет, Он подошел к двери и повернул ключ. Она бесшумно скользнула внутрь комнаты, на цыпочках подбежала к ночному столику и включила лампу. Босая, в шелковом узком черном платье до пола, с мокрыми волосами, забранными резинкой в конский хвост. Он стоял перед ней, не до конца проснувшийся, совершенно голый и молча смотрел в ее широко распахнутые глаза. Она подошла к Нему, взяла Его за руки и прижала их с силой к губам, а потом, глядя Ему прямо в глаза, дотронулась до Его губ. На мгновение отошла, погисала лампу, стянула через голову платье, распустила волосы, встала на цыпочки и начала целовать и кусать Его губы, прижимаясь к Нему всем телом. Коснулась медленно Его лица, шеи, плеч, рук, ягодиц – и снова губ. На несколько секунд опускала руку Ему в пах и замирала, словно ожидая Его реакции. Он слышал ее учащенное громкое дыхание, которое иногда прерывалось тихим, возбужденным стоном. Через несколько минут она высвободилась из Его объятий и подошла к постели. Наклонилась, опершись ладонями о край постели, и встала на четвереньки…
И вот такая вот беззащитная пискля ждет Его, хочет Его, засыпает, обнаженная, прижавшись к Нему на узкой постели общежития, и приходит в эту постель и на следующий вечер тоже. А Он и не заметил, что с ней творится. Пропускал ее вопросы или притворялся, что не понимает их, чтобы не отвечать, потому что иначе пришлось бы врать. Игнорировал ее слезы, когда она провожала Его из Познани в Берлин. Позволил ей впустить Его в ее мир, ездил с ней в ее родную деревню на Дравском поозерье, встречался с ее старшей сестрой, которая жила со своей семьей в далекой Хайнувке на окраине Польши, держал ее за руку в присутствии ее задумчивых подружек, которые завистливо шептались у нее за спиной о «икарном «Мерседесе» и старом немце, которого Даруся нашла себе в общежитии в Познани». И хотя с Его стороны никогда не было никаких обещаний и признаний, Дарья явно и однозначно рассчитывала, что у них будет свадьба или по крайней мере длительные отношения, в то время как Он воспринимал это только как некий «курортный роман», только не мимолетный, а затянувшийся на несколько недель во время Его приездов в Познань. Он не собирался пользоваться ее детской наивностью, которая так привлекает пожилых мужчин, но не сделал ничего, чтобы эти детские надежды как-то остудить.
Он жил тогда в съемной однокомнатной квартире, достаточно большой, чтобы там помещались солидная постель, Его матрас у стены, на котором Он спал, когда приезжала Сесилька, небольшой белый шкаф из «Икеи» и купленный в польском антикварном магазине огромный, с круглыми следами сучков дубовый стол, на котором стоял Его двадцатичетырехдюймовый «Мак», погрузившись своей серебряной ножкой в кучу бумаг, записочек, книг, рваных пустых конвертов, упаковок от сладостей, окруженный со всех сторон чашками с недопитым кофе. Он снял эту квартиру совершенно новую, Он был первым ее обитателем! – прежде всего из-за близости к институту. Тот факт, что в комплект входила также небольшая кухня со встроенным холодильником, шкафчиками на стенах и раковиной, тоже Его устраивал. У Него не было ни времени, ни тем более желания «обустраиваться». Ему нужна была прописка, крыша над головой и над Его матрасом, кухня с холодильником, ванная с туалетом, место для компьютера и стены, на которые можно было бы прибить полки и поставить на них книги. И это должна была быть только квартира – никаких домов.
Критерий «рядом с институтом» не ускользнул от внимания Патриции. Она спросила, разумеется, с привычным уже сарказмом в голосе, почему бы Ему не поселиться, «например, поближе к своей дочери, Сесильке». Этот вопрос был таким неожиданным, что Он даже не смог придумать сколько-нибудь убедительного вранья в ответ. В том районе, из которого Он уехал, когда Его выгнала Патриция, было полно свободных квартир. И не только однокомнатных. Причем за гораздо более низкую цену. Так что Патриция в очередной раз была абсолютно права. Он снова думал только о себе. После мучительного расставания, после всех этих гражданских судов, после бесконечного перечисления взаимных обид и прегрешений и Его решений вернуться в семью – Он таки оказался эгоцентричным мудаком. Он даже не подумал, что мог бы поселиться на соседней улице и ходить, например, гулять с Сесилькой и их лабрадором хоть каждый вечер! А так вот вози теперь Сесильку к себе, а потом обратно к Патриции с одного конца Берлина на другой, стой в двухчасовых пробках…
В один морозный январский вечер Он ушел пораньше из института и поехал в ближайший торговый центр. Там Он купил матрас, два комплекта постельного белья, два одеяла и одно пуховое для Сесильки, четыре подушки, несколько полотенец, чашки и тарелки, четыре ножа, четыре вилки, четыре ложки, две кастрюли, одну сковородку, кофеварку – и на следующий день забрал ключи у маклера. Почти на две недели раньше официального, установленного в договоре срока «заселения объекта». Маклер – молодой, заикающийся, веснушчатый блондин из Магдебурга, бывшая ГДР, оказался исключительно сговорчивым – особенно для немца и особенно для немца с Востока. Они поехали в закрытую на четыре оборота ключа квартиру, поднялись на пятый этаж пешком – лифт еще не включили – и открыли тяжелую огнеупорную дверь, сразу почувствовав характерный запах новостройки с невыразимо гладкими и белыми стенами и сверкающим паркетом. Он пообещал клятвенно, что не будет включать нигде свет, даже в коридоре, что не будет принимать гостей, что ни на миллиметр не откроет окно и вообще будет ходить тихо-тихо, на цыпочках, от входных дверей до матраса, практически летать. Успокоенный маклер охотно принял в качестве знака благодарности сто евро и уже в знак своей признательности помог Ему занести в квартиру матрас. Вечером же Он вернулся в доживающий последние дни пансионат на берегу озера Вайсер, недалеко от Берлина. Там Он жил, а лучше сказать – ночевал вот уже около двух месяцев, в маленькой комнатке, переделанной из чердака. Когда Патриция однажды вечером во время очередного истеричного скандала закричала, чтобы Он убирался из их квартиры, Он без слов собрал небольшой чемодан, в сумку пихнул ноутбук и несколько книг – и поехал в институт. Неделю он закрывал на ночь свой кабинет и укладывался на пол, укрываясь зимним пальто, которое нашел в шкафу. В конце недели Его вызвал к себе шеф и спросил, не знает ли Он, кто так чудовищно храпит в Его кабинете, потому что охранники, мол, жалуются, а перепуганные уборщицы, которые приходят под утро со своими швабрами наперевес, уже написали донос куда требуется. Ему не надо было ничего объяснять – вопрос шефа был риторический, ответа тот от Него не ждал и просто давал Ему шанс быстренько все изменить. Все прекрасно знали, что ночевки в офисе нарушают сразу несколько правил и чреваты минимум выговором с занесением в личное дело, так что выбора у Него не было. Шеф, по природе своей ненавидевший выговоры, добродушный, полный сочувствия и понимания, уважения и восхищения, был вообще-то венгром по национальности, но он так долго жил в Берлине, что понимал: с немецкими правилами, лежащими в основе работы немецкого концерна, а также с немецкими уборщицами лучше не связываться. Вот и решил Его предостеречь на всякий случай. Тогда Он и вспомнил об этом пансионате на берегу озера. Большинство ученых из Польши, которые работали по вызову в их институте, экономили не только на еде, но и прежде всего на дорогих берлинских отелях. О том, что можно не только сэкономить, если снять номер в пансионате, но и каждое утро или вечер плавать в озере, Он узнал как раз от них. Он не представлял, как долго будет там жить, но поскольку речь шла не о нескольких днях, а, скорее, о месяцах, удалось договориться с хозяйкой об относительно выгодной арендной плате за два месяца вперед. И вот так Он и стал засыпать в тесной, но уютной комнатке на чердаке с видом на водную гладь берлинского озера Вайсер, в котором, однако, за два месяца ни разу так и не искупался.
В то время Он постоянно расковыривал гноящиеся раны после расставания с Патрицией, себя как мужчину и отца оценивал крайне низко, поэтому внимание, восхищение, а потом любовь и желание молодой, привлекательной, исключительно умной девушки заново строили рухнувшее здание Его уверенности в себе, полируя при этом Его изрядно заляпанное эго. Он не чувствовал одиночества, у Него не было на это времени, кроме Сесильки, ни по кому не скучал, не искал приятельства ни с кем – и уж тем более не было у Него времени на дружбу, но при этом отдавал себе отчет, что находится в каком-то странном временном состоянии. Жизнь без женщины, которая бы Его ждала… Он сам как-то раз, докуривая сигарету на балконе, отметил дерзость этой формулировки: действительно, все Его женщины Его постоянно ждали. Но вот теперь такая жизнь казалась Ему неким существованием в ожидании новой жизни. Он искренне радовался своей абсолютной свободе, Он возвращался с работы под утро или выходил из кабинета поздним вечером, уезжал, когда хотел и куда хотел, Ему не нужно было никого обманывать – вплоть до того самого дня, когда появился Шрёди, но все-таки случались такие моменты, когда Он просыпался, испуганный, посреди ночи, машинально тянулся к сигаретам и, гонимый страхом, выходил на балкон, где, вглядываясь в мигающие огоньки спящего города, ощущал космическую пустоту мертвой пучины, окружающей Его со всех сторон, и Его пронзала поразительная, неожиданная, прямо-таки вселенская печаль. Телефонные разговоры с Сесилькой, единственным человеком, которого Он действительно безгранично любил, и встречи с ней по выходным в какой-то момент перестали помогать. И вот тогда, как раз между такими приступами эмоциональной эпилепсии, появилась Дарья. Как психотропное средство, рецепт на которое выписала Ему сама жизнь. Или как антибиотик, который надо принимать на протяжении определенного времени, чтобы в результате температуры, лихорадки и кашля не случилось опасных осложнений. Чаще всего в области сердца. Когда эти осложнения проходят – обычно все рекомендации врача тут же забываются, недопитая пачка таблеток отправляется в корзинку – или, как у Него, в специальную коробочку для лекарств. Крышка с этой коробочки снимается крайне редко – обычно когда снова продрогнешь, или когда привычный кашель замучает, или живот болит, горло, или когда вдруг разволнуешься. И только изредка случается что-то серьезное. Тогда ты смотришь на срок годности, выбитый на задней части упаковки таблеток или напечатанный на обороте облатки. Те, у которых срок годности истек, из осторожности выбрасываешь, а на остальные смотришь с подозрением и мучительно пытаешься вспомнить, когда и от какой болезни ты их покупал. Так всегда делается с обычными таблетками от болей в животе, внезапно налетевшей мигрени, запора, от беспокоящего желчного пузыря, от всяких постыдных вздутий и надоедливого поноса. Антибиотики рассматриваешь все-таки чуть более внимательно, а брошенные когда-то в коробочку «таблетки для мозга» вызывают у тебя волну очень четких и чаще всего драматических воспоминаний: о радости и легкости, которые ты испытывал несколько лет назад. Он снял эту крышку с коробки через три с лишним года. Да даже не Он сам – это Дарья сняла, сама того не зная.
Однажды Он наткнулся в «Фейсбуке» на фотографию женщины, склонившейся над бумажным листком. С тюрбаном из полотенца на голове, в белом махровом халате, без следов косметики и с дымящейся сигаретой в пухлых губах. Характерный контур этих губ можно было узнать сразу, хотя на первом плане фото было вовсе не лицо женщины. На первый план фотограф поместил изображение каких-то каракулей на помятом листе бумаги, лежащем на коленях у женщины. И Он узнал свой почерк! И вспомнил субботний весенний вечер в общежитии, когда объяснял сидящей у Него на коленях Дарье причины и последствия искривлений времени и пространства. Он обхватил руками ее торс, чтобы дотянуться до листка бумаги, лежащего на столе, и написать несколько уравнений, нарисовать несколько парабол, без которых невозможно было объяснить ничего про гравитацию и искривления. Дарья Ему все время мешала, совершенно неубедительно делала вид, что ей интересно то, что Он говорит и пишет на листочке. Это именно тогда, в тот вечер, сидя у Него на коленях к Нему спиной, она вдруг замерла в Его объятиях, посерьезнела и тихо сказала:
– Я люблю тебя, ты знаешь? Я очень тебя люблю…
Он не ответил. Не прокомментировал это неожиданное признание ни единым словечком. Просто не нашел подходящих слов. Как в каком-то внезапном припадке афазии, о которой так красочно рассказывал Маккорник. Хотя тогда, в тот вечер, надо было найти в себе смелость и определить четко для нее, а прежде всего для себя, границы этой безнадежной и прямой дорогой ведущей к катастрофе связи. Но что Он мог ей сказать? Что эта любовь не должна была с ней случиться? Что она не взаимна, эта любовь, и никогда взаимной не будет? Что их не ждет счастливое будущее, даже короткое, что она, Дарья, для Него всего лишь действенное, но быстродействующее лекарство – лекарство для Его души, опаленной пожаром, который вызвала тоже не она? Что Он греется у костра ее молодости, что вытирает ее влюбленностью свои слезы, что Он очень виноват перед ней и еще больше не виноват? А в конце Он должен был сказать самое важное: ты мне близка, но я не люблю тебя. Я только трачу твое время, которое ты могла бы подарить другому мужчине, мы никогда не будем вместе. В тот вечер Он не отважился это сказать. И никогда потом не отважился. Дарья, испуганная, наверно, Его долгим молчанием, быстро сменила тему. А еще Он помнит, что она вынула из Его руки ручку и под уравнениями и рисунками написала дату. И вот спустя больше трех лет после этого вечера Он эту дату вспомнил, разглядывая фотографию, случайно найденную в интернете. Всматривался в цифры – и снова слышал ее голос, когда, прижимаясь к Нему, сидя на Его коленях, расслабленная этой их близостью, она, нежась в Его объятиях, говорила: «Я люблю тебя, ты знаешь? Я тебя очень люблю…» И, оставив ее без надлежащего объяснения, Он лишил эту девочку сразу двух мужчин. Он забрал у нее себя – как любимого, с которым, как она считала, у нее отношения, и отчасти – как будто ее отца, которого она, воспитанная матерью, никогда в жизни не видела, потому что он смылся, как только она родилась. Тот факт, что ее увлечение Им возникло в том числе в результате тоски по фигуре отца, в силу Его возраста, для Него с самого начала был очевиден. И, несмотря на эту очевидность, Он привязывал к себе эту девочку, которая была младше Его дочери всего на год, все сильнее и сильнее.
Эта фотография – как фото профиля – на страничке Дарьи в «Фейсбуке» стояла с самого начала ее там пребывания. И Он снова не нашел в себе смелости написать ей, хотя бы извиниться за свое поведение – мерзкое, самцовое, заслуживающее презрения, которое Он на протяжении всех этих лет тем не менее оправдывал безвкусно-патетическим «тяжелейшим ожогом души».
Этот самый «ожог» у Него стал проходить через два года поездок в Познань, когда, нетерпеливо ожидая багаж в подземном зале исключительно мрачного аэропорта Шенефельд в бывшем Восточном Берлине, Он споткнулся о небольшой алюминиевый чемоданчик и чуть не упал на резиновую карусель, на которую как раз выплывал из черной пасти туннеля Его чемодан. Еще меньше размерами, чем тот, о который Он споткнулся. Обычный, из потертого в нескольких местах черного пластика, потрепанный, больше похожий на ручную кладь. Он взял его в Лиссабоне только потому, что хотел привезти в Берлин две темно-зеленые пол-литровые бутылки масла, выжатого из оливок, выросших в окружении буйных виноградников на монастырских угодьях в окрестностях городка Синтра в сорока километрах от исторической Алфамы в Лиссабоне. В маленькой келье этого монастыря проводил остаток своей жизни доктор математических наук и теологии, незрячий от рождения монах, наделенный даром, при помощи которого в своей слепоте мог видеть то, что недоступно было зрячим.
Однажды в интернете среди математиков разнеслась неслыханная весть: португальский монах-иезуит, отец Уно из Синтры, как его все называли, помогал своими знаниями и консультациями Роджеру Пенроузу[9]9
Сэр Роджер Пенроуз (род. 1931) – британский физик и математик. Вместе со Стивеном Хокингом он доказал теорему о сингулярностях в рамках общей теории относительности.
[Закрыть] в формулировании теории конформной циклической космологии! Даже если это была утка – она была одной из самых прекрасных уток. Пенроуза Он читал в страшном волнении, щеки Его горели, Он восхищался и поражался удивительным познаниям в сочетании с еще более грандиозным воображением. Математическая модель циклической Вселенной, предложенная Пенроузом, была не только совершенна – она прежде всего восхищала красотой своей простоты. Пенроузу несколькими уравнениями удалось рассказать в ней историю скакалки, которая крутится от одного Большого взрыва, начинающего существование Вселенной, до другого взрыва. Совершив круг на орбите сначала расширяющегося, а потом миллиарды лет скукоживающегося обратно мира, эта скакалка возвращается обратно к изначальной точке существования – и так повторяется в бесконечном цикле Вселенной. И все это объяснялось уравнениями. Он тут же написал отцу Уно, приложив к письму свои публикации по теории конформного пространства. Без особой надежды на ответ. Через несколько дней отец Уно ответил Ему сердечным письмом, написанным традиционно, на бумаге, в самом начале которого упомянул о Его национальности и о том, что очень уважает «Польского Папу Войтылу» и «польского гения математики Сефана Банаха»[10]10
Стефан Банах (1892–1945) – выдающийся польский математик, создатель первого полного нормированного векторного пространства, впоследствии названного в его честь.
[Закрыть], а дальше высказал большую заинтересованность Его работами. В заключение письма совершенно неожиданно спрашивал, не потратит ли Он свое время, чтобы приехать к нему в гости. Приглашал к себе, в Синтру! Когда Он объявил в институте, что берет неделю – в Германии раз в два года каждому сотруднику официально это полагается – полностью оплаченного научного отпуска и едет в Португалию, чтобы там спрятаться за толстыми стенами иезуитского монастыря, на Него стали коситься как на не совсем нормального. Он как-то до этого не проявлял симптомов выгорания, был, конечно, поляком, но исключительно малорелигиозным, и в последнее время ничто не предвещало возвращения Его депрессии. С тем же успехом Он мог бы поехать медитировать в какой-нибудь ашрам в Индии, или буддийский храм в Камбодже, либо в экстремальную экспедицию на велосипедах в горах Непала, или даже учить китайский язык в Шанхай. Он никому не сказал, зачем Он едет именно туда и с кем там будет встречаться. Патриции и Сесильке тоже не сказал…
Поселился Он в аскетичной келье в монастыре. Деревянные нары, покрытые тонкой простыней, грубое одеяло, скатанное в рулон, эмалированный белый таз с водой, которая в этом антураже, как Ему казалось, должна быть святой, длинная нитка четок с отшлифованными до гладкости вулканическими кусочками лавы сицилийской Этны, свисающая, как только что казненный висельник, с ржавого крюка, вбитого в стену прямо над белой фрамугой двери. Выбитая в стене книжная полка, толстые, пахнущие свежим воском свечи в металлической корзинке, несколько коробок спичек, две железные кружки рядом с двумя керамическими горшками, стоящими на краю квадратного стола. В одном горшке была вода, в другом – терпкое красное вино из монастырских погребов.
Двумя этажами ниже была точно такая же келья отца Уно. Утром, после «сытного» завтрака, который состоял из миски жидкой каши и двух кусочков ржаного хлеба, смоченного оливковым маслом, и подавался в темной столовой для светских гостей, отец Уно, помолившись в часовне, встречался с Ним, чтобы поговорить, а точнее – чтобы устроить диспут на поляне, в тени раскидистого эвкалипта. С блокнотами в руках они интегрировали, вычитали, записывали градиенты, тензоры и ставили восклицательные знаки или знаки вопроса около доказанных или вызывающих сомнения утверждений. На пергаментно-тонких листах формата А4 с водным знаком, изображающим распятие Иисуса Христа. Иногда Он с трудом мог поверить, что сидит напротив человека, который не видит с рождения. Ряды уравнений и строчки текста на листочках Уно были ровнее, чем у Него самого! Около полудня Уно возвращался на три часа сиесты в свою келью, а ровно в три часа пополудни они шли в сад и собирали оливки с деревьев в большие и вместительные торбы, которые на кожаных ремнях вешали себе через плечо. Непостижимый Уно каждый раз собирал больше оливок, чем Он. В перерывах, когда они отдыхали под оливковыми деревьями, отец Уно рассказывал Ему о математике то, что еще долго нельзя было прочитать нигде, ни в одном из научных изданий. И удивительно редко в таких разговорах в оливковой роще касался вопросов Бога. Главным образом тогда, когда говорил о своем восхищении красотой и совершенством математики. Не склонял Его к религии, утверждал, что никто не обязан принимать факт существования Бога как факт. Но что можно считать его приглашением, поощрением или интересной возможностью. Будучи сам очень набожным, считал, что среди людей больше всего зла приносят именно верующие. Страдал от того, что в религии, особенно в католицизме и атеизме, полно таких вот «религиозных» всезнаек.
Они возвращались в монастырь сразу после захода солнца и расходились по своим кельям. Перед сном Он зажигал свечу и, сидя на каменном полу, тщательно записывал, сначала в тетрадь, а потом в компьютер (пока хватало батареи) драгоценные истории, услышанные от отца Уно. И утренние, рассказанные под эвкалипттом, и дневные, поведанные во время разговоров между оливковыми деревцами в роще. Всю ту неделю в Синтре Он испытывал некоторое интеллектуальное возбуждение, граничащее с восхищением, вперемешку с фазами полнейшего внутреннего опустошения, незамутненного покоя и гармонии, которой никогда не знал раньше. Именно там, за высокими стенами иезуитского монастыря, первый раз в жизни Он совершенно забыл о проектах, сроках, отчетах и обо всей той выматывающей рутинной гонке, усталость от которой стала уже символом определенного статуса. Если ты устал – значит, ты важен, ты нужен, ты добился успеха. Все это здесь, в монастыре, стало вдруг казаться какой-то абсурдной иллюзией. Кроме того, Он заметил, что Его начинают интересовать и радовать вещи и события, которые не привлекали Его внимания много лет до этого, которые Он считал несущественными и только отнимающими время. Он вдруг начал слышать радостный смех детей, возвращающихся из школы по узким улочкам Синтры, замечать и распознавать голоса птиц, поющих на деревьях, нюхать цветы и растения в монастырском саду, трогать резьбу барельефов в часовне. Во время поездок на велосипеде в Синтру, пока отец Уно устраивал себе молитвенную сиесту, Он наслаждался сказочно живописным, упоминаемым и Байроном, и Христианом Андерсеном парком, прилегающим к дворцу Пена. Наблюдал за гуляющими там людьми, которые лениво лежали на траве, спали, играли в шахматы, готовились к учебе, читали книжки или газеты, целовались, ссорились и мирились… Он был очарован этой наиобычнейшей простотой нормальности жизни и старался вспомнить, когда же сам Он гулял вот так в каком-нибудь парке по собственной воле. Старался – да не вспомнил…
Он тогда много думал о Сесильке, но в этих думах не было так хорошо знакомой Ему болезненной острой тоски, не было мучительных сомнений, которые в Нем с такой легкостью всегда пробуждала Патриция. Каждый вечер Он садился за стол в своей келье и при свечах писал ей радостные, полные рисунков письма, чтобы на следующий день в полдень поехать на велосипеде на почту. Однажды ночью Он написал длинное, многостраничное письмо Патриции, в котором собрал все свои воспоминания о самых прекрасных мгновениях, пережитых Им во время их супружества. Заснул под утро, взволнованный, заплаканный и пьяный от вина из горшка, который в ту ночь Он опустошил. Патриция никогда об этом письме не говорила – как будто и не получала его. Или не читала. Что, кстати, не было исключено. После их расставания психотерапевт Патриции – она Ему сама говорила об этом – советовал ей ограничить общение с Ним исключительно вопросами, касающимися Сесильки. Рекомендовал ей таким вот одним хирургическим ударом наотмашь отрезать то, что связывало ее с Ним как с бывшим мужем, бывшим партнером, бывшим любовником и, что для Него было самым болезненным, бывшим другом. Патриция была первой женщиной в Его жизни, с которой Он дружил. Сочетание дружбы и любви ведь на самом деле не так уж очевидно. А вот с Патрицией, как Он считал, у них это было. Но оказалось, что Он очень ошибался. Патриция решительно и с типичным для нее упорством выполняла рекомендации своего психотерапевта, так что Его к ней самое важное письмо из когда-либо Им написанных вполне могло быть даже не распечатано или, что еще более вероятно, в сердцах порвано на мелкие кусочки и выброшено в мусорное ведро. Как-то раз, уже много лет спустя, когда, как Ему казалось, эмоции уже давно должны были улечься и утратить свою остроту, Он спросил Патрицию, не могут ли они снова стать друзьями. Хотя бы ради Сесильки и ради их общего прошлого. Она посмотрела на Него холодно и процедила:
– Нельзя договориться о дружбе. Она либо есть, либо нет…
В предпоследний день они с отцом Уно больше говорили о Боге, чем о математике, сидя на травке на небольшой полянке около обелиска на мысе Рока. Уно в своей бронзовой сутане сидел напротив Него, на траве рядом с ним лежали четки. Мыс Рока – одна из самых известных достопримечательностей в окрестностях Синтры и Лиссабона. Это самая западная точка континента Европы – западнее некуда. Они на разбитом грузовичке выехали из монастыря ранним утром, около пяти часов. Было еще темно. По дороге останавливались в нескольких местах, помогая разгружать мешки с оливками. Отец Уно хотел устроить для Него туристический аттракцион и организовал эту поездку на грузовичке. Кабо да Рока – популярное у туристов развлечение. Люди по каким-то неясным, глубинным, атавистическим причинам хотят побывать как можно дальше на востоке, как можно дальше на севере, как можно дальше на юге, в самой низкой, в самой глубокой или в самой высокой точке чего-либо. Об атавизме и эволюции они с отцом Уно долго беседовали на мысе Рока, но сначала тот попросил Его как можно подробнее описать цвет океана, высоту волн, облака, свет солнца и окраску скал. Математика, сказал Уно, это только попытка, хотя и самая удачная, записи философии, науки о мудрости, а эволюция – это второй, самый удачный фокус Бога, доказывающий и фиксирующий его существование во веки веков. Сразу после осмысления понятия времени, которое, по вине некоего слишком любопытного Эйнштейна, утратило свою божественную природу и погрязло в релятивизме. А атавизм? Это только доказательство того, что организмы, в том числе люди, не поспевают за планом Бога. Он помнит, что впервые в жизни, сидя около обрыва на мысе Рока, жалел, что Ему недоступен дар веры настолько сильной, чтобы соединить слова отца Уно с Богом. После обеда они вернулись в монастырь и собирали до заката солнца оливки…
В последнюю ночь в монастыре Он снова выпил много терпкого вина из глиняного горшка и, может быть, поэтому, лежа на деревянных нарах в темноте и тишине своей кельи в иезуитском монастыре, плакал.
Когда через неделю, утром, Он уезжал из Синтры в аэропорт Лиссабона, отец Уно повел Его под ручку провожать на автобусную остановку, сколоченную из нескольких листов фанеры, и там подарил ему Библию в кожаном переплете, на польском языке, и папку с черными тесемками, в которой были все его публикации. И еще вручил Ему две бутылки масла, выжатого из оливок, которые Он самолично собирал. Из огромного количества зеленых шариков, которые Он собирал семь дней, получилось всего две маленькие бутылочки золотистой маслянистой жидкости! Ничего удивительного, что когда-то этот волшебный сок, выдавливаемый прессом из оливок, ценился выше золота и даже выше трюфелей.
Поэтому Ему надо было положить эти бутылочки в чемодан, старательно обложить со всех сторон вещами – пиджаком, рубашками, штанами, трусами и носками – и потом сдать в багаж в аэропорту в Лиссабоне и нетерпеливо ждать чемодан в Берлине. И когда в конце концов чемодан появился на ленте – Он бросился к нему и, не глядя под ноги, споткнулся о тот алюминиевый чемоданчик, лежащий непонятно почему на полу около багажной карусели. Падая, Он ударился головой о металлический край конвейера, по которому двигалась лента. В глазах у Него потемнело, на губах появился вкус крови, Он услышал, как хрустнули очки, висевшие на шнурке на шее. Тут же около Него возникла какая-то испуганная женщина и подала Ему руку, помогая встать. Она вытащила из сумочки упаковку одноразовых салфеток и начала вытирать кровь, текущую у Него из носа. Рядом с женщиной переступала с ноги на ногу заплаканная девочка лет десяти, явно испуганная тем, что происходит. Женщина вынула из упаковки очередную салфетку и спросила по-немецки:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?