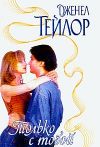Текст книги "Все мои женщины. Пробуждение"
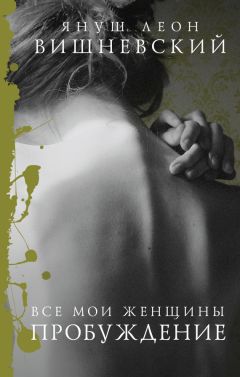
Автор книги: Януш Вишневский
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Он вернулся домой, попрощался с Шрёди, пихнул чемодан в деревянную коробку, прикрепленную к багажнику велосипеда, и поехал на берлинскую вокзальную станцию «Зоопарк». Приковал велосипед стальной цепью к ограде на площади вокзала – там, где было побольше камер наблюдения, – и отправился на перрон. Когда Он вошел в свой вагон – там еще никого не было. Он вообще любит путешествовать на поезде: можно читать, можно слушать разговоры других людей, можно сходить в вагон-ресторан и, потягивая вино, читать дальше. Вот только курить нельзя – поэтому Он обычно прислушивается к объявлениям следующих станций, выскакивает на перрон и поспешно затягивается сигаретой.
Вслед за Ним в купе вошел мужчина с огромным чемоданом, обклеенным самыми разными авиаэтикетками. Загорелый, высокий, более-менее Его возраста, с удивительно густыми, седыми, волнистыми волосами и трехдневной щетиной. Мужчина повесил свой пиджак – один в один с Его пиджаком – и сел на место у окна, прямо напротив. Некоторое время смотрел в свой билет, а потом поднял на него из-под кустистых бровей сверлящий взгляд и спросил по-немецки, с выраженным австрийским акцентом: «Не ошибся ли часом господин местом, потому что на моем билете написано, что я оплатил то место, на котором господин изволит сидеть?» Он помнит, как немедленно поднялся, проверил свой билет и, извинившись, подтвердил, что фактически так и есть. Мужчина настаивал, чтобы они, «во исполнение правил и избежание неприятностей с немецкой железной дорогой», поменялись местами. А сидел этот седовласый любитель порядка лицом в направлении движения, то есть на данный момент место у него было лучше, с чем согласилось бы абсолютное большинство нормальных людей. Разумеется, Он незамедлительно согласился. Подумал только про себя, что соблюдение правил до мелочей, даже вот в таких глупых ситуациях, видимо, объясняется каким-то причудливо мутировавшим геном у немцев, который в силу географической близости и исторического соседства перенесся и закрепился также в геноме австрияков.
Через несколько минут купе начало потихонечку заполняться. Рядом с Ним села худая девочка-подросток с прыщавым лицом. Вежливо поздоровалась и продемонстрировала в улыбке стальные брекеты на зубах. Едва усевшись, вытащила из кармана дырявых джинсов мобильный телефон и начала непрерывно стучать пальцами по экрану, до самого конца пути не произнеся больше ни слова. Вслед за ней в купе, громко сопя, ввалились толстая, замотанная в тряпки с ног до головы мусульманка и ее еще более толстый бородатый муж. Своими габаритами они заняли сразу три места, а сумками – больше половины металлической полки для багажа. Как только поезд тронулся, мусульманка непостижимым образом засунула под свою чадру, похожую на черное накрахмаленное забрало, очки и начала читать книгу, но в какой-то момент – Он незаметно наблюдал за ней время от времени – перестала переворачивать страницы, наверно, заснула. Последним в купе вскочил запыхавшийся рыжий парень в коротких, прожженных и порванных штанах, когда-то явно белых, а теперь приобретших ровный серый цвет, драных кедах и застиранной дырявой кофте от спортивного костюма. Эти кеды, а еще больше короткие штаны удивительно не соответствовали времени года. Из ушей его свисали белые провода наушников. Багажа у парня с собой не было никакого, и в целом он выглядел так, словно возвращался домой после футбольного матча или тренировки. В данном случае – из Берлина в Амстердам. Он сел очень близко к толстой мусульманке, которая немедленно прижалась к своему бородатому мужу, словно испугавшись, но муж, однако, никак на это не отреагировал. Рыжий поглядывал на всех и каждому доброжелательно улыбался. Когда выехали из Берлина и в купе первый раз появился кондуктор, выяснилось, что у рыжего нет ни билета, ни, что еще хуже, денег. И документов в карманах коротких штанов тоже не оказалось. То есть у него вообще не было никаких оснований находиться в этом поезде. Австрияк был так шокирован этим обстоятельством, что поднял голову от газеты, надел очки и с нескрываемым отвращением уставился на рыжего, мусульманка явно не понимала, что происходит, а прыщавая девчонка продолжала невозмутимо тыкать пальцами в экран своего смартфона, не обращая ни малейшего внимания ни на рыжего, ни на разгневанного кондуктора. Он помнит, что предложил кондуктору оплатить рыжему билет от Берлина до ближайшей станции, но кондуктор в ответ на его предложение стал относиться к Нему как к соучастнику какого-то чудовищного преступления. Кондуктор по телефону вызвал другого кондуктора, и они вместе выпроводили беднягу рыжего из купе. Седовласый австрияк оказался прав: лучше не иметь неприятностей с немецкой железной дорогой. На место рыжего на следующей станции тот же самый кондуктор провел торжественно, словно во дворец, длинноногую блондинку в юбке, которая больше напоминала шейный платочек. Она была красива славянской красотой, на каждом пальчике у нее поблескивало колечко или перстенек, а на левом запястье красовался жемчужный браслет. Она внимательно оглядела купе и, улыбнувшись разрумянившемуся кондуктору, села на место рыжего, демонстрируя всем свои бедра, а также трусы. Через сто километров пути, разочарованная отсутствием внимания, так как никто на нее не смотрел – хотя Он-то с удовольствием поглядывал, стараясь делать это как можно незаметнее, – она встала и положила свою сумку на багажную полку. Стоя на пальчиках, в своих туфельках на гигантской шпильке, она очень старательно отклячивала ягодицы. Седовласый снова поднял голову от газеты. Еще через сто километров она начала поправлять макияж – и поправляла его километров пятьдесят, а потом молча вышла из купе. Он встретил ее еще через сто километров в вагоне-ресторане: она сидела за соседним столиком в компании какого-то краснолицего толстяка, огромный живот которого упирался в край стола…
Он заказал тогда у официантки два стаканчика вина – одним бы и Шрёди не напился. Через минуту объявили следующую остановку: Апельдорн. Он вскочил, заверил официантку, что вернется очень скоро, и побежал в купе – за сигаретами. Седовласый не поднял головы от газеты, закутанная мусульманка в очередной раз прижалась к своему спящему мужу, а прыщавая девчонка продолжала тыкать пальцами в экран телефона. Он накинул пиджак, из пачки «Мальборо», лежащей на полочке у окна, выудил сигарету и поспешил к двери вагона. Остановки были очень короткие – буквально на полсигареты. Когда поезд затормозил, Он торопливо открыл дверь вагона и выскочил на перрон. Глубоко затянулся, втягивая дым сигареты и заполняя им легкие. У Него закружилась голова. Он оглядел пустой перрон: в нескольких метрах от Него целовалась пара. Девушка с закрытыми глазами, на ресницах – слезы, черные размазанные следы от туши на щеках… Длинноволосый парень, гораздо ниже ее ростом, стоял спиной к Нему, на спине у него болтался небольшой зеленый рюкзак. Он прижимал девушку к себе крепко-крепко. «Как красиво», – подумал Он, глубоко затягиваясь сигаретой еще раз.
Такие картинки всегда привлекали Его внимание. Всегда и везде. С того самого момента, как отец в первый раз взял его с собой в поездку на поезде и Он впервые оказался на вокзале. Ему тогда было семь или восемь лет. Отец купил билеты, крепко взял Его за руку, и они побежали на перрон. Тогда Он и заметил первый раз прижавшихся друг к другу, отчаянно целующихся людей. Так публично – и при этом так искренне. Именно в тот день впервые испытал Он этот трепет. Прощания любящих друг друга людей на вокзалах, в аэропортах, в портах, заметил Он, удивительно прекрасны и олицетворяют собой любовь и близость. А еще они знаменуют собой начало тоски. И в этом прощании всегда есть привкус горечи, человеческой трагедии. В том смысле, что ведь это, может быть, последняя их близость, последний разговор, признания, сказанные и услышанные в последний раз. Хрупкость и неустойчивость человеческого существования в этих прощаниях проявляются очень наглядно. Он это заметил – но у Него таких прощаний не было многие десятки лет. И только теперь – с Эвой – он прощается со своей женщиной так, как всегда хотел…
Патриция Его никогда ни на какой перрон не провожала. Ни на какой вокзал. Даже в Польше. И Он ее не обнимал – хотя Ему всегда очень хотелось – в аэропорту. В Берлине Он уже в основном летал самолетами. Патриция принципиально считала, что прощание – это нечто очень интимное и, следовательно, прощаться надо наедине, без свидетелей. Его в этом ей убедить так и не удалось, но прощались они именно так. Коротким поцелуем. Смущенным – от нехватки слов. Скорее приятельским, чем страстным. А вот Эва – совсем наоборот, считает короткий поцелуй элементом скорее встречи, чем прощания. Короткий поцелуй можно повторить, а вот в том, что поцелуй на прощание не станет последним, уверенности быть никогда не может. Так всегда считала и считает Эва. И Он тоже. Глядя на целующуюся пару на перроне вокзала в голландском Апельдорне, он прикусывал фильтр сигареты и вспоминал, как они с Эвой в последний раз прощались. В аэропорту, в польском Жешуве. Он делал какой-то доклад в Жешуве в университете, а она, проехав три четверти Польши, приехала «на Дальний Восток», как она сама это называла, на машине из Познани. Он же на следующий день «с Дальнего Востока» возвращался самолетом в Берлин. Она выехала ближе к вечеру, после работы. Прямо с парковки у школы. И прибыла в Его гостиницу в Жешуве под утро. Вымотанная, голодная и… улыбающаяся, когда входила в Его номер на четвертом этаже.
Он заранее заказал ее любимые суши. Сходил в магазин и купил мятные конфетки – ее любимые. И Его, кстати, тоже – она их Ему и открыла, до Эвы он признавал только «коровки» и леденцы. Лучше всего – такие чуть поломанные, в банке, которые высыпаются в сумку. Лед, сладость мятной конфетки на ее языке… и их прощание. Невероятное сочетание калориметрии, эвкалипта и орального секса. До Эвы Ему такие сочетания были неведомы. И Он никогда не спрашивал ее, откуда она о них знает. Для уверенности заглянул в холодильник и проверил, есть ли лед – льда не было. И Он спустился в ресторан отеля и принес целый пакет свеженамороженных кубиков льда.
Она вошла в номер и сразу поцеловала Его. Прямо на пороге. И Он почувствовал на губах вкус мятной конфетки, которую она сосала. Выражение «мятный привкус» с момента их знакомства с Эвой приобрело для него вполне реальное и недвусмысленное значение… Потом они «поздоровались» – как обычно, до кровати не дотерпев.
Разговаривали до рассвета. О ее буднях, о книгах, которые она «пожирала» и «проглатывала» в любую свободную минуту. Он не помнит, чтобы она когда-нибудь какую-то книгу просто прочитала, как обычные люди делают, – всегда «глотала». О Его проектах, планах, о печалях, а еще о том, как же им быть, раз она в Познани, а Он в Берлине… Он ее при этом кормил суши. Обнимал, целовал, трогал и клал ей в рот сначала кусочки тунца, завернутого в рис, а потом свой палец. Они уснули беспокойным сном и спали, пока не зазвонил будильник, установленный в ее телефоне на шесть тридцать. Эва всегда встает в шесть тридцать. Готовит завтрак для своих сыновей, раскладывает на стульях около их постелей одежду, воюет, чтобы они съели завтрак, отвозит их в две разные школы, а потом гонит через всю Познань в свою. Там часами с энтузиазмом рассказывает о Норвиде, Прусе, своем любимом Словацком или Милоше молодым людям, которые, погрузившись с головой в свои смартфоны, в гробу все это видали. Любящая, невыразимо добрая мать и прекрасная учительница, верящая в свою миссию, которой Он был увлечен, но которую до конца не понимал.
Они прощались посреди зала отлета аэропорта в Жешуве. Он обнимал ее, целовал, прижимал к себе, понимая, что увидятся они не раньше чем через две недели, которые она уже назвала «бесконечностью», впивался ногтями в ее плечи. Гладил ее и случайно, хотя нет, не случайно, дотронулся до низа ее живота. Она вдруг взглянула на часы и прошептала:
– Слушай, у нас еще целых двадцать минут. Может быть, даже двадцать пять. Они же не улетят без тебя, как ты думаешь?
Там, на своей последней станции Апельдорн, Он не мог припомнить, о чем именно думал в этот момент – наверно, ни о чем не думал. Но точно помнил, что потом Эва оглянулась по сторонам и, схавтив Его за руку, потащила за собой. Он бежал за ней, толкаясь и спотыкаясь о чемоданы и ноги пассажиров и бесконечно извиняясь. Она затащила Его в туалет для инвалидов, закрыла замок, заблокировала ручку двери Его сумкой и первым делом скинула с себя обувь. Потом торопливо стянула узкие джинсы вместе с трусиками и, через голову сняв блузку, повернулась к нему спиной, а потом поднесла Его руку к застежке лифчика…
Они действительно без Него не улетели, хотя могли бы, потому что Он своим опозданием задержал вылет на целых десять минут. В Жешуве, «на Дальнем Востоке», в отличие от Его «западного» Берлина, наверно, дают больше времени на раздумья. Его фамилию выкликали через громкоговорители несколько раз – Он слышал это и в туалете для инвалидов. В конце концов Он, задыхаясь, вбежал в стеклянные двери, за которыми стоял самолет до Берлина. Садясь на свое место, Он все еще чувствовал, как все Его тело трепещет от того, что происходило в туалете для инвалидов. А Эва была голая и тогда, когда выпихивала Его из туалета и целовала на прощание прямо на пороге.
Девушка на перроне вдруг широко открыла глаза, резко оттолкнула парня и побежала к Нему. Внезапно, совершенно неожиданно Он заметил на небе перистые облака и в ту же самую секунду ощутил сильную острую боль в затылке. Почти сразу раздался крик – кричала женщина. На долю секунды девичье лицо заслонило Ему небо с облаками, а потом все вдруг стихло, расплылось, стало серым, ватным – и в конце концов исчезло. Попросту перестало существовать. За один короткий момент. Как будто кто-то выключил свет в абсолютно темном коридоре.
И вот оказывается, что это все только для Него не существовало. И так до сегодняшнего дня – целых сто восемьдесят семь дней и ночей, до двадцать второго сентября, когда совершенно неожиданно в четверть второго ночи Он, по непонятной никому причине, вдруг снова вернулся на этот свет. К жизни, которая никого никогда не ждет и бежит, как сумасшедшая, все вперед и вперед. И вот теперь Он лежит, не двигаясь, на койке в какой-то больнице в Амстердаме, опутанный проводами, трубками, шлангами, подключенный к куче приборов, капельниц, помп и пластиковых мешков, и пытается сообразить, как же так могло произойти, и боится до одури, что, может быть, опять прошло целых шесть месяцев – а Он в очередной раз этого не заметил.
Он вглядывался в щелку незакрытой двери, ведущей в коридор, прислушиваясь. Одно из окон было неплотно прикрыто жалюзи – и Он заметил, что на улице стало светлее, и услышал птичий гомон. Стал вспоминать, во сколько примерно начинает светать ранней осенью. В Берлине Его часто будили птицы. Если Он не проспал очередные полгода – значит, сейчас, по Его подсчетам, должно быть около пяти тридцати. Совсем скоро должна закипеть жизнь. Из-за проблем с сердцем Ему часто приходилось бывать в больницах – и не только в Берлине. И всегда около шести часов утра начинались в больнице шум и гам. Покрикивания и смех в коридорах, постукивание колесиков каталок, на которых санитарки развозили завтрак, звуки телевизора. И Он всегда удивлялся – почему день в больнице не может начинаться хотя бы часов в десять. Ведь здесь никому не надо торопиться на работу! Никому не надо вести ребенка в школу или в садик, никто не опаздывает на поезд, в метро, самолет или автобус. Никому не надо никуда спешить. Скорее – наоборот. И каждый, кто находится здесь, очень хотел бы оказаться на месте тех, кому нужно все время торопиться. Ведь для всех этих исследований, анализов, диагнозов и консультаций есть целый длинный-длинный день впереди. И все-таки день в больницах начинается так же, как день рабочего или служащего в старой доброй Польше, – в шесть часов, чтобы успеть на фабрику к первой смене и отстоять ее, эту смену, до трех часов, и как можно скорее освободиться. Все больницы мира похожи на фабрику в Польше советского периода: ровно до трех часов дня – и потом никого. После трех часов в больницах никого не лечат. После трех часов начинается ожидание следующего дня. Если бы Он был директором больницы – завтрак начинался бы не раньше десяти часов утра…
Он потянулся к выключателю лампочки, находящейся над изголовьем Его кровати. Почувствовал боль в глазных яблоках и тут же зажмурился. Вспомнил, как Маккорник напал на бедную Лоренцию, которая неосторожно включила свет и чуть было Его не ослепила. На ощупь нашел на прикроватной тумбочке повязку на глаза, натянул резинку на голову, оставив только узенькую щелочку, через которую проникал свет. И внимательно оглядел палату. На ночном столике не было книг, на двух полочках под белой металлической каталкой на колесиках тоже не было. На прикрытом белой салфеткой столе, стоящем у окна, – тоже нет. Что ж, это логично, признал Он: пациент в коме не читает книг. И вслух Ему тоже нет смысла читать. Сразу после этого Он подумал, что нужно что-то в первую очередь сделать с Его глазами и этой слепотой – это даже важнее, чем вытащить трубочки из Его пениса! Он сдуреет тут за пять месяцев без книг, а ведь именно про пять месяцев говорил Маккорник. На хрен Ему вообще глаза, если Он не может читать?!
Он услышал шум и шаги в коридоре. Дверь в Его палату медленно открылась и на пороге показалась коренастая, коротенькая женская фигура. Лоренция. Она уронила свою сумку и подбежала к Его постели с криком:
– Боже всемогущий, Полонез! Ты совсем с ума спятил или что?! Что ж ты этим рефлектором себе глаза выжигаешь? Не жалко тебе? Маккорник если бы увидал – он бы со старой Лоренции шкуру бы спустил или на разговор бы меня вызвал, а это еще хуже! Вот ведь на минутку тебя оставишь без присмотра – и ты уже тут как тут!
Она выключила лампочку и нежно коснулась пальцами Его лица. Нащупав повязку на Его глазах, вздохнула с облегчением и произнесла:
– Вот это ты хорошо сделал, Полонез, что глаза-то прикрыл. Ой хорошо. Наш врач прав ведь – свет может тебя ослепить. А глаза человеку нужны, может быть даже больше нужны, чем руки и даже ноги. Потому что без ног-то можно – протезы себе поставишь, а ежели нет – так добрые люди найдутся, будут тебя на колясочке катать куда надо. А вот без глаз тебе что в коляске, что без коляски – темно. Как в аду каком. До самого конца света.
– А чего ж ты на кнопочку-то не нажал, Полонез? – воскликнула она испуганно, заметив мигание желтой лампочки над его постелью. – Тут же пусто, как в моем кошельке, и пищит оно, как голодная канарейка! Надо ж было красную кнопку посильнее нажать! Джоана бы тебе сразу новую капельницу поставила. Джоана, как и ты, родом из Польши, землячка твоя, стало быть. Чрезвычайно хорошая женщина, опытная – в нашей больнице из медсестер, наверно, лучше всех наученная. Да, она бы многому могла научить этих молодых наших докторишек, что по коридору больничному бегают, если бы они только захотели. Но где там. Не хотят, они ж самые умные. Не будет их какая-то подавальщица суден медицине учить! А Джоана и не лезет никогда. Тихая, воспитанная, говорит мало, и такая немного всегда грустная вроде – как будто ей в жизни пришлось над собственной могилой постоять. Лоренция хорошо знает, что если женщина с утра до ночи по свету грустная ходит – то ее либо одиночество, либо тоска, либо и то и другое одновременно пожирают, как голодные червяки корни дерева точат. Джоана дает им себя пожирать, потому что о мужчинах совсем ничего не знает и до сих пор у нее даже и времени-то не было о них что-нибудь узнать. Она из-за мужчины давным-давно из Польши уехала, все и всех там оставила, потому что он ее обещаниями-то заманил. Особенно одним обещанием, самым главным: что любить будет вечно. А тут выпихнул ее на работу, чтобы самому не работать, а в постели до полудня валяться. А под конец так бил, что она в больницу приходила в очках солнечных даже в дождь. Но никому не говорила – только вот с Лоренцией иногда шепотом делилась в уголочке. Как женщина с женщиной. Но что может сделать Лоренция – только утешать да советовать. Джоана плакала, отчаивалась, за плечи себя обнимала, но надежды на то, что судьба ее изменится, все не теряла и все этого дармоеда и голодранца продолжала любить. Любовь ведь у человека не только разум и способность видеть отнимает, но и чувство собственного достоинства. Так же, а может, даже сильнее, чем страх.
– Ой да, Полонез, ой да, – вздохнула она задумчиво и, поднявшись со стула, стоящего около Его постели, вышла из палаты, опустив голову и громко шаркая ногами.
И не возвращалась. Он ждал ее, всматриваясь из-под черной повязки в свет, льющийся из коридора. Ждал нетерпеливо. Как никогда никого не ждал. Он не хотел быть один. Боялся быть один. Никогда ранее в жизни Он не боялся этого так, как сейчас. Разве что только той ночью, когда умер дедушка Бруно, и Он знал, что его прикрытое белой простыней тело лежит на твердом столе за стеной. Вот тогда Он тоже очень боялся быть один. А сейчас, здесь, во время тревожного ожидания Лоренции, которая Его вдруг оставила одного без предупреждения и причины, Он вдруг почувствовал, первый раз в жизни, удушающее, парализующее одиночество. Никогда раньше Он не чувствовал себя одиноким настолько, чтобы реагировать таким не свойственным Ему способом: страхом, чувством абсолютной брошенности, безнадежной и почти осязаемой тоской, почти отчаянием. Через несколько минут этого внезапного паралича с оттенком изумления, потом неловкости, а в конце и стыда Он напомнил себе, как Он сам относился к близким людям, страдающим по Его вине от одиночества, к людям, которых Он бросал, оставлял, обманывал, исчезал на долгое время или даже навсегда из их жизни. Часто – вот так же внезапно, без объяснений, без предупреждения. Вот как Лоренция только что.
Разве Он не оставил отца, не прошло и четырех месяцев после смерти матери, когда пришло приглашение и деньги от шведского фонда для Его стажировки в знаменитом Каролинском институте в Стокгольме?!
Его тогда распирала гордость, что именно Он, математик, а не какой-нибудь биолог, химик или врач, получил это вожделенное место, которое Каролинский институт, этот пантеон лауреатов Нобелевской премии, выделил их университету. Он тешил собственные амбиции, рисуя мысленно ослепительные картины своего блестящего будущего, Он ослеп и оглох от этой гордости – и совершенно утратил способность к эмпатии. И бросил его, твою мать! Оставил отца одного в пустой квартире, в которой каждый уголок был заполнен воспоминаниями о матери. Оставил в чернейшем отчаянии, в которое не дотягивался ни единый лучик надежды. Да еще утешал себя тем, что выполняет просьбу самого отца, которую не должен был слушать: «Ты поезжай, сынок, поезжай. Мама бы очень этого хотела. Это же твой шанс! Твоя жизнь. Поезжай, сынок. А я тут на кладбище похожу, письмо напишу. Книжки буду читать. Ты поезжай, сынок…» И Он оставил его совершенно одного, наедине с бесконечной и беспросветной тоской, с болью, не дающей дышать, с небольшим холмиком, еще не осевшим на свежей могиле. С фотографиями на стенах и в альбомах, с ее платьями в шкафу, ее ночной рубашкой под подушкой в их маленькой двуспальной кровати… Оставил его одного. Как последний эгоистичный долбаный мудак. Оставил своего отца, когда тому сильнее всего требовалось Его присутствие рядом. По его же просьбе. И что с того, что Он платил соседке за то, чтобы та за отцом приглядывала, в магазин ходила и пять минут в день с ним разговаривала? Что, мать его, с того, что писал ему каждые три, максимум пять дней? Что с того, что отец клялся, что сможет о себе позаботиться, что справляется, что ждет Его и гордится Им? Его родной отец умер от одиночества. И Он это знает. Прекрасно знает. Точно знает. А инфаркт – это как бы счастливый случай был, очень кстати пришелся, просто помог отцу перебраться с этого света на тот. А рак желудка? Если бы не вскрытие, которое делали в обязательном порядке, потому как «смерть наступила внезапно и в результате невыясненных причин», так никто бы и не узнал о том, что Его отец носит в себе этот злосчастный рак! Никто – включая, твою мать, Его! Первого и единственного, любимого сыночка, мать его!
Получив известие по телефону от соседки, Он прилетел из Стокгольма, чтобы организовать похороны. Прямо в аэропорту купил черный костюм и белую рубашку. После похорон, во время которых Он принимал соболезнования от людей, большинство которых знать не знал и которых никогда до этого в глаза не видал, Он поехал на такси в их квартиру. Полная пепельница окурков на ночном столике у кровати со скрипящими пружинами. Недопитая бутылка дешевой водки на покрытом дырявой от старости, когда-то цветастой скатертью столе, рядом с бутылкой – опрокинутая рюмка, краешком касающаяся раскрытой книжки, и очки с обмотанными черной изолентой дужками. Грязная чайная ложка в покрывшейся сине-зеленой плесенью чашке с остатками кофе. Вырванный из тетрадки листочек в клеточку с неоконченным письмом на деревянном подоконнике. С темными пятнами там, куда падал пепел с сигареты. На полочке за стеклом серванта – стопка сине-голубых конвертов с наклеенными марками и Его шведским адресом. На прислоненном к кровати убогом расхлябанном кресле между пузырьками лекарств и коробочками таблеток – Его фотография, захватанная пальцами. А рядом – фотография матери, улыбающейся, прижимающейся к плечу отца, на какой-то лесной полянке.
Он сидел на кровати, на которой умер Его отец, и в ушах у Него эхом отдавалось отцовское «поезжай, сынок, поезжай…», которого Он так нетерпеливо жаждал. Мерзавцем Он оказался. Последним мерзавцем.
Разве не бросил Он свою жену, когда их Сесилька пошла в первый класс в Берлине, а Он, так Его, спокойно в тишине и покое пять месяцев, как какой-то вольный студентик, в Видно осуществлял «проект всей своей жизни»?! Очередной проект всей жизни. Потому что Ему каждый проект таким казался и каждый его пленял – а потом разочаровывал, по пути надоедал, потом начинал раздражать, а в конце высасывал из Него все соки, чтобы в самом конце превратиться в кусок дерьма, с которого корпорация получала все возможные прибыли и выгоды, а Он – только геморрой. Очередной «проект всей жизни», ну да! Он как будто был каким-то героем дурацкой компьютерной игры, в которой у каждого по нескольку жизней. И не замечал, что у Патриции-то жизнь одна. Как у Него самого. И что у нее есть свои чувства и желания, что она хочет делить эту свою единственную жизнь с Ним. Она загибалась в городе, которого не понимала, в стране, которую не любила, вынужденная иметь дело с берлинскими чиновниками, предубежденными против поляков и Польши, она заполняла все эти жуткие, дико сложные документы, написанные языком, который она тогда только учила, со словарем в руке. Причем словарь не сильно помогал, потому что и сами-то немцы этого бюрократического языка почти не понимали – он был только для посвященных. А она пыталась – чтобы записать их дочку в самую главную школу в жизни ребенка. Их единственного ребенка, между прочим! Его ребенка! Вот это и есть «проект всей жизни». А Он в это время сидел себе спокойненько целыми днями и ночами в тесном кабинетике, и когда у Него что-то не получалось, для релаксации слушал Моцарта и попивал вино, а когда даже Моцарт и вино не помогали – выходил себе на прогулочку на площадь Святого Штепана, садился на одну из отполированных до блеска туристами лавочек и наслаждался летним теплом и тишиной летней ночи. Берлин? Дом? Его дочка идет в первый класс в чужой стране? И в Его отсутствие все падает на плечи Патриции? Все это было где-то далеко-далеко, как будто в другой реальности, Его никак не касаясь. А Он находился в реальности другой. Он бросил ее, черт возьми! Оставил ее одну в параллельной вселенной. А Сесильку – тем более.
А Дарья? Разве Он не вычеркнул ее из своей жизни таким коротким росчерком пера, зачеркнув ставший ненужным номер телефона в записной книжке? Как мы делаем с теми, кто умер или стал нам не нужен и не интересен?
Без объяснений и комментариев. Влюбленную в Него студентку, юную и безнадежную любовь которой до этого спокойно принимал и пользовался ею? Не сопротивлялся – наоборот. Подогревал свое мужское эго, тешил свою мужскую гордость ее молодостью, ее трепетом, ее нескрываемым желанием, которое постоянно в ней разжигал. Как лев-самец, который в апогее своего кризиса среднего возраста летит кубарем вверх ногами и отчаянно жаждет подтверждения, что все-таки еще сможет когда-нибудь встать на ноги и снова править прайдом. И привлекать самых молодых и красивых львиц.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?