Текст книги "Достоевский"
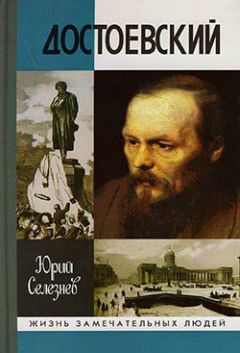
Автор книги: Юрий Селезнев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Белинский зовет этого врага социальным неравенством. Но, похоже, оно – следствие чего-то, а не первопричина. Рок, неравенство, крепостничество, деспотизм, черт, дьявол – только разные названия, разные проявления чего-то одного, давящего, растлевающего, невыносимого, увидевшегося ему вдруг в образе страшного старика.
Как-то лет пять назад Достоевскому попалась только что вышедшая «Книга жития святых». Жизнеописание губителя душ Моисея Мурина, на старости раскаявшегося и даже признанного святым, поразило его сознание. Губительство было столь явно, а раскаяние столь риторично, что не верилось в него, и от этого становилось еще печальнее: режь, бей, растлевай, гуляй вовсю – потом покайся, и прощен? Что-то здесь не так, что-то не верится в искренность покаяния убийцы и растлителя. Не еще ли большая тут лукавость? Во всяком случае, старик у Достоевского стал зваться Муриным, а имя Моисей он изменил на Илью. Может, чтоб не слишком выдавать источник?
Повесть-сказка. Современная сказка. Петербургская сказка под пером Достоевского разворачивалась на одной из окраин фантастического города.
Явь и мечта, пережитое и домысленное, правда сказки и правда реальности, история души героев и души народной причудливо перемешались, сплелись, искали и пытались находить себя в соответствующем слове. Поэтика гоголевских «Вечеров», русского былинного сказа, песни, заговора, мещанская речь петербургских окраин, язык возвышенных мечтаний и социальных утопий – все это должно было переплавиться в новую реальность повести «Хозяйка», над которой работалось легко и радостно, как давно уже не работалось, со времен «Бедных людей».
Сказка просила исхода, молила об идеале – победит ли мечтатель старца в борьбе за дремлющую душу Катерины? Жизнь требовала иной, суровой правды – мечтательством старца не осилить, не пробудить народную душу. Полюбить мечтателя – полюбит, но пойти за ним – не пойдет, потому что нет у него воли взять ее и увести с собой, и останется опять одна с проклятым чародеем. Нет, тут не мечтательство спасет. Тут дело необходимо. Но что делать? Кто скажет?
Не терпелось показать повесть Белинскому. Казалось, теперь-то не только он – мир содрогнется и не успокоится, пока не ответит делом на заданный им вопрос. И конечно, прятал даже и от себя, от себя-то, может быть, и прежде всего, надежду: прочтут и увидят, не могут же не увидеть, поймут и пересмешники его, над кем потешались, и раскаются. И она пусть увидит. Нет, он уже и не думает о ней, он не хочет даже, чтобы она полюбила его, все прошло, все минуло, до любви ли ему, но пусть все-таки видит и знает…
Глава третья
Искушение
Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему.
Достоевский
1. Уроки
Последнее время отношения его с Белинским становились все более напряженными. Однако, даже совершенно рассорившись с его друзьями (однажды, встретив на Невском Панаева, который хотел подойти к нему, Достоевский резко повернул и перешел на другую сторону улицы), к Белинскому продолжал тянуться и при всяком удобном случае бывал у него. «…Это такой слабый человек, – писал он в ноябре 1846-го Михаилу, – что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный». Да и сам Белинский не выдерживал долгих размолвок, посылал записку неуживчивому, болезненно ранимому «гению»: «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть вас…» И Достоевский, улыбаясь шутливой иронии критика (это он, Достоевский, до хрипоты убеждал Белинского, будто даже и у него, убежденного атеиста, знает он это или нет, верит или отрицает, но и у него душа все-таки бессмертна), мчался к нему на Фонтанку, на второй этаж, в бывшую квартиру Краевского, теперь занимаемую семьей Белинского. Как бы то ни было, он продолжал любить Виссариона и беспредельно ценил его за бесконечную преданность идее. Панаев, кажется, рассказывал, что Белинского не раз упрекали в измене делу, идее, в том, что его сначала подкупил Краевский, потом еще кто-то…
– Меня нельзя подкупить ничем! – говорил Белинский. – Мне легче умереть с голода, чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя…
Достоевский знал – это было сказано искренне и точно.
Да, он любил Белинского, но тот нередко и кощунствовал, как полагал Достоевский, доводя его до дрожи возмущения.
Достоевский легко и жадно впитывал в себя социалистические идеи учителя. Сложнее было с традиционной, доставшейся ему как бы по наследству религиозной верой. «Учение Христово он (Белинский), как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами», – писал позднее Федор Михайлович. Тут-то и начинались споры. Один горячо отстаивал веру. Другой наступал, переубеждал. Авторитет первого критика, неистовая убежденность его в своей правоте заставляли молодого совсем писателя переступать, казалось, через то, что является главной частью самой его личности, самой его природы…
На всю жизнь заронит Белинский в его сознание семена сомнения, хотя ему так и не удастся искоренить в Достоевском самую потребность веры. Никогда больше не сможет он вернуться к простодушной религиозности детства и отрочества, никому не удастся сделать из него и ортодоксального верующего.
«Главный вопрос… – так определит его сам Федор Михайлович, – которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие».
Принимая убеждения Белинского, Достоевский переступал через многое из того, что почитал недавно незыблемо святым, даже и через своего наивно-детского Бога. Но через Христа переступить он так и не смог: «…оставалась, – по его словам, – однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться…» Образ страдальца, пошедшего на крест за истину, во имя человека, вошел в его кровь и плоть с тех пор, как он помнил себя, с первыми потрясениями детской души, вошел однажды и на всю жизнь.
– Да послушайте же вы, наивный вы человек, – начинал свою проповедь Белинский, – послушайте и уразумейте: в наше время и в нашем обществе нет и быть не должно никакого иного идеала, кроме социалистического. Да приходилось ли вам читать социалистов? Прочтите хоть Ламенне: «Имеющие уши да слышат, имеющие глаза, пусть откроют их и видят, – это к вам, к вам, к таким вот, как вы, незрячим, обращается наш пророк, – жег его голубым огнем своих глаз неистовый Виссарион, – пусть откроют их, – повторил он, – и видят, ибо близится время. Отец породил сына, свое слово, и слово стало плотью, и сын жил между нами; он пришел в мир, и мир не признал его, – он особо нажал на это слово, – не признал его; он придет снова… – Нет, нет. Вы не перебивайте, вы дослушайте до конца – он придет снова и обновит землю… Прислушайся и скажи мне, откуда исходит этот неясный, неопределенный и странный шум, который доносится со всех сторон? Положи руку на землю и скажи мне, почему она содрогнулась. Что-то, чего мы не знаем, совершается на земле. Это дело Божие…» Понятен ли вам смысл сих пророчеств? Это к таким, как вы, верующим, обращается он на языке вам понятном, но уразумели ли вы, что означает это второе пришествие? Так уразумейте же – социализм, вот что грядет, вот что совершается на земле, вот истинно дело Божие. Социализм ныне – идея идей, альфа и омега и веры и знания. Попомните – настанет день, придет время, когда никого не будут жечь, когда преступник как милости и спасения будет молить себе казни, и не будет ему казни, но сама жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть… И не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но все люди на земле будут братья, и Отец – Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над обновленною землею.
– Да какой же вы атеист, вы-то, может быть, и есть самый что ни на есть истинный христианин, только вот…
– Я – социалист, – обрывал его Белинский, – и верую в единственное – в социализм, а не во Христа, как вы… Да поверьте же вы, на вас даже смотреть умилительно, наивный человек, – успокоившись на мгновение, вновь набрасывался на него Белинский, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
Кто-то из присутствующих при этом споре возразил:
– Ну не-е-ет!.. Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его…
– Ну да, ну да, – вдруг согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.
К такому компромиссу начинал склоняться, кажется, и сам Достоевский: открывалась возможность, не переступая через самого себя, соединить в своем сознании, казалось бы, несоединимое – христианство и социализм – пусть в еще не оформленное вполне, но все-таки приемлемое для него тогда целое.
Дело освобождения народа, как ни называй его – хоть социализмом, хоть атеизмом, – дело Христово, Божье дело – вот что мирило его с верой Белинского. Христос как идеал человека, переродившего мир словом, по убеждению Достоевского, вполне соединялся в его сознании с социалистической идеей освобождения народа, установления всеобщего равенства и братства. Слово и дело объединялись в единство идеи-страсти, которая овладевала им теперь вполне и надолго. Может быть, навсегда? Как знать…
Спорили и о Пушкине. Горячо спорили. Гоголь – гений, Гоголь – велик, Достоевский его чуть не всего наизусть выучил – столько читал и перечитывал, да и сам слишком многим обязан ему, – все это так, никто с этим не спорит, но зачем же унижать Пушкина, зачем одного только Гоголя ставить знаменосцем «натуральной школы», за которую ратоборствует Белинский? Разве сам Гоголь не всем или не главным в себе обязан Пушкину? Белинский, столько сделавший для того, чтобы имя и значение Пушкина дошли до каждого, кто способен видеть и слышать, утвердивший его в русском общественном сознании как поэта национального, как народного поэта, в то же время видел в Гоголе начало более важное, нежели в Пушкине, – начало социальное. Потому-то Гоголь и поэт более в духе времени, нежели Пушкин. Достоевский не соглашался. И как же он обрадовался тогда, прочитав в десятой книжке «Отечественных записок» за 1846 год последнюю, одиннадцатую статью Белинского о Пушкине, в которой критик впервые поставил Пушкина рядом с Гоголем в качестве родоначальника «натуральной школы», и притом – перед Гоголем! Может быть, и не без влияния его «Бедных людей»? Ведь сам Макар Девушкин узнал себя в Самсоне Вырине, а за Акакия Акакиевича оскорбился. Да, Макар Алексеевич, конечно, человек не передовой, но не сам ли Белинский сказал о нем: «Он тоже человек и брат наш…»
И еще предмет для спора: почему Белинский решил, что фантастическому в наше время место только в домах умалишенных, а не в серьезной литературе? Разве мечты, самые фантастические сны наяву не такая же реальная действительность, порожденная условиями нового времени, как и сама идея социальности? Разве внутренний мир человека, пусть и больной мир – ведь и болезни эти тоже социальны, – не фантастичен?
– Да, да, – соглашался с ним критик, – мир внутренний обаятелен, но без осуществления вовне, в реальной действительности он только мечта, мираж…
Да, и ему, Белинскому, приходилось сколько раз прятаться в фантазии от реальной жизни, но сон всегда заканчивается все-таки пробуждением, пока человек жив. И какова бы ни была эта жизнь, даже самая ограниченная, самая пошлая действительность все-таки лучше вечного пребывания в мечтах…
Пора проснуться, пора наконец посмотреть на мир не с высот своих фантастических снов, а трезво и здраво; посмотреть и увидеть, что мир не мечта, не представление, а суровая обыденность; не мечтать нужно – действовать! Наш век – враг мечтательности, – тем он и велик! Действительность – вот лозунг XIX века; действительность во всем – в верованиях, в искусстве, в самой жизни.
Достоевский согласился. Принял и это учение критика и уже вскоре в одном из воскресных фельетонов («Петербургская летопись» в газете «С.-Петербургские ведомости») в июле 1847-го чуть не буквально повторял мысли учителя: «…жажда действительности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадет случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей… Говорят, что мы, русские, как-то от природы ленивы… Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше?.. Но… многие ли нашли свою деятельность?.. А бездеятельность и рождает мечтательность, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода – мечтателем…»
Все это так, теперь он уже докажет всем своей «Хозяйкой», сколь общественно пагубно мечтательство, неспособное постоять в действительной борьбе за душу народную… Правда, повесть фантастична, но тем-то он наглядно докажет и всем, и Белинскому прежде всего, что фантастика его петербургской сказки – только форма реальности, позволяющая за обыденностью видеть общее. Сказка… Что ж, что сказка? Сказка – ложь, да в ней намек! Нет-нет, тут Белинский не прав: Пушкин, Гоголь, Гёте, Сервантес – разве их образы сплошь лишены фантастичности, но разве же не они величайшие реалисты?
«Пиковая дама», «Египетские ночи», «Медный всадник»… «Нос», «Вий», «Шинель» чужды фантастике? Нет-нет, тут что-то не то, не то…
Необыкновенный талант, зорко угаданный у самых истоков его пробуждения Белинским, бунтовал, не хотел и не мог вместиться ни в какие рамки, даже и в те, которые приготовил ему гений учителя. В нем рождалось еще не осознанное им самим вполне нечто новое, могучее, подлинно небывалое, мучительно ищущее и пока не находящее еще для себя достойных его форм проявления. Теперь вся надежда на «Хозяйку»: она должна доказать реальность и действенность небывалого. Скорее бы только возвращался Белинский.
Он уехал в Европу вконец измученный. Смерть сына Владимира чуть совсем не свела его в могилу. Мария Васильевна родила в ноябре. Белинский ждал этого часа в нетерпении и растерянности: расставил зачем-то по всей квартире свечи и зажег их, нервно ходил от одной печи к другой и не мог унять дрожи. Тургенев считал новорожденного своим крестником. Обычно, как вспоминала Аграфена Васильевна, приходя в гости, он имел обыкновение звонить вовсю, шумно входить в дом и тут же всем грузом большого тела бросаться на диван, так что на нем порою лопались пружины. Теперь, заходя к крестнику, звонил осторожно, входил на цыпочках, говорил вполголоса, что растрогало всех и удивило…
Через четыре месяца его крестник внезапно умер. Отец страдал невыносимо, а ночью, если даже удавалось уснуть, хрипел и стонал. Исхудал и стал совсем плох.
Что он теперь? Подлечат ли его хоть немного немецкие профессора и прославленные воды?
Лето 1847-го сразу же началось с непривычной для Петербурга жары. Город опустел. Кто мог, перебирался в зеленые пригороды. Достоевский снял дачу в Парголове, где продолжал работу над начатым почти одновременно с «Хозяйкой» романом «Неточка Незванова». Трагическая судьба непризнанного гения-музыканта; по-детски влюбленная в него падчерица Неточка, аристократический дом, куда она попадает по воле судьбы, ее новая подружка, властная дочка князя; сокровенный мир детских душ со своими трагедиями; вызревание в Неточке таланта замечательной певицы… Поэтическая история давалась легко; Достоевский начинал чувствовать уверенность в себе, его талант обретал мастерство. Появившиеся в журналах «Деревня» Григоровича, «Бурмистр» Тургенева, «Кто виноват?» Герцена прочитал, высоко оценил, но еще больше укрепился в сознании, что первенство в современной литературе все-таки остается за ним.
Продолжает уговаривать брата Михаила перебираться с семьей в Петербург. Много гуляет и даже принимает участие в местных забавах: собирает деньги в пользу одного парголовского пропойцы, предлагающего посечься за деньги… Да и здоровье как будто начинает устанавливаться. Словом, жизнь обещает впереди не одни шишки на бедного Макара, но намекает и на кое-что понадежнее.
Как вдруг ему пришлось ненадолго уехать в Петербург – к этому времени он уже снял новую квартиру, в доме Шиля, на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской и, конечно, как всегда, с видом на церковь. Он шел по Исаакиевской площади и внезапно почувствовал приближение того тяжелого, неотвратимо надвигающегося изнутри. На счастье, рядом оказался доктор Яновский, который и отвез его к себе домой в тяжелейшем состоянии. Самое страшное, кажется, уже прошло, но пульс все еще был бешеным, все тело содрогалось в конвульсиях. Пришлось «отворять кровь». Аполлон Майков, случайно зашедший по дороге домой к Яновскому, застал Достоевского сидящим с поднятою рукою, из которой лила черная кровь.
– Спасен, батенька, спасен! – возбужденно вскрикивал несчастный.
Такой силы припадков с ним еще не случалось. Невесело было сознавать, что нравится ему или нет, но придется привыкать к этому новому постояльцу, поселившемуся в его теле без спросу и даже как-то незаметно для самого хозяина, но теперь вот все более определенно заявляющему свои права.
Достоевский с первых же дней знакомства с Яновским стал увлеченно читать медицинские книги из его библиотеки. Особенно заинтересовался литературой о болезнях мозга, нервной системы, душевных заболеваниях. Увлекла его и входившая в моду теория Галля, по которой характер и наклонности человека зависят от устройства его черепа, от наличия шишек и впадин на нем, а также их местоположения. Яновский находил сходство его черепа с Сократовым, что доставляло удовольствие Достоевскому. Ощупывал свою голову, тут же выясняя у Яновского в случаях, если сам не мог определить по Галлю значение той или иной его части.
– А что шишек на затылке нет – это хорошо, – приговаривал он, совершая исследование, – значит, не юпошник; это верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна…
В Евгении Петровне, супруге известного художника Николая Майкова, матери Аполлона и Валериана Майковых, Достоевскому, похоже, виделся идеал женщины и в первую очередь, конечно, матери. Казалось, пока в доме царствует такая женщина, ничто не угрожает ему, ни грусть, ни беда, ни другие невзгоды. И вдруг – словно невидимые опоры рухнули– 15 июля Валериан внезапно умер от апоплексического удара, купаясь в пруду. Скорее всего перегрелся перед тем, как броситься в холодную воду. Нелепо. Он не дожил месяца до двадцати четырех лет. Талант его обещал многое. Сменив Белинского в «Отечественных записках», он, даже и по мнению друзей Виссариона – Тургенева и Некрасова, сумел и заменить его как ведущий критик журнала. Авторитет Белинского, вне всякого сомнения, продолжал оставаться для Достоевского выше авторитета Майкова, но и молодой Валериан, позволяющий себе категорически оспаривать некоторые важнейшие суждения первого критика и к тому же столь высоко оценивший произведения Достоевского, все более и более влек его к себе.
И сам Белинский высоко ценил талант Валериана, но не однажды высказывал он и серьезные опасения относительно некоторых суждений Майкова.
– «Свобода не имеет отечества!» – Вот ведь к чему эти абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве хотят приучить наше сознание, – воспламенялся Белинский. – Ежели ты патриот, стало быть, ты не гуманен, не цивилизован, не просвещен – не дорос. Одним словом, варвар! Вот и ваш, – он почему-то ударил на это слово, – ваш Майков начитался таких же европейских человечков, и показались они ему гигантами мысли, испугался прослыть варваром, патриотом – туда же, во всечеловечность, полез. Да вы почитайте, почитайте, что он пишет, ваш Майков: художник, видите ли, погибнет, если вместо выражения общечеловеческих идеалов окажется окованным цепями национальной односторонности; договорился до того, что объявил национальность тормозом на пути к общечеловеческому идеалу… Абстракции, трескучие фразы, а в результате – теория о неспособности «инертной массы» к прогрессу и творчеству. А знаете ли вы, наивный вы человек, что скрывается за всем этим? Не знаете, а я вам скажу: неверие в свой народ… «Инертная масса» – да посмотрите же вы, абстрактные гуманисты, повнимательнее, подумайте, поразмыслите, – почему она инертная, всегда ли она инертная и что можно и нужно сделать, чтобы она не была инертной! Но какое нам дело до массы? А вы поглядите, господа гуманисты, на нее другими глазами, глазами русского человека, патриота, может быть, и заметите тогда, что это не просто масса, а народ, русский народ, не такой уж инертный, как вам представляется. Только где ж вам это увидеть, ежели для вас и понятие-то само – русский народ – не существует, а есть только масса, некая абстракция, с которой, конечно же, можно не считаться вовсе. Крепостное право, батенька, – не абстракция, а привилегия одного только русского народа. Ну а коли масса, так и не все ли равно – пусть себе хоть какую-никакую привилегию, а все-таки имеет. Вот ваш и гуманизм без патриотизма. Майков человек безусловно талантливый, но талант его может погибнуть на почве гуманистического космополитизма, который он исповедует и проповедует. Впрочем, надеюсь, это по молодости, хочется, знаете ли, сразу всечеловеком стать, а быть просто российским патриотом, жизнь положить за освобождение своего народа от гнусного рабства – фу, как это недостойно столь образованного, столь всеевропейски мыслящего интеллигента…
А знаете ли вы, что сегодня отрицать национальность – это и значит быть ретроградом и повторять европейские зады? Да, мы долго восхищались всем европейским без разбору только потому, что оно европейское, а не наше, русское, доморощенное. Настало время для России развиваться самобытно, из самой себя. В нас сильна национальная жизнь, и мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. Народ без национальности – что человек без личности, запомните это, батенька, и хорошенько запомните, если хотите стать всемирным писателем, потому что все великие люди – это прежде всего дети своей страны. Великий человек – всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой народ. А народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. И вопреки абстрактным человечкам, космополитическим гуманистам, для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим…
Перечитывая свежую статью Белинского – «Русская литература в 1846 году» – не лихорадочно, как в тот, первый раз, не выискивая в ней лишь строки, посвященные ему, Достоевский все более проникался учением страстного проповедника, бойца, великого патриота своего угнетенного народа – Виссариона Белинского. В этой статье Достоевский узнавал многое из того, в чем не раз убеждал его учитель во время личных бесед. Увидел он и страстную отповедь «космополитическому гуманисту» Майкову, как называл его Виссарион Григорьевич. И как бы ни язвили его самолюбие некоторые из суждений Белинского о его романах, общее направление мысли Белинского представлялось ему справедливым.
Теперь Достоевский был убежден, что его «Двойник» и не мог вызвать восторга критика как раз потому, что в нем преобладает именно чувство, которое Белинский называет абстрактным гуманизмом, тут мало национальности, мало народности; как писатель Достоевский раньше как-то совсем и не задумывался об этом. Так мечталось поспорить теперь с честным, талантливым Валерианом – он смог бы наконец признать правоту Белинского – и вот… Поговорили… Поспорили…
Валериан, Валериан… Где-то теперь? Неужто только там, в сыром чреве земли, и нет бессмертия твоей душе и ничьей нет? Неужто и в этом прав Белинский? Но тогда зачем все это – муки, и страдания, и борьба, и споры, и бессонные ночи – не с любимой женщиной, а с толстой пачкой белой бумаги, заметно худеющей к утру? Зачем все это – и слава посмертная, и памятники, и высокие слова на могилах, если тебя уже не будет? Совсем не будет. Только там, в земле. Да и то, разве ты там, а не разбитый глиняный кувшин, оставшийся от тебя? А ты, именно ты сам, неужто только в словах, в книгах, написанных тобой, да в памяти людской о тебе? И все? И больше ничего?..
Скорее бы приезжал Белинский, скорее бы прочитал «Хозяйку» – уж это-то не абстрактный гуманизм, уж тут-то народности через край – вот и ответ на его проповедь. А «Двойника» он еще перепишет, он еще докажет. Все еще впереди!
В Парголове Достоевский однажды вновь встретился с Петрашевским и на этот раз решил посетить одну из его «пятниц». Оказалось, из знакомых его у Петрашевского бывал не только Плещеев, но и Аполлон Майков заходил. Собирались здесь в основном люди молодые, симпатичные, но разношерстные. Были и начинающие литераторы. Поэт и автор рассказов Александр Пальм – из обрусевших немцев; мать его – бывшая крепостная отца, захудалого провинциального дворянина, а Саша – уже офицер лейб-гвардии егерского полка, большой поклонник Лермонтова… Поэт Сергей Дуров недавно бросил службу в министерской канцелярии; надеясь прожить литературным трудом, скоро оказался без гроша. Молодой совсем титулярный советник, служащий канцелярии военного министерства Михаил Салтыков, недавний выпускник Царскосельского лицея, стихотворец, мрачный не по годам молодой человек. Достоевскому уже приходилось слышать это имя и от Валериана Майкова, и от Белинского. Авдотье Яковлевне Панаевой он запомнился еще лицеистом: «Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал… Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей и оттуда внимательно слушал разговоры».
Белинский расхаживал по комнате и распекал Комарова, известного всему кружку хвастуна… «Господи, зачем я вру!» – патетично восклицал Комаров. «Мамка вас в детстве зашибла!» – заметил ему Белинский. При этих словах на лице лицеиста изобразилась улыбка. Это был единственный случай, когда в кружке Белинского увидели улыбающегося Салтыкова. Он умел удивлять неожиданностями. В другой раз он поразил ту же Авдотью Яковлевну своими высокими знакомствами: «Однажды я шла с Панаевым по Невскому, и мы встретили графа Канкрина, который был хорошо знаком с Панаевым. С Канкриным шел какой-то статский. Оба раскланялись с Панаевым. “Кажется, это тот сумрачный лицеист?..” – спросила я… „Да, это Салтыков“, – ответил мне Панаев…» Титулярный советник на Невском под руку с графом, с министром! – такое действительно не каждый день можно увидеть…
Бывали на «пятницах» и просто офицеры, не пишущие ни в стихах, ни в прозе: Федор Львов, друг и сослуживец Пальма; бывший флотский офицер, ныне архивариус Министерства иностранных дел Александр Баласогло; офицер черноморского флота Константин Тимковский и гвардейские офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли; молодые ученые Николай Мордвинов и Владимир Милютин и совсем молодой, двадцатилетний правовед Василий Головинский… Впрочем, все вместе собирались, видимо, редко: каждую пятницу приходили новые, а некоторые из уже бывших не появлялись. Собирались не только у Петрашевского, но иногда и в домах других посетителей.
Толковали о Фурье, о музыке, коммунизме, литературе – словом, о многом, что волновало молодых людей широких взглядов, горячих, честных, скучающих в кругу служебных, практических интересов, жаждущих интеллектуального общения. Более всего привлекала в дом Петрашевского его библиотека. Как переводчик департамента внутренних сношений, Петрашевский нередко участвовал в процессах по делам иностранцев, в составлении описи имущества, особенно библиотек. Он изымал интересовавшие его книги и подменял их при описи другими. Таким образом у него собралась целая коллекция достаточно редких книг: Сен-Симон, Кабе, Фурье, Ламенне, Оуэн, Леру, Фейербах, Вольтер, Руссо, Прудон, Штирнер, Дидро, Консидеран…
«Пятницы», впрочем, не привлекли Достоевского: ничего нового для себя он здесь не услышал, круг обсуждаемых вопросов был давно знаком ему по кружку Белинского. Кажется, ничем серьезным эти разговоры не грозят, решил он, так что делать здесь особо нечего. К тому же в начале осени Михаил наконец вышел в отставку и переехал с семьей в Петербург – нужно было попервоначалу помочь ему обжиться в чужом, нелегком городе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































