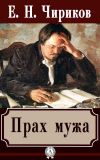Текст книги "Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному"

Автор книги: Юрий Векслер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сиквел «Дома с башенкой» особенно понравился Тарковскому.
Выступая на обсуждении, он говорил:
А.Т. Я с большим нетерпением ждал появления сценария Фридриха Горенштейна. Заявку второй половины этого сценария мы прослушали, и мне она чрезвычайно понравилась.
Я не могу согласиться с Норой Алексеевной [Рудаковой – Ю.В.], что эта заявка отличается по ходу от замысла того, что мы имеем сейчас. Я не хочу сказать, плохо это или хорошо, я просто констатирую факт.
Второе – товарищ Бакланов сказал здесь, что это является продолжением первой половины рассказа и, соответственно, должно как-то оттенять первую половину и соотноситься с первой половиной абсолютно. Это совершенно справедливое впечатление, если считать рассказ «Домик с башенкой» частью сценария. Я категорически отношусь к людям, которые считают, что не должно входить в сценарий никоим образом. Это было бы детективным, нереальным, и весь ужас, пережитый мальчиком на войне, он не нужен здесь, ибо в герое, написанном во второй части сценария, которую я считаю в основном законченной вещью, достаточно прочитывается его прошлое.
Более того, такая форма, где человек в душе, в сердце носит это окаменевшее, есть в сценарии. Такой мотив окаменевшего впечатления, окаменевшей боли в этом сердце – это в общем есть, и вовсе не интересно мне (и было бы ужасно) разоблачение, неглубокое такое, а также это такое конкретное в образах, в характерах, в воспоминаниях, которое мы пережили, так как мы прочитали первую половину рассказа так, как показывал Горенштейн. Обсуждался у нас этот рассказ? Второй раз не обсуждался? Значит, в частной беседе я говорил об этом с кем-то… Понимаете, в чем дело? Дело в том, что в «Домике с башенками» два разных темперамента, два разных уровня талантливости и два стиля.
Если первый рассказ банален, то второй рассказ глубоко оригинален и глубоко интересен.
Г.Я. [Бакланов] Как раз наоборот.
А.Т. Я высказываю свою точку зрения.
Из того посыла, который был дан в первой половине, родился замысел более насыщенный.
А что касается фильма, который я себе представляю по этому сценарию, то он может быть чрезвычайно интересным, глубоким и необычайно реалистичным в своем исполнении. Этой реалистичности автор все время требует от режиссера.
Казалось бы, хочется ввернуть какое-то воспоминание, но я думаю, как это будет ничтожно, наивно и глупо. Тут необходимо реалистическое проникновение в ткань этого произведения.
Теперь уже конкретно, касаясь замысла и идеи.
У меня тоже есть претензии к сценарию, но они не принципиальны. Речь идет об исполнении отдельных эпизодов этого сценария. У меня есть неудовлетворенность некоторыми сценами от каких-то их излишеств. Но я понимаю возможность появления этих сцен и возможность их переделки или написания заново.
Но не это меня волнует. Меня волнует совсем другое. Что это за персонаж? Товарищ Бакланов говорил об этом. Скажу и я.
Это не единственный путь, по которому пошел автор в раскрытии этой темы, конечно, это не единственный путь. Если бы эта тема была дана какому-то другому писателю, то возможно, что он сделал бы ее по-своему. Сама эта тема не может не касаться всех, она касается всех. Это тема человека, который носит в себе войну. У каждого есть такой исковерканный войной кусок жизни.
Автор пошел по пути показа человека, больного воспоминаниями о войне. В нем окаменела ненависть к ней, ненависть к страданиям, полученным от нее. Он смотрит на мир как-то очень однобоко.
Вы говорите о том единственном пути, по которому пошел автор. Да, это однобоко. Но и все рассказы Толстого крайне однобоки и критикуются за эту однобокость. Это потому, что автор отстаивает свою реалистическую позицию исследования жизни. Это не порок.
Тут мы имеем дело со сценарием, которые на реалистической канве исследования жизни высказывает субъективную, очень личную, глубоко волнующую всех точку зрения.
Вот что меня привлекает в этом сценарии. При гражданственной такой интонации, очень понятной, очень личное исполнение этой вещи и лирическое, в таком классическом понимании лирическое, личное. Мне это нравится. Мне настолько нравится этот сценарий, что если бы произошла катастрофа с «Андреем Рублевым», я просил бы закрепить меня, чтобы сделать этот фильм. Это требует, может быть, перестройки какой-то эстетической, но этот сценарий меня глубоко взволновал. Я бы сказал, что это блистательный сценарий. Правда, он требует какой-то определенной точки зрения на вещи, учитывая, что этот человек рассказывает с очень оригинальных позиций, раскрывает эту проблему антивоенную, антитоталитарную. Вся эта тема, вся эта проблема – это проблема самая современная, которой может быть посвящен современный кинематограф и литература вообще. Это проблема разрушения человеческих контактов. Вот тема этой вещи, и автор с яростью, с темпераментом показывает, что никто так не разрушает человеческие контакты, и об этом можно судить сейчас, когда войны нет, когда она в прошлом и когда мы боремся во имя спасения мира, но именно сейчас можно терять человеческие контакты во имя пережитого, из-за пережитого, благодаря пережитому. Это глубоко современное решение этой проблемы и очень важное, на мой взгляд. Есть такие эпизоды, лучшие, кстати, эпизоды, которые не являются, что ли, иллюстрацией идеи или частью общего замысла и идеи, положенной на эту полочку этого эпизода, – очень реалистичные, очень правдивые; поэтому не получается этого схематизма драматургического, к которому мы привыкли, и очень хочется просто понять, просто оценить каждый эпизод в соответствии с замыслом.
Замечательный эпизод в парке, в горсаду с фейерверком. Это высокий класс именно в чувственном виде. Это когда вдруг среди зеленой темной листвы начинает взрываться ракета, мерцают эти прутики и потом в полной темноте начинают остывать эти раскаленные прутья и человек с только что пережитым страданием этого прошлого, не рядом с этим праздником феерии, праздником жизни, а рядом с чем-то – не могу объяснить. В темноте эти остывающие металлические прутья, которые были основанием для пороховой ракеты. Это хорошо, это образ, связанный с конкретным ощущением, человеческим ощущением, которое, кстати, очень хорошо сделано.
Цитата из сценария
…От быстрой ходьбы во рту у него пересохло и начало подташнивать, тогда он привалился к какой-то решетке. За решеткой были странные сооружения: на тонких жердях покачивались громадные многогранники, кубы, усеченные пирамиды, а в центре, вокруг шара-ядра – пересекающиеся эллипсы.
– Природа, – сказал Сергей вслух. – Вот она, наглядное пособие, как все просто и ясно. Атомы одних веществ замещаются атомами других веществ… Жизнь и смерть – это просто химический процесс…
Многогранники плавно покачивались, негромко позвякивали, и Сергею внезапно стало страшно, все исчезло, он был наедине с первозданной материей. «Цикл завершается, – подумал он. – Человек вновь, как в первобытные времена, наедине с природой, лицом к лицу». И действительно, среди атомов и молекул он увидел человека в кепке и хлопчатобумажном пиджачке. Человек спокойно ходил, прикасался рукой к тонким жердям, и внезапно все затрещало, вспыхнуло, завертелось, синее, зеленое, фиолетовое, красное пламя бушевало вокруг многоугольника, сыпались искры, с воем и шипением из гущи пламени вырывались ракеты и лопались, рассыпались в небе, освещая верхушки деревьев, бледнели звезды, длинные тени, неожиданно возникая, проносились по земле в разных направлениях, и поднятые кверху хохочущие лица людей становились то ярко-зелеными, то розовыми, то голубыми…
Наконец все стихло, потемнело, пахло дымом и порохом, а многоугольники за решеткой исчезли, дымились обугленные жерди, лишь кое-где они были темно-вишневые, раскаленные, но и там, шипя, остывали, покрывались сизым пеплом. Толпа подхватила Сергея, понесла, он очутился возле танцплощадки, купил зачем-то билет и вошел за низенькую ограду…
А.Т. Эта предыстория перед парком и вся история в парке сделаны на высоком уровне, и давно я ничего подобного просто не читал. Я не говорю уже о том, как сдают на права эти инвалиды. Это просто блестящий эпизод, причем блестящий своей правдивостью.
Цитата из сценария
Автобус проехал по мосту над болотистой речушкой, а за мостом виден был лес и слышен был треск множества мотоциклетных моторов.
– Глянь, сколько их, – сказал кто-то. – На права сдают.
Автобус остановился, и Сергей сошел. Он увидел утрамбованную площадку, а на ней несколько десятков инвалидных мотоколясок, и попытался вспомнить, кто ж ему говорил вчера об этом, но никак не мог вспомнить. Площадка была в сложном порядке размечена флажками, и коляски инвалидов пробирались в этом лабиринте. Сергей подошел ближе. Вокруг смеялись, шутили, было жарко, и многие инвалиды разделись. Неподалеку от Сергея сидел широкоплечий инвалид в тельняшке. Культяпка у него была с татуировкой: какая-то расплывшаяся надпись и часть женской головки, срезанная вкосую.
– Что, Петя, – сказал ему инвалид в старом танковом шлеме, – нижнюю половину, миленький, потерял?
– Там у меня еще дамское имя было, – сказал Петя. – Красной тушью наколол… В сороковом году… Теперь это, может, и к лучшему, жена ревновать не будет.
– Застрял Мишка, – голубоглазый инвалид показал на заглохшую среди флажков коляску. Инвалид был в сетке с короткими рукавами и под сеткой, через грудь, у него тянулась лента, на которой держался протез.
– Нет лучше лошади, – заметил круглолицый упитанный инвалид. – Мы на них всю Белоруссию прошли, болота… Лошадь ударишь крепче, она и потянула.
– Ты рассуждаешь как враг прогресса, – сказал голубоглазый. – Ребята, Перекупенко – враг прогресса. Ты не вовремя родился, Перекупенко. Тебе надо было жить во времена древней Руси, и ноги бы тебе обрубили честной простой секирой, – он похлопал круглолицего по жирной культяпке, – а не оторвали этим проклятым тринитротолуолом.
К инвалиду в тельняшке подошел мальчик лет восьми, на поясе у него висела потертая кобура от нагана. Инвалид взял его рукой за голову, пригладил волосы, затем застегнул пуговицу на штанишках, а обрубком второй руки осторожно вытер мальчику лицо.
– Это у тебя тэтэшка или парабеллум? – спросил мальчика голубоглазый, кивнув на кобуру.
– Он еще необстрелянный новобранец, – сказал инвалид в тельняшке.
– Вот такие пацаны – самый сообразительный народ, – сказал инвалид в танковом шлеме. – Я в начале войны курсачом был, ну постарше, но все ж пацан… Немец десант выбросил, а вокруг никаких частей, кроме нас. И как вчера было, помню: немецкий пулеметчик в скирде засел, ничем его оттуда не возьмешь. Зажигательных пуль у нас тогда не было. Так что ж ты думаешь, сообразили, лук сделали, ремень натянули, намочили стрелу в бензине, сожгли его в той скирде к хренам.
– Тише, – сказал голубоглазый, – не ругайся. – Он торопливо заковылял навстречу въезжавшей на площадку инвалидной мотоколяске. – Здравствуй, Машенька, – сказал он.
Женщине в мотоколяске было лет под сорок. Светло-русые волосы ее ниспадали до плеч, были забраны заколками вправо, и в левом ушке поблескивал в тонкой золотистой сережке зеленый камешек. У женщины была красивая шея и высокая грудь под белой прозрачной блузкой.
– Здравствуйте, мальчики, – весело сказала женщина.
Сергей медленно подошел к лесу. Вдоль реки расположились отдыхающие, слышались хлопки волейбольного мяча, где-то внизу играл оркестр. Сергей пошел в кустарник и начал пробираться, раздвигая облепленные паутиной ветви. Он устал, по лицу его струился пот, а кустарнику все не было конца. Наконец кустарник кончился, и Сергей снова увидал размеченную флажками площадку, услышал треск мотоциклетных моторов. Тогда он побежал назад, едва успевая прикрывать глаза от хлещущих ветвей, и наконец оказался в лесу. Он лег на траву лицом вниз. Сердце шевелилось под ним, ворочалось, прижатое к земле. В лесу крепко пахло хвоей, кричали птицы, мелькнула рыжая белка. И вдруг вновь, совсем близко, раздался треск моторов. Впереди, ограниченный с одной стороны елями, а с другой кустарником, виден был кусок шоссе – белая полоса, похожая на театральный подмосток, – и по нему проносились коляски инвалидов. Это был бесконечный поток искалеченных человеческих тел среди буйной, полной жизни природы, среди щебета птиц, среди тяжелых, налитых соками ветвей, среди травы, полевых цветов, среди всего ползущего, гудящего, прыгающего.
Сергей с трудом повернулся на спину. Он пролежал так довольно долго, потом встал и пошел, припадая к деревьям, глядя на спокойно и бесстрастно шелестящие высоко, под самым небом, ветки. Он услышал смех и визг, кто-то кричал: «Квач, квач, дай калач… Васенька, дай калач…» По поляне бегали несколько мужчин и женщин. Мелькали лысины, седые волосы. Женщины тоже были немолоды. Женщина в сарафане с раскрасневшимся лицом взвизгнула, ловко увернулась от хохочущего Васеньки и, перебежав через поляну, ухватилась за дерево.
Васенька был полуголый, отстегнутые подтяжки болтались сзади и шлепали под ногами. У него осталась лишь редкая полоска светлых волос у ушей и на затылке, тело было крепким, загорелым, а на спине и груди виднелись лучевидные шрамы, следы разрывных пуль, заросшие сизо-багровым диким мясом и по краям затянутые жирком. Какой-то костлявый мужчина подкрался к Васеньке сзади на цыпочках, потянул за подтяжки, Васенька ринулся, пытаясь его достать, но мужчина отскочил и тоже довольно захохотал.
Под кустами в тени светло-голубой «Волги» была расстелена скатерть, и на ней в шелковой пижаме лежал седеющий мужчина с усиками. Он хохотал, каждый раз снимая очки в золотой оправе, вытирая глаза и протирая платком стекла. Одна пижамная штанина его была пуста. Рядом на траве поблескивал никелированными кнопками новенький кожаный протез, и к протезу этому было прислонено несколько бутылок коньяка и большой промасленный пакет. Красивая женщина с сигаретой в зубах стояла на коленях, резала мясо, большие сочные куски. На скатерти лежали толстые копченые колбасы, желтые лоснящиеся круги сыра, стояло несколько вскрытых банок рыбных консервов и фарфоровый бочонок паюсной икры.
Сергей обошел поляну и пошел к шоссе.
А.Т. Автор очень реалистично, очень просто и мужественно об этом рассказывает. Можно даже немножко облегчить для того, чтобы так прозвучало, но это уже частности. Причем самое интересное: стоят регулировщики, которые занимаются этим, и площадки, и какие-то бутылки, но впечатление совершенно ошеломляющее и какое-то ужасно точное.
Тут Нора говорила, что это очень повествовательная вещь, слишком литературная. Да, есть вещи, которые нельзя перенести. Это какой-то внутренний монолог.
«Как эта женщина похожа на мать. Если бы мать была живой, то она была бы такой».
Но это и не значит, что надо на экран перенести какой-то текст. Этим автор просто усложняет роль режиссера. Это для того, чтобы создать определенную настроенность. Это для того, чтобы зритель вошел в это настроение переживаний о неизвестной ему матери. Зритель должен быть с самого начала просветлен тем, что идет дальше, и это должно быть проведено в саму ткань фильма.
И там много и других кусков такого же рода.
Я очень внимательно читал и об этом думал, как раз обращаясь к тем местам, которые кажутся литературными и непереходящими, непереводимыми на экран. Я понимаю, что это не для экрана, а для введения режиссера и зрителя в настроение фильма. Поэтому тут на это можно не обращать внимания.
Тут говорили о неприятных персонажах. Что это значит?
Ну, неприятные, конечно, неприятные. Но почему же такие неприятные? Что неприятного происходит? Мы тоже бываем неприятными. Все дело в том, как отнестись к людям, которые живут вокруг нас.
Но я не хочу сказать, что у автора такой неприятный угол зрения. Там есть прелестная сцена с девочками, которых герой кормит мороженым.
А впереди есть сцена с девушкой, которая выходила из кустов с морячком. Она не может забыть, что, будучи еще девочкой, отдала свою жизнь морячку. Это идет сначала, потому что эти сцены идут в унисон. Для понимания всего фильма дается этот персонаж, у которого внутри лежит огромная потеря, связанная с войной. Поэтому он и говорит: «Я пойду, а ты оставайся». Это символически сделано.
И там много таких персонажей. Они взяты в исследовательском ракурсе.
Вот человек, который все время чистит зубы, что-то все время жует и каждую минуту уходит в уборную.
Ну что прекрасного? Но это по крайней мере правдиво. Чрезвычайно надоели, до тошноты, эти добрые герои, которые говорят все время правду. Им никто не верит.
Я высказываю личную точку зрения. Конечно, не все могут согласиться, но я хочу сказать, что в данном сценарии нельзя обращать внимание на второстепенные вещи. Когда нарушено главное равновесие, трагедия, которая произошла, которая может произойти с каждым из нас, и все нарушится этими добрыми людьми, которые окружают этого человека. Непонятно, почему с существующей сердечной болью ему будут встречаться только добрые, приятные люди. Сама душевная боль заставляет его видеть их неприятными людьми.
Нужно с большой осторожностью относиться к этому сценарию, я знаю, что многие скажут, что это трудно проходимый сценарий. Ну, что же, давайте снова редактировать, черт возьми. Кстати, этот сценарий нельзя редактировать. Нужно подойти с точки зрения будущего фильма, и с этой точки зрения много претензий к автору. Этот сценарий заслуживает серьезного к нему отношения, а если мы приведем его в тот вид, который, может быть, в общем многих и устраивает, мы разрушим. Нельзя делать счастливое путешествие со встречей с добрыми людьми. А вы забыли сцену в финале – люди, заплывшие жирком, эти раны на плечах, такие наплывы. Эту грандиозную вещь нужно делать только тонко.
И эта последняя сцена с пикником рядом со сценой с мотоколясками.
Этот сценарий – очень серьезная, глубокая вещь.
Я могу только эмоционально выразить, говорить только о том, что я сам с радостью поставил бы этот сценарий.
А сцена финальная с девочкой. Эпизод с этой дамой и девочкой и героем, ведь это эпизод, это история человеческой души, какой-то аспект. И все это очень глубоко.
Может быть, я не очень ясно говорю, сумбурно, но я хочу высказать свои конкретные предложения. Ни о каких-то домиках с башенками и эшелонах и речи не может быть. Это настолько переросло, это разрушит вещь, и она будет приклеена. В разных жанрах это сделано. Вторая часть требует совершенно кристального взгляда – хроникально сдержанного, до глубины души, без всяких излишеств, без всяких наших любимых барокко. Ни в коем случае не надо этого делать, никак это не совмещается.
Я не знаю, я с огромным волнением два раза читал сценарий и каждый раз видел какие-то новые вещи. Мне чрезвычайно нравится идея.
__________
Тарковский со своим убеждением, что первая часть не нужна, остался в одиночестве, хотя в понимании несовместимости частей он был провидчески прав. Следует тем не менее отметить, что сценарий поддерживали люди воевавшие – Алов, Бондарев, Бакланов, Лазарев, который среди прочего произнес пророческую фразу: «Есть память о войне, которая снова может приводить к фашизму…»
В процессе обсуждения слово взял и сам Горенштейн. Я думаю, ему была лестна и приятна речь Тарковского, так как с его стороны это была точно влюбленность с первого взгляда. Она была видна и другим, и сценарист и – так же как и Горенштейн – слушатель сценарных курсов Юрий Чернявский вспоминал в своем «Документальном романе» о посещении курсов Андреем Тарковским:
«…пришел Тарковский – весь из себя пижонистый, в джинсах, с топорщащейся короткой стрижкой и непокорными усиками, которые он то и дело трогал руками, словно проверяя, на месте ли они. Он совершенно не соответствовал образу, который создало наше воображение после «Иванова детства». На протяжении всей встречи Фридрих не спускал с Тарковского глаз, у него дрожали губы и подрагивали длинные пальцы. Возможно, он был единственным из нас, кто по-настоящему понял, что перед нами – гений. И он наверняка чувствовал, что они с Андреем – одной крови. Он походил на зверя, изготовившегося сделать немыслимый рывок».
Так потом и случилось: они сделали этот гигантский рывок в отечественном кино, сняв «Солярис».
И вот Горенштейн заговорил на обсуждении своего сценария.
Монолог ГоренштейнаФ.Г. Я скажу несколько слов, я не стану ни с кем соглашаться, не стану ничего опровергать; это – глядя в потолок, высказать какие-то вещи.
Мне кажется, что существует, многое уже говорилось здесь, мир чувственный и мир реально-земной. Каждый человек живет одновременно в этих двух мирах, переходя время от времени из одного в другой. В основном он живет, конечно, в реальном земном мире, во-первых, потому что это легче, во-вторых, потому что это проще. Но время от времени он выходит в этот чувственный мир, и он там всегда одинок. В чувственном мире человек всегда одинокий. Я хочу сказать о таком простом, даже том, что находится на самой границе этого мира. Он, конечно, не может понять сам себя, когда он живет в земном мире, а потом в чувственном. Если человек держит женщину за пальчик, а потом парит свои мозоли – это, по-моему, два разных человека.
Я приведу такое примитивное столкновение, но в этом чувственном мире, чем он отличается от реального, земного мира. В нем не существует прошлого. Все, что происходит, происходит сегодня: сегодня в нем горят печи Майданека, сегодня он голодает, сегодня по нему бегают вши – рядом с кондитерской. Этим он главным образом и отличается, этот чувственный мир.
Можно десятки раз написать лозунг Кафки, повесить над своей кроватью, но это дела не меняет. Например, можно ли предположить, что если взять, допустим, Достоевского… Это уже не западный, это русский писатель… возьмите Достоевского. Разве можно предположить, что существует город в России, где живут такие люди, даже в старой царской России, такие как Митя Карамазов, Катя и другие его герои? Там даны больные люди. Может ли это быть даже в государстве, во главе которого стоят помещики и капиталисты?
Это потому, что у художника есть обязанность дать свой мир. Это его право. И тут возражения уже просто смешны. А он искажает мир. Это чувственный мир.
А.Т. Весь мир чувственный.
Ф.Г. Мы живем в реальном земном мире. Это чувственный мир. Имеет человек право на такие нелепые темы, как поиск того, что нельзя вернуть? Это нелепость. Но она ложится в основу такой величайшей вещи, как «Фауст». Нельзя вернуть молодость, нельзя вернуть близких, ничего нельзя вернуть. Но человек глуп. Он ставит эту тему и проходит через такие интересные изломы, которые помогают ему по-новому посмотреть на свой земной мир.
Вспомним эту сцену с матерью. Если вернуться к сценарию, то мне эта сцена кажется центральной. И если картину будет ставить такой режиссер, который не примет ее, то я попрошу, чтобы он лично для меня ее поставил, сделал мне такой подарок, потому что это центральная сцена всей вещи. И когда мы очищаем столько настроенного, то мы очищаем и сам вопрос. Есть у Бабеля сцена еврейского погрома, когда старая еврейка говорит: «Где я найду такого отца, как мой отец был? Такого отца нет и не будет».
Это грубая постановка вопроса, но в чувственном мире она имеет совершенное право на жизнь.
Я хочу сказать пару слов о своем герое.
Мне кажется, что неважно, какая у него биография и что он из себя представляет.
Прежде всего он мне интересен как чувственный скальпель. Он не судья, а он пропущен через жизнь. Он как канарейка, он чувствует самые мельчайшие признаки угара.
Я мог бы его сравнить таким образом: есть домушники, у которых спилены кончики пальцев, это сделано для того, чтобы, когда они открывают сейфы, они чувствовали то, что обычный человек почувствовать не может.
Если мы посмотрим на всем протяжении этого сценария, если мы уберем болезненно чувственного человека, которому трудно жить, он все время рвется оттуда, ему трудно жить. А если мы уберем все тяжелое, все очень просто.
Едет девушка без ног, она такая веселая; эти люди, которые привыкли к протезам. В земном мире тут совершенно разное отношение к вопросу. Человек привык к протезу.
Есть Бабий яр в Киеве, а теперь там рядом свалка, ближе к Бабьему яру, ближе других к этому месту. Свалка у Бабьего яра, и человек привык.
Никогда еще [человек – Ю.В.] не доходил до такого, что он может в любой момент погибнуть. Никогда еще существование человека не было столь трагичным, как в настоящее время.
Вопрос «быть или не быть» стоит как никогда остро сейчас. Как человек дошел до такого? Ежедневно тысячи людей занимаются самоубийством и получают за это зарплату, точно ведутся расчеты уничтожения человечества на всех ракетных базах. Как же можно становиться на такую позицию, как «это неприятно, этого нет, потому что я не хочу, чтобы так было»? Это неправильная, это опасная позиция.
Поэтому мне кажется, что если делать этот фильм, не нужно прежде всего искать… Я писал, не зная выхода. Мне говорят, что я должен определить какую-то позицию, я не знаю ее, и я думаю, что никто не знает позицию настоящую, где выход.
Я пришел к девочке. Я не знаю, правильно или нет, но я не вижу ничего иного, потому что у человека никогда нет другого, что бы ни происходило со всей этой историей. Если посмотрим на всю историю человека, человек развивается ненормально с самого начала – вначале недополучает, а потом стремится наверстать. Эти люди во время пикника – что в этом плохого? Разве можно их судить за то, что они пытаются наверстать безуспешно то, чего им никогда не наверстать?
Когда он подходит к этой женщине, он отвратителен, может быть, и она брезгливо отталкивает – разве можно осудить его? Он сам себя осудит через минуту, но в этот момент это человек, который забыл или не чувствовал, а со стороны кажется, что это взрослый человек, который хочет, может быть, прикоснуться к женской груди, и она его отталкивает.
В этом трагизм. Мне кажется, что нужно искать. Ощущение тревоги не должно уходить. И на Западе делают фильмы, у нас их почему-то не делают. Стэнли Крамер или «Хиросима, любовь моя» (Ален Рене). Это трагично, но можно уходить от этого? Это будет преступление. Можно все время искать, если искусство не переводить на уровень карамели, потому что человек питается хлебом и карамелью, я тоже люблю карамель. Когда зритель приходит в кинотеатр, он совершает две разных работы. В одном случае он просто сидит и что-то делает. В другом случае он даже работает или даже что-то ищет.
Мне кажется, что главная задача – развитие в массе чувственности. Если мы развиваем в массе [неразб], то способность к чувственности – это высшая форма. В это сложное время надо человеку остановиться и задуматься. В этом задача искусства.
Если искусство берет на себя какие-то серьезные задачи и хочет работать наряду с наукой, которая, к сожалению, теперь его обогнала, то ему надо об этом думать. Иначе искусство превратится просто в карамель.
Ну, можно поставить вопрос о проходимом или непроходимом, можно повесить замок. Есть науки, которые решают вопрос, что может переходить и что не может. Я считаю, что творческой организации не надо брать на себя эту функцию. Есть и такая организация, там сидят люди и получают за это определенную зарплату. А здесь вопрос прежде всего должен стоять творчески…
________
У Горенштейна в этих обсуждениях были и явные противники. Один из них, наиболее рьяно пытавшийся учить Горенштейна – Елизар Мальцев, – сразу после этого выступления Горенштейна заявил ясно и резко:
Е.М. Он очень хорошо говорил, и я очень внимательно слушал. Но зачем нам тебя и себя обманывать. В данной реальной обстановке, когда мы боремся за какие-то реальные вещи и за зрителя в том числе, надо и мыслить какими-то реальными категориями, как же иначе?
Он вроде бы и не совсем логично, но тем не менее концентрированно по мысли опять-таки подтвердил, что думать в направлении, в каком бы нам хотелось, он не собирается. Но тогда мы о чем будем говорить? Мы так и в следующий раз соберемся и будем водить хороводы вокруг талантливой елки.
Обсуждения и доработки сценария Горенштейна на «Мосфильме» продолжались как минимум до сентября 1964 года. Собранные вместе стенограммы обсуждений натолкнули Горенштейна, по предположению критика Инны Борисовой, на замысел пьесы «Споры о Достоевском».
А в финале обсуждений, после поправок и переделок Горенштейном сценария, смирился и Мальцев: «Все помнят, как я яростно выступал в прошлый раз. Но этот вариант мне понравился, и я считаю, что с внесением всех поправок мы будем иметь хороший сценарий. Надо подумать о фоне этого сценария, он создает неприятное впечатление. Обязательно соединить обе части, сделать более ощутимой трагедию этого человека».
…И все же сценарий, реализовать который хотели в разные годы помимо Тарковского Анджей Вайда, Александр Алов и Владимир Наумов (а отдельно по первой части сделал с Горенштейном сценарий и хотел в качестве режиссера снять фильм Юрий Клепиков), стал фильмом только в 2011 году, т. е. спустя почти полвека после написания. Картину по составлявшему первую часть сценария рассказу «Дом с башенкой» сняла в Украине Ева Нейман. В 2016 году Москве в театре РАМТ режиссером Екатериной Половцевой по рассказу был поставлен спектакль.
Я хотел бы обратить внимание на заявленную в выступлении Горенштейна эстетическую программу, для соцреализма непривычную…
Мне кажется, что существует… мир чувственный и мир реально-земной. Каждый человек живет одновременно в этих двух мирах, переходя время от времени из одного в другой. В основном он живет, конечно, в реальном земном мире, во-первых, потому что это легче, во-вторых, потому что это проще. Но время от времени он выходит в этот чувственный мир, и он там всегда одинок. В чувственном мире человек всегда одинокий.
Мир явлений художественного творчества для Горенштейна – важнейшая часть «чувственного мира». А главный герой, как «чувственный скальпель» – один из постулатов его поэтики.
И еще один момент: перед нами кинорежиссер всего одной только картины Тарковский и автор без публикаций Горенштейн, но с какой уверенностью в своих эстетических принципах и силах оба они выступают среди старших авторитетных коллег. И Тарковский, и Горенштейн двинулись после этого обсуждения каждый своим путем. Но пути эти неоднократно пересекались.
Об участии Горенштейна в работе над «Рублевым» знали в семье Лазаря Лазарева, который был редактором картины. Екатерина Шкловская вспоминала: «Фридрих говорил, что ему ужасно не нравится, как они сняли сцену Голгофы, в частности, актер, которого Тарковский выбрал на роль Христа. Говорил, что он совершенно неподходящий, что уж лучше бы он меня взял. И то было бы гораздо лучше».