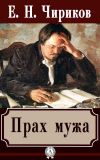Текст книги "Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному"

Автор книги: Юрий Векслер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Из интервью Горенштейна Ирине Щербаковой в 1991 году.
И.Щ. Вы ведь не пускали свои вещи по рукам, почти никому не давали их читать?
Ф.Г. Не пускал по кругу? Нет. Это ничего бы мне не дало, только пошло бы мне и людям во вред. Я не хотел этого и теперь об этом не жалею.
В аудиозаписи разговора Горенштейн в этом месте произносит и слово «самиздат».
Для него было важно написать свои фундаментальные книги, такие как «Псалом» и «Место». И он категорически не желал, чтобы что-либо мешало его трудам, прерывало их.
Теперь самое время вспомнить один московский эпизод из 1965 года, о котором Горенштейн рассказал и написал уже в Западном Берлине, но не забывал он его никогда.
Кто такой Миша Маршаков?
Этот эпизод оказался для Горенштейна травмируюшим настолько сильно, что он вернулся к нему спустя 23 года в текстах и письмах.
Фрагмент из эссе «Сто знацит?», 1998
Поначалу казалось, после киевского прозябания, что я в Москве очень скоро «проснусь» знаменитым. Первый мой рассказ «Дом с башенкой» еще до публикации распространялся в гранках и читался некоторыми «именами». Но… Однако, по порядку.
Осенью 1965 года в Москву впервые приехал американский драматург Артур Миллер, известный также как муж Мерлин Монро. Это и сыграло роковую и печальную роль в моей творческой карьере, а значит – и в личной жизни. Не подумайте, однако, что Артур Миллер или Мерлин Монро писали на меня доносы в отдел пропаганды, тем более, что Мерлин Монро вовсе в Москве не было, ибо Артур Миллер развелся с ней за два года до приезда и сопровождала его новая жена – шведский фотограф, издавшая позднее альбом фотографий, посвященный посещению Артуром Миллером Москвы.
На одной из фотографий, среди прочих, я изображен, правда, под фамилией то ли Гринберг, то ли Гриншпун, уж не помню точно. Видно, новая шведская жена Артура Миллера фамилию неправильно записала, но облик запечатлела мой, ныне, по прошествии стольких лет, трудно узнаваемый. И дело не только во внешности. После киевского клоповника был я тогда ужасно избалован московским вниманием, думал, все меня любят и только и ждут, чтобы добро мне делать. Потому так ошеломило меня происшедшее в тот вечер в театре «Современник», на приеме у Артура Миллера. Однако, по порядку. Это значит – вернуться несколько назад, чтобы понятно стало, каким образом я оказался среди избранных приглашенных.
Как-то апрельским днем шестьдесят четвертого года у меня зазвонил телефон, точнее, не у меня, а в общежитии Литинститута, где Высшие сценарные курсы арендовали комнаты. А я на тех курсах числился вольнослушателем без стипендии.
– Кто говорит?
– Любимов Юрий Петрович. Слышали обо мне?
– Нет.
– Я режиссер и создаю на Таганке театр. Мы решили пригласить некоторых писателей. Авось напишут для нас пьесы. Ваш рассказ «Дом с башенкой» я читал в гранках.
Разумеется, не точно этими словами, но в таком духе велся разговор. Пьес я никогда не писал, однако было лестно после киевского прозябания быть приглашенным среди «имен». Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский – весь джентльменский набор. Писал все лето, подсчитывал: пятнадцать страниц написал – значит, сцена кончилась. Пьеса называлась «Волемир». Осенью принес ее в театр. Юрий Петрович Любимов сразу вышел ко мне, обещал быстро прочитать.
Пришел я через несколько дней. Юрий Петрович Любимов не вышел ко мне – прислал директора поить меня кофе. Поил долго. Наконец, Юрий Петрович Любимов пришел с моей рукописью, разводя руками и пожимая плечами, очень мило, смущенно, точно не он мне, а я ему отказываю. «Вот и конец карьеры драматурга», – думаю. Однако где-то через неделю, а может быть, и раньше – опять телефон.
– Это из литчасти театра «Современник». Мы прочитали ваш рассказ «Дом с башенкой». Не напишете ли для нас пьесу?
– Я написал пьесу по заказу Юрия Петровича Любимова, но ему не понравилось.
– И очень хорошо. Мы совершенно разные, и то, что ему не понравилось, для нас – положительная характеристика. Принесите пьесу!
Принес. Через неделю позвонил с колотящимся сердцем и даже Бога просил помочь, хоть был тогда атеистом. Бог моей просьбы не услышал.
– Я читала, – сказала завлит Котова, – читал и мыслящий актер Валентин Никулин. Мы ничего не поняли. Не драматургия, а хаос какой-то (бедный «Волемир»: гораздо позднее мне рассказали, что Товстоногов назвал «Волемира» «талантливым бредешником»).
На сценарных курсах я учился в мастерской у Виктора Сергеевича Розова. Дал ему, не надеясь на одобрение: реалист, романтик, почти консерватор. Понравилось.
– На Западе сейчас театральной абстракцией увлекаются. А ваша пьеса как раз все это подсознательное чувство переводит из абстракции в реальность, – так примерно сказал.
Хорошо, что, приехав из киевской провинции, не созревший умом, попал я в мастерскую В.С.Розова. В моде тогда были у творческих вундеркиндов «Треугольные груши», Беккет, Ионеско, ирония Хемингуэя. А мне нужна была начальная школа, школьная хрестоматия, о которой я уже писал с почтением и к которой по сей день сохранил почтение.
– Пьесу надо отдать в «Современник», – сказал мне Розов.
– Я давал – им не нравится.
– Ефремов читал?
– Ефремов не читал. Это решалось на уровне завлита.
Розов отдал пьесу Ефремову, и наступил светлый период моего общения с «Современником», к сожалению, недолгий. Пьесу прочитали на труппе. Читал сам Ефремов, хоть и в состоянии Ивана Ивановича, но неплохо прочитал. Всей труппе на этот раз понравилось, по крайней мере никто не высказался против, кроме М.М.Козакова. Уж не помню, каковы были его аргументы. Но его дружно затюкали.
– Ты все неправильно говоришь, – сказал И.Кваша.
– Сыграем, сыграем, – сказал Табаков.
Вокруг, как в романсах, цвели улыбки, всё сбывалось наяву. Розовым видением уж мелькал пред глазами договор, красивые женщины, новые штиблеты вместо рваных киевских ботинок. Впрочем, кое-что осуществилось очень скоро. Я был приглашен на элитарную встречу с приехавшим в Москву американским драматургом Артуром Миллером, пьеса которого «Случай в Виши» репетировалась театром.
Разумеется, я пришел задолго до назначенного времени, пришел первым из званых и в одиночестве сидел в кабинете главного режиссера театра О.Н.Ефремова, предвкушая предстоящие радости. Не знаю, сколько так просидел, может, даже и час. «Счастливые часов не наблюдают» и времени не ощущают. Изредка звонил телефон, но никто не появлялся.
Наконец, в кабинет вошел упитанный человек в дорогом праздничном костюме, с копной черных волос, коротконогий, с увесистой задницей. Он посмотрел на меня темными сторожевыми бдительными глазами. Я помню этот взгляд, хоть минуло уже столько лет. Он осмотрел меня снизу-вверх от рваных киевских ботинок до пиджака явно с чужого плеча; на мое лицо покойницкого зеленовато-землистого оттенка он, по-моему, и не смотрел за ненадобностью.
– Вы должны немедленно уйти отсюда, – сказал мне человек, – сейчас сюда придут важные особы.
Думая, что это непроинформированный администратор, я сказал:
– Если вы администратор, то по поводу моего приглашения обратитесь к главному режиссеру или директору театра.
– Я не администратор, – раздраженно сказал человек, – я драматург Шатров.
– Если вы драматург Шатров, то занимайтесь драматургией. Я – драматург Горенштейн.
На этом диалог оборвался, потому что в кабинет вошли Олег Николаевич Ефремов, Артур Миллер со своей шведской женой, актеры, режиссеры, переводчики. Стало шумно и весело. Среди прочих Олег Николаевич весьма лестно представил меня Миллеру и его шведской жене, которая долго говорила со мной, то ли по-английски, то ли по-шведски. Я не знаю ни того, ни другого языка, потому лишь кивал в ответ.
Не буду описывать всего дальнейшего, да и не помню подробностей, явно безликих. Помню лишь, что в конце встречи Артур Миллер, который впервые тогда приезжал в Россию, высказался примерно так:
– Теперь я хоть вижу, что у вас разные лица.
Такое высказывание Артура Миллера Олегу Николаевичу Ефремову, который, кстати, пребывал в состоянии Ивана Ивановича, не понравилось:
– А вот это он нехорошо сказал.
Не знаю, перевел ли такие неодобрительные слова Олега Николаевича переводчик. Скорее всего, нет, потому что вечер окончился бесконфликтно и благополучно для всех. Но только не для меня. Это, правда, стало ясно некоторое время спустя, когда посланная в управление театров, то есть в цензуру, пьеса «Волемир» встретила ожесточенный отказ. Хотя, опять неточность. То, что в основе ожесточенного отказа цензуры лежал мой конфликт с Шатровым, дополненный к тому же ревностью к лестным словам, обо мне сказанным, стало ясно гораздо позже и окончательно подтвердилось уже в наше время, когда раскрылись архивы и заговорили свидетели. Тогда же лишь стало ясно, что пьесу не пропускают, шансы сценического воплощения ее практически равны нулю.
Пьесы Шатрова косяком шли на сцене, по которой вышагивали кремлевские курсанты, держа карабины с примкнутыми ножевыми штыками. Большевики с человеческими лицами актеров театра «Современник» вызывали бурные аплодисменты прогрессивной публики. А мои приходы в театр становились всё более в тягость, и эйфория первого знакомства давно минула.
Пробовал Ефремов получить цензурное разрешение, отдав пьесу в Рижский русский театр – не получилось, пробовали молодые актеры Даль, Мягков и прочие самостоятельно репетировать – получилось неинтересно. Досаждало и мое бытовое неустройство. Приходилось возиться, прописываться где-то на 101-м километре от Москвы, на чужой даче в Тарусе. А вместо благодарности я критиковал, точнее, язвительно отзывался о репертуаре театра – большевистских пьесах Шатрова, литературщине Рощина. К тому же я примелькался и надоел своей унылой грустью и язвительным юмором в и без того пересыщенной интригами театральной коммуналке.
В общем, кто хочет понять, как восторженная эйфория сменяется раздражением и пренебрежением, пусть изучает длинные трактаты по психологии. Скажу лишь, что именно Ефремов был автором «мнения» обо мне, которое высказывал даже и в моем присутствии: «Плохой человек», «тяжелый человек», «всех ругает». «Мнения», которое так широко распространилось в нашей «прогрессивной» среде, которое бытует по сей день и которое на долгие годы закрыло мне все пути и отняло много сил и здоровья.
Разумеется, цензура запрещала и другие произведения. Среди прогрессивного шестидесятничества даже считались лестными запреты, «пробивание» и т. д. Но в моем случае запрещалось не произведение. Запрещали меня. Мне рассказал недавно некий N.N., который присутствовал в цензурной инстанции при разговоре о моей пьесе «Волемир»:
– Нет, это не пропустим на советскую сцену. Нас информировали: хаос и абстракция (такое от Шатрова).
N.N. начал было робко возражать, но должностное лицо перебило его:
– И вообще, Горенштейна не пропустим. Плохой человек, тяжелый человек, злой человек, всех ругает. Зачем он нам нужен! Разве у нас мало хороших людей? (Это уж от Олега Николаевича.)
Разумеется, я не говорю, что Олег Николаевич, подобно его другу Шатрову, шел в инстанции с доносами. Но ведь в этом нет надобности. Достаточно публично высказать мнение, пачкающее репутацию, а уж кто понесет дальше – всегда найдется.
Плохой человек в советской системе – понятие идеологическое. Так и было записано обо мне в инстанциях: «Плохой человек, тяжелый человек, злой человек». Именно это, а не обычная цензура, сделало мою жизнь горькой на многие годы. Именно это и было подлинной цензурой.
Сладкая жизнь «хорошего человека» Шатрова, который на миллионы Ильича ел ананасы, рябчиков жевал и при своей короткой толстозадолицей внешности потреблял тела молодых красоток, без активной поддержки Ефремова, Волчек, Ульянова, Захарова и прочего истеблишмента была бы невозможна.
В «мнении» есть нечто подобное кафкианскому эху. Вылетает… Возвращается… Кружит в гулком пространстве.
– Про вас говорят, что вы плохой человек, – сказал молодой киношник, у которого я, по его просьбе, согласился сняться в киносюжете.
– Не случайно про вас говорят… – высказался, не закончив мысли, популярный комедиограф Э.Рязанов.
– Сижу рядом с Горенштейном, и ничего… А ведь слышал… – Это много лет назад какой-то провинциал московским хозяевам в моем присутствии.
Каждое время вкладывает в направление свой смысл. Были советские времена «…с Лениным в башке и с наганом в руке». У каждого был свой Ленин. У консерваторов был Ленин в сапогах, то есть в сталинских, а у прогрессивных либералов был Ленин «с человеческим лицом».
Ведущую роль тут играл драматург Шатров, драматург поста номер один, любимец прогрессивно-либеральных кругов, особенно театральных: «Современника», ленкомов и, конечно, горкомов, вплоть до «либералов» из ЦК. Шатров шибко Ленина любил, а кто любит, тот ревнует.
Помню, во времена седой старины, в далекие семидесятые, Шатров даже меня, Горенштейна, к Ленину приревновал. Я такой шатровской слепой любовью к Владимиру Ильичу не страдал, но считал его личностью весьма значительной (считаю так и ныне) и важной в истории России, потому принял предложение одного из режиссеров – написал на эту тему сценарий, своеобразно, конечно, эту тему интерпретируя. Боже мой! Не успел еще цензор-консультант отдела пропаганды разобраться, а любимец либерально-прогрессивных кругов Шатров уже побежал в ЦК. Тут сказались и меркантильные соображения: режиссер этот прежде работал с Шатровым. «Какое отношение Горенштейн имеет к Ленину? Кто он такой? Написал всего один весьма посредственный рассказ «Дом с башенкой»!»
Вот так примерно, ревниво изложил, о чем я от режиссера же и узнал. Разумеется, цензорами-либералами из отдела пропаганды ЦК были приняты меры. Ведь Шатров, присвоивший себе звание цензора-добровольца ленинской темы, пользовался авторитетом и влиянием. Говорят, на столах столоначальников отдела пропаганды видели книжечки Шатрова с теплыми надписями «Дорогому имярек (Ф.И.О. волка марксистско-ленинской пропаганды) от автора».
Такие-то у прошлого (он же и нынешний) либерально-прогрессивного истеблишмента были любимцы. Я так много и подробно говорю о Шатрове, потому что фигура слишком уж символична (о символах ниже) для советских времен застойных (брежневских) и полусоветских (горбачевской перестройки).
Судьбоносные и сказочные перемены начались с малиновых звонов, начались потом. Малиновые колокольные звоны, храмы, свечи, поклоны, дворянские собрания, двуглавые орлы, казачьи атаманы… «А осетрина-то с душком». Реставрация: повсюду теперь православно-русский дух и православной Русью пахнет. И опять два направления. У консерваторов – национал-православное, у прогрессивных – православие с человеческим лицом.
Не знаю, как воспринял «Миша» (Шатров) вторую, на этот раз моральную, смерть своего кормильца. То ли наедине перед зеркалом ностальгически становится в «жилетные позы», а в позах ленинских памятников произносит киногенично: «Социалистическая хеволюция о необходимости котохой…» То ли по-горбачевски перестроился и решил, что верность прошлым идеалам – это «архиглупо». Того и гляди, Шатров про Илью Муромца с человеческим лицом напишет…
__________
Горенштейн еще несколько раз «вспоминал» о Шатрове в своих текстах. В конце жизни Шатров писал пьесу «Сапоги» о Сталине. Уж не знаю с человеческим лицом или выше сапог Шатров не отважился подниматься… Суди, дружок, не свыше сапога! Но пьеса, похоже, не была в итоге написана, по крайней мере в биографии Шатрова она не фигурирует.
У Горенштейна помимо личной обиды и озлобления была и еще одна причина писать о Шатрове, самозванном псевдо-евангелисте Ленина (Шатров – это Крупская сегодня. Эта фраза приписывается Фаине Раневской). Для Горенштейна Ленин оставался до конца жизни интересовавшей его фигурой и после неоднократного упоминания о нем, в частности, в повести «Астрахань – черная икра» стал одним из главных действующих лиц последнего романа Горенштейна «Веревочная книга».
Из последнего интервью Анатолию Стародубцу: «…закончил большую вещь, где в ироничной форме рассказывается о трех вождях: Ленине, Троцком и Сталине. Что-то в духе пародийных романов».
«Миша», под фамилией Маршаков, стал одним из персонажей и этого романа тоже.
Вон из Москвы
Конечно, в социализм с человеческим лицом после Чехословакии уже мало кто из шестидесятников верил, а в Ленина если кто и верил, то разве что Шатров. Да и то вряд ли. И всё же… Суть расхождения Горенштейна с писателями-современниками, как сформулировали Рассадин и Горенштейн, была, конечно, и идейная (социализм и Ленин с человеческим лицом были Горенштейну всегда чужды), но еще более эстетическая, в разрешении себе многими современниками писать плохо, что, подыгрывая молодым, Валентин Катаев манифестировал своим «мовизмом». Но Горенштейн продолжал хотеть и уметь писать хорошо.
21 января 1979 года Андрей Тарковский записывает в «Мартирологе»: «Прочел «Псалом» Фридриха Горенштейна. Это потрясающее сочинение. Вне сомнений: он – гений».
Запись 16 апреля 1979: «Вечером, 15-го. Сегодня приходил Фридрих Г[оренштейн]. Через 2–3 года он (если уедет за границу, на что надеется) станет знаменитым».
Горенштейн уехал 25 сентября 1980 года.
Отъезду Горенштейна предшествовал его разговор в КГБ, о котором он рассказал друзьям. По версии тогдашней жены Горенштейна Инны, писатель сам обратился в органы и вроде считал, что будет принят лично Андроповым. Сам ли он передал в КГБ свои сочинения? Леонид Хейфец упоминает о письме Зимянину.
Виктор Славкин
Тоска по читателю была настолько сильной, что он был рад даже офицеру КГБ, который вызвал его к себе. «Я наконец увидел человека, который прочитал все, что я написал. Зовут Владимир Георгиевич. Мы поговорили о моих произведениях, и он обещал помочь с оформлением документов». И дальше выпалил в своей парадоксальной манере: «Единственная организация, с которой в этой стране можно иметь дело, – КГБ».
Михаил Левитин
Мы часто говорили об отъезде, естественно, он готовился к нему. Я хотел узнать о его рукописях: почему не печатают, какие были читатели, что люди говорили? Я пытался это понять, и он мне рассказал, что единственный читатель в его жизни – капитан КГБ. Рассказ был подробный, про то, как его вызвали в Комитет, перед тем как решать вопрос о выезде. Он написал в КГБ письмо с просьбой принять его, потому что решалась его жизнь. И он пришел и встретился с каким-то человеком, как я понимаю, произведшим на него приятное впечатление – не такое, какое он ожидал, потому что черт его знает, что он там ожидал. Сидел нормальный, разумный, как казалось ему, человек, успокоивший его своим видом. Поверьте, это очень трудно было сделать, я, например, постоянно брал на себя роль человека, успокаивавшего его, и никак его не возбуждал, старался слушать. И этот капитан, вероятно, тоже понимал, с кем имеет дело. Очевидно, был хорошим психологом.
Так вот, Фридрих пришел. Рукописи его на столе. Капитан сказал: «Вы знаете, Фридрих Наумович, мы всё прочитали». Горенштейн спрашивает: «Ну что в моих книгах антисоветского?» «Абсолютно ничего, – отвечает капитан. – Абсолютно. Но с той же полной уверенностью могу сказать, что в ближайшие сто лет здесь, у нас, они напечатаны не будут». – «Почему?» – «Это трудно объяснить, но не будут». – «Так что, мне уезжать?» – «Мы же не можем решать вопрос вашего отъезда. Наша организация некомпетентна в этом, но если вы нуждаетесь в нашем совете, то уезжайте». Невероятная история!
Давая мне впоследствии интервью для фильма, Михаил Левитин в пересказе той же истории говорил как бы от имени офицера КГБ не о ста годах, а о трехстах.
Инна Прокопец запомнила, что Горенштейна, как ему представлялось, должен был принять лично Андропов (можно предположить, что Горенштейн именно ему и адресовал свое письмо), кто-то из мемуаристов называл Зимянина. Кто в итоге беседовал с Горенштейном?
Последние две недели Горенштейн с женой и маленьким сыном жил у Марка Розовского.
Марк Розовский
А в те последние дни в Москве мы устроили Фридриху проводы: я взялся прочесть друзьям «Бердичев». Это продолжалось два вечера и было незабываемо: Липкин, Хазанов (писатель, не артист), Славкин были прекрасными слушателями.
Горенштейн, который никогда никого не хвалил, вдруг дал слабину и растрогался.
– А ты – актер, хорошо читаешь!
– Давай эту пьесу никто не будет ставить, а я ее всю жизнь буду читать и читать, – пошутил я.
– Давай, – неожиданно согласился Фридрих.
Ему бы хоть что-нибудь. Он сам уже не верил, что кто-то будет ставить его пьесы.
Галя, моя жена, выставила бутылку водки – сам Фридрих не выпил ни капли! – мы посидели еще часок на кухне, а наутро они все уехали. В Западном Берлине Горенштейна ждала благотворительная стипендия какого-то фонда и затем эмиграция на веки вечные.
Виктор Славкин
Перед самым отъездом Фридрих с женой, только что родившимся сыном Даном и обожаемой кошечкой Кристичкой («Если ее не пропустят в Шереметьево, я никуда не поеду») жил у Розовского. И там мы устроили читку пьесы «Бердичев». Аудитория – человек пятнадцать, собирались два вечера подряд: пьеса длинная. У Горенштейна был абсолютно несценический голос, поэтому читал Розовский. И вот Марк, человек, не замеченный в излишней сентиментальности, за полторы страницы до финала вдруг зарыдал и выбежал из комнаты на кухню. О такой реакции на свой текст любой драматург может только мечтать. Пьесу пришлось дочитывать самому Горенштейну.