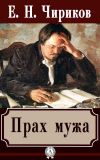Текст книги "Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному"

Автор книги: Юрий Векслер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Знакомя с нею, улыбался снисходительно и как бы извинялся:
– Она христианка… Она простая… Вот видишь, ха-ха… Она не знает, где Аргентина… И что было до Октябрьской революции…
Женившись, Фридрих стал свежим, душистым, нарядным. Еще недавно он был не в ладах с носовым платком. И вот – джентльмен. Костюм-тройка, бабочка, безупречная обувь, дорогой портфель, зонт-трость, длинный черный плащ. Выручало кино.
– В кино я согласен работать на общих основаниях. Хочу, чтобы оно меня кормило. Давало возможность спокойно писать прозу.
В другой раз:
– Написал статью «Мой Чехов осени и зимы 1968 года». Для чехов. Они очень им интересуются. Сережа Юрский хочет ставить «Контрреволюционера».
Ему приятно произносить «Сережа». Юрский – известный артист. На мой вопрос, что было написано до «Дома с башенкой», отмахнулся:
– А-а, ерунда! Я отказываюсь от всего. Не представляет интереса.
– Все-таки какой у тебя был писательский опыт?
– Лет десять.
Прикидываю в уме: значит, первые пробы пера пришлись на его двадцать лет. Не так уж рано.
Однажды у меня в гостях достает с полки том «Иосифа и его братьев». Говорит, что его повести насчитывают 150–200 страниц на машинке.
– Сколько же это будет книжных страниц? Три повести, пьеса и мелкие рассказы, – отщипывает от Манна побольше половины. – Вот и все, что мною написано на сегодняшний день. Это не считая сценариев.
– Что читаешь, Фридрих?
– Некогда. Нет времени на книги.
– А я, видишь, покупаю. В основном для старости.
– У писателя не бывает старости.
Тогда же, не помню, в какой связи:
– В каком обществе мы живем, если самые умные люди работают в кукольном театре.
Рассказывал, что пишет сценарий о Втором съезде РСДРП. Заметив мой скепсис, стал горячиться и добился убедительности.
– Эти сволочи больше всего ненавидят и боятся живого Ленина, мертвый Ленин – им друг.
Развивал такую мысль: не надо рубить иконы, их надо переписывать, в искусстве сильны легенды. Правда? Нет. Легенда о Ленине – да.
Сценарий зарубили. А как увлеченно и упорно работал!
Когда Горенштейн уехал на Запад, стали выбрасывать его имя из титров фильмов. Никакого другого официального имени у него не было.
Лазарь Лазарев
Надо иметь в виду, что характер у Фридриха был тяжелый, динамитный, взорваться он мог каждую минуту и, случалось, на совершенно пустом месте. Помню, у нас в объединении обсуждалась то ли заявка, то ли сценарий на основе его рассказа «Старушки» (ничего из этого потом не вышло). Как часто бывало в подобного рода обсуждениях, говорили разное – дело и не дело, потому что каждый выкладывал, как бы он снял такой фильм. Но обсуждение было вполне доброжелательным, никто ничем не задел, не обидел ни Горенштейна, ни его рассказ (кстати, очень хороший). И вдруг он взвился и наговорил выступавшим много дерзостей и даже грубостей. Я ему сказал: «Что это с вами? Вы должны были поблагодарить за обсуждение и сказать, что подумаете над сделанными вам советами и замечаниями. Вот и всё…» А он в ответ рассказал: «Знаете, со мной это случается. С меня снимали комсомольский выговор. Я должен был или промолчать, или сказать что-то округлое. И вдруг я услышал, словно это не я, а кто-то другой сказал: "А наш секретарь бюро негодяй". Это потом мне выходило боком».
Михаил Левитин
Монолог после репетиции
Я был собеседником Фридриха в последний год его жизни в России. Фридрих заменил мной одного из своих собеседников. Собеседником этим был Леня Хейфец. У Фридриха, вероятно, возникала определенная потребность в дружбе с театральными режиссерами, а может быть, просто с евреями или каким-то интересным ему типом людей. Во всяком случае, к тому времени, когда нас познакомил Хейфец, как я понимаю, Фридрих исчерпал для себя общение с Леней. И в потребности общения с человеком театра он заменил Хейфеца мной – не знаю причин, но заменил. Ему нужен был человек, который его слушает. До того один из его однокурсников, мой приятель, рассказывал мне, что на этих курсах был гневный, абсолютно непримиримый человек, очень талантливый и не способный на внимание к другому, не способный на дружбу – бог Саваоф какой-то, какая-то невероятная фигура: речь шла о Горенштейне. Тот мой приятель спрашивал, не читал ли я «Дом с башенкой». Я вспомнил, что читал, вспомнил это чудо, но ничего не знал о Горенштейне.
И вот мы познакомились. Он физически напоминал многих выдающихся евреев моего детства. Крупные, большие, зычные – такими помню этих евреев, таким помню и деда своего. Я не случайно сказал «выдающихся», потому что в простом, бытовом преломлении Фридрих тоже был необычен – необычен в обстоятельствах заурядных.
Мы встретились в мастерской Татьяны Сельвинской – его привел Хейфец, что-то показывает. Не знаю, понравилось ли Горенштейну то, что он увидел, потому что помешало воспринимать картины Сельвинской одно обстоятельство. Я уделяю внимание этому, может быть, чрезмерное, особое – не знаю. Он пришел в кепке – хорошей, бельгийской, как выяснилось. А я был со своей тогдашней женой, Олей Остроумовой, она была ему известна, так как она киношная, кинематографическая, и он человек, кормящийся кинематографом. И на ней была кепка, но не бельгийская, обыкновенная.
Ольга с присущей ей некоторой прямолинейностью, смеясь, обратилась к Фридриху: «Давайте меняться, мне нравится ваша кепка». Как этот человек сжался весь, надулся, закрылся абсолютно и уже картины Сельвинской не воспринимал! Видно было, что он испытывает какое-то довольно сложное переживание. Это детское, совершенно буквальное, с переводом на себя всегда, уязвимость внутренняя колоссальная. Неловко, что он был не способен, да и не должен был отдавать Ольге эту кепку, к чертовой бабушке! Но та поставила его перед переживанием, а он совершенно не собирался этого переживать! Однако на другой день, когда его спросили наши друзья, как ему там, кого он видел у Сельвинской, он сказал: «Вот я познакомился с Мишей Левитиным и с его женой». На вопрос: «Ну и как тебе жена?» ответил: «В кепке». Грандиозно: «В кепке»! Вот это первая история, открывшая мне очень детского человека.
А потом – по прошествии времени не помнишь последовательности – начались наши прогулки. Что же было в этих прогулках, и кто тогда говорил? Надо сказать, что я говорил немало. Он расспрашивал о театре. Слушал ли он меня внимательно, трудно сказать. Вообще я его взаимоотношений с людьми, нормальных взаимоотношений, не помню, и весь мой рассказ будет сводиться к таким странным минутам, странным секундам. Оценки и определения его были фантастичны. Косноязы– чие какое-то, чудовищное косноязычие, местечковая интонация, какие-то самостоятельные бури, происходившие в его душе… Помню, как он однажды входил в Дом кино. Естественно, когда человек входит в Дом кино, билетер протягивает к нему руку или за билетом, или за членским билетом Союза кинематографистов. У Горенштейна была невероятная реакция: «Уберите руки!» Это «уберите руки» и эта штуковина «в кепке» – для меня объединенный ряд. Это не скандал. У Фридриха, на мой взгляд, было ощущение постоянной агрессии по отношению к себе со стороны людей, пытающихся вмешаться в его внутреннюю жизнь, помешать существовать автономно. Ощущение, очевидно, очень давнее: мы все для него – агрессоры. Я даже позволю себе искренность, вредящую, возможно, Фридриху. Когда я стал расспрашивать его о куске хлеба, о том, как он живет, он сказал: «Ну! Я пишу для этих… Кончаловских, Тарковских». Для него это было как бы единое понятие. Может быть, на самом деле он как-то индивидуально подходил, считал кого-то великим. Но в разговоре никогда не проявлял нежности. Никогда! Один раз только, но это я оставлю на кульминацию рассказа о нем.
Во время прогулок я расспрашивал о судьбе его книг. Я не очень знал эти книги тогда, любил «Ступени» и… забыл название повести, которую хотел инсценировать, – о девочке, выдавшей свою мать. А-а, «Искупление», кажется. Я читал эти две вещи тогда, и они мне показались грандиозными. Грандиозными! Потому что я совершенно не понимал, откуда этот человек, здесь и так живущий, откуда он достает эту боль, где ее корни. Ну трудно мне было это понять!
Мы часто говорили об отъезде, естественно, он готовился к нему. Я хотел узнать о его рукописях: почему не печатают, какие были читатели, что люди говорили? Я пытался это понять, и он мне рассказал, что единственный читатель в его жизни – капитан КГБ…
Фридрих был странный человек – такая грандиозность и такая невежественность. Не невежественность даже, а буквальность. Буквальность в определениях. Я спрашивал его: «Фридрих, вы ведете дневники?» – «Ну да. Литературные книги». Я впервые услышал понятие дневника как литературной книги. Это был человек, будто впервые читавший, впервые увидевший, впервые встретивший. И все это через какую-то колоссальную обиду. В нем жила такая обида, как будто бы на нем ездили. Дело было даже не в том, что его не печатали, конечно, и в этом тоже, но он все-таки писал сценарии, кинематографисты знали ему цену… Правда, фамилия не часто была в титрах. Они давали ему деньги. Может быть, обида была исключительно профессиональная, но мне казалось, что и какая-то человеческая, уязвимость гиганта, который мог бы нас всех разметать, который мог бы веско назвать каждого из нас. Но который был вынужден промолчать. Он говорил, что ни один его сценарий не поставлен так, как он хотел, – все переделано кинематографистами, не похоже на его замыслы, а он сопротивляться не может, потому что ему жить надо. Но он, в принципе, не говорил ни одного хорошего слова ни о ком. Всегда боялся проявить излишнюю нежность. Он даже о Васе Аксёнове, который был с ним в прекрасных отношениях, ухитрялся так сказать, будто между ними существовала какая-то ссора. А никакой ссоры не было. Это мне так казалось, я не преувеличиваю и не преуменьшаю.
Вот такая несовместимость всего внутри поразила меня однажды. Я был у Фридриха дома. Он пригласил меня познакомиться с женой и посмотреть на младенца. В заурядном пятиэтажном доме, где были чемоданы, ощущение временности жилья. Я увидел его героиню. Я никак не ожидал увидеть юродивую в его доме. Хотя, наверное, в его жизни были разные женщины, он буквально нашел героиню своей книги. Сидела девочка из Белой Церкви, простоволосая, в каком-то платье полотняном бедном. По-моему, по дому она ходила босиком, тапочек на ней не было. У нее был несколько отрешенный взгляд – может быть, она была потрясена Фридрихом, ошеломлена от жизни с ним. Не знаю: при мне он не был с ней ни груб, ни нежен – все было странно. Я сидел в компании еврея-гиганта, биндюжника такого, и юродивой из Белой Церкви, рядом лежал мальчик с крючковатым носом – его сын Дан. Мы пошли на кухню, и на кухне – не помню, угощали ли чем-то, но чай мы пили – он молча дал мне разрешение главенствовать в разговоре, и это был мой вечер, мой разговор. Я был спокоен, потому что давно понял, что этот человек настолько несчастный и настолько трагический, что его выкриков «уберите руки», и его сарказма бесконечного, и его желчи – не стоит бояться.
Дело было зимой, что важно, зима окружила этот худосочный дом с тоненькими стенами и вот с этой труппой небольшой, где сидели я, он и она и был мальчик маленький. И было слышно всё – наступила невероятная тишина. Лишь звучали мои слова – я рассказывал нечто криминальное, или очень тревожное, или интригующее, глядел только на нее со своей привычкой производить впечатление прежде всего на женщин, оставив Фридриха где-то в стороне и слева. И в момент кульминации моего рассказа на улице раздался свист. Все, что я сейчас вспоминаю, происходило синхронно, в одну секунду: мой рассказ, кульминация рассказа, свист. Девушка на кульминации страшно вскрикнула, просто в ужасе, Фридрих в ту же секунду оказался в комнате сына, вскочил туда. Тут же вернулся с плеткой и крикнул: «Если тебя кто-нибудь обидит, возьми эту плетку и бей его, бей!»
Вот это мгновенье определило во многом мое понимание театра. Этот рассказ, дающий мне право на некую сложность поведения персонажей, на оправданную, пусть глубоко и Бог знает чем мотивированную – но, безусловно, страданием мотивированную – линию поведения. Я понял, что его ведет по жизни подлинное страдание, что он находится в таком напряженном внимании к миру, в такой стойке защиты, в какой, пожалуй, ни один друг мой, знакомый не пребывал. И я сам, находясь часто в панике, не знал подобной тревоги. Это была, я думаю, постоянная тревога, непреходящая.
Помню последний вечер. У нас был некий перерыв в отношениях – видите ли, привычка моя запоминать только яркие моменты прерывает логику, ход жизни. Он переехал к Розовскому в последние дни перед отъездом, и я позвонил туда. Фридрих сказал: «Давайте погуляем с вами. Я завтра уезжаю, давайте погуляем». Мы гуляли, и такая внутренняя расположенность к этому человеку возникла у меня, такая ласка – он, может быть, в ней нуждался, может, не нуждался: во всяком случае, он не давал себе возможности кого-то благодарить или испытывать нежность к кому-то, тем более ее проявлять. Думаю, это был его абсолютный закон. И перед самым нашим расставанием я ему внезапно говорю: «Фридрих, можно вас поцеловать?» Он так вдруг сморщился и сказал: «Пожалуйста», – и подставил щеку.
Пришелец в Германии
Эмиграция (до 1991 года)
Фридрих Горенштейн в интервью:
«Я решил уехать еще где-то году в 77-м, когда понял, что время уже прошло, ждать больше нечего и надо публиковать свои вещи. К этому времени я утратил последние надежды опубликовать хотя бы часть своих книг в Советском Союзе. Контракты на киносценарии со мной так же перестали заключать. Наступает момент, когда страшно оставлять рукописи в столе, может погибнуть труд. И если бы я не уехал, то многое не смог бы опубликовать. Пока вещи частями передаются оттуда сюда, это не то. Если автора нет, если вокруг него нету шума, печатают либо в искаженном виде, либо совсем не печатают. И мой выезд сыграл очень большую роль.
Первоначально я хотел ехать во Францию, она мне очень нравилась, но в 1979 году в Германии впервые вышел мой роман «Искупление», написанный еще в 1967 году. Западноберлинская Академия объявила меня почетным членом и пригласила в Западный Берлин на год, на стипендию. Я хотел выехать с советским паспортом по приглашению, но мне отказали. Предложили ехать по израильской визе, сказали, лучше будет, если я выеду таким образом. Хорошо. Выехал. Оказалось, что меня вела судьба, потому что Германия – именно та страна, которая мне нужна».
25 сентября 1980 года Горенштейн с женой Инной и сыном Даном, которому было чуть больше месяца (он родился 13.08.1980), а также с кошкой Кристенькой вылетели из Москвы в Вену. Так началась эмиграция Горенштейна, из которой он не вернулся, хотя и посетил Москву минимум три раза (1991, 1995, 2001).
Финал повести «Последнее лето на Волге»:
…Заснул я в эту волжскую ночь лишь под утро, когда черная дыра посинела и в коридоре за дверью каюты стали слышны шаги, покашливание, сморкание обслуживающего персонала.
Я заметил, кстати, что мозг свежий, здоровый беден воображением, тогда как мозг утомленный, доведенный до болезненного состояния, на редкость воображением богат, соединяя ведомое с неведомым. Гумилев когда-то сказал, что неведомое дает нам по-детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания. Так представлял я себе тогда манящую заграницу наяву, а тем более во сне. В ту ночь, точнее, в то рассветное утро опять снилась мне заграница. Иду я где-то через какие-то рынки, наподобие московских, но гораздо более разнообразные, иду среди всевозможных продуктов, выставленных напоказ, – горы свежего мяса, груды фруктов и овощей, бидоны меда и молока, караваи свежеиспеченного хлеба. Иду и радуюсь: вот она, заграница, но в каком городе нахожусь, не знаю. Знаю только, что это не Париж, не Сан-Франциско, не Лондон… Слышу вдруг, кто-то произносит название города: Чимололе… Смешной, но успокаивающий сон о несуществующем заграничном городе… Городе без веса, городе из небытия… Пусть в небытие, но прочь из этого бытия. Ведь тогда, накануне моего отъезда, все кругом меня так осточертело и все внутри меня так наболело, что я готов был тут же присесть к столу и единым махом, на едином дыхании написать:
Страшное, грубое, липкое, грязное.
Жестко-тупое, всегда безобразное.
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое.
Вязко, болотно и тинно-застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное.
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе.
И написал бы, если бы под названием «Всё кругом» это не было бы уже написано Зинаидой Гиппиус еще в 1904 году. Правда, написал бы без последних двух строк, потому что тогда, накануне моего отъезда, не верил, что тут может быть иначе. Иначе может быть только в Чимололе. «О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает, – как писала та же Зинаида Гиппиус, – мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете…» Однако чего нет, того нет. Где ты, Чимололе?
Щебечут воробьи, светит солнце, и под легким ветерком колышутся ветви большого клена у моего окна… Это Берлин, это заграница. Все проходит, и все приходит. Все закономерно забывается, и все случайно вспоминается. Я искал одну из нужных мне книг, и случайно упал с полки томик сонетов Шекспира весь в бумажных закладках. Одна закладка, уже пожелтевшая от времени, скользнула на пол, я глянул: солнце, луна, облака, крестики в несколько рядов и слово «Люба» много-много раз…
В Берлине жарко. Тридцать градусов, душный вечер. В окнах полураздетые женщины в нижнем белье, полуголые мужчины. Тела, халаты. Мелькнет и грудь, бедро, мелькнет на балконе пляжница. А вот и вовсе – там, где свет голубой в окне… Выхожу погулять и встречаю немца-соседа. Это левый молодой немец, который учит русский язык и хочет поехать в Россию для продолжения учебы. Он, кажется, уже был в России туристом и со мной заговаривает всякий раз ради упражнения в языке.
Водка… Тайга… Волга… Господин, прости… Братья Карамазов…. Да, мой русский язык плохо, но я люблю русский язык.
Мой сосед – немец-гуляка, от него даже в будничные дни постоянно пахнет хорошим немецким пивом и добротным немецким шнапсом. Я понимаю, что этого немца от сытой тоски и хорошего допелькорна тоже тянет в Чимололе, в город под святыми счастливыми звездами, приснившийся мне когда-то ночью на волжском теплоходе.
– Водка, – говорит он. – Тайга… Волга… А мне вспоминаются волжские символы – волжская русалка Любушка-Россиюшка и двуглавая свиномордая Россия, пожирающая себя и других, а в промежутке между этими полюсами – вся жизнь, вся история несчастной страны…
Немец желает мне доброго вечера, я отвечаю ему тем же, мы улыбаемся друг другу и расстаемся. Я иду в равнодушно-вежливой толпе, мимо до жути ярких витрин, мимо сидящей за столиками избалованно-привычной публики, неторопливо глотающей, безжалостно, спокойно пачкающей жиром и соусом белоснежные крахмальные салфетки. Сытость и покой даже в ухоженных уличных деревьях. Набоковский Берлин давно минул, но какая-то устойчивость, какая-то неистребимость духа чувствуется во всем, может быть, потому что здесь дух заменяет душу. Точнее, здесь господствует то самое скрытое единство живой души и тупого вещества, о котором говорили символисты. Впрочем, это уже совсем о другом, это уже совсем другие проблемы… А сейчас здесь в этот вечер со здешними проблемами можно встретиться только возле газетных киосков…
У ближайшего газетного киоска читаю написанную на щите последнюю берлинскую новость. Начальник берлинской полиции вышел на улицу в двух разных туфлях: одном черном, другом коричневом. Очевидно, начальник полиции куда-то торопился, удрученный проблемами, и к радости вездесущих фоторепортеров оказался на щите. В этом разница между нами и ими, их проблемы можно снять и надеть, как туфли. Мелкие ли, сложные ли, они все-таки отделены от тела. А наши проблемы вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо, и отодрать их можно только с мясом. Каждая российская проблема оставляет после себя на теле незаживающую, кровоточащую рану, и кто его знает, заживут ли эти раны когда-нибудь, не истечет ли Россия кровью до смерти, полностью избавившись от своих нынешних проблем? Нет, не сможет она так по-немецки, почти бескровно снять диктатуру, надеть демократию…
Я ухожу с утомляющей, бездушной, праздничной улицы, сворачиваю к каналу, поблескивающему гладкой черной водой, по которой словно бы можно ходить до рассвета, когда вода опять посветлеет и станет жидкой. Здесь прохладней, здесь, вдоль набережной и под мостами, прогуливается влажный, речной, совсем волжский ветер. Здесь мне проще, здесь я успокаиваюсь. В виски уже не так давит, и, как говорил мне знакомый доктор, мелодия сердца становится приятней. И уж нету удручающего нетерпения, нет удручающей злобы на жизнь. В такие благие минуты хочется верить в чудотворные силы, хочется верить, что рано или поздно тайны нашего спасения будут нам возвещены.
Октябрь 1988 года, Западный Берлин
В 1963 году, в полностью окруженном ГДР и построенной немецкими коммунистами стеной Западном Берлине, острове западного мира, с целью уменьшения его «отрезанности» были инициированы годичные стипендии для пребывания в городе деятелей искусств в области изобразительного искусства, литературы, музыки и др. со всего мира, дабы талантливые гости украсили собой культурную жизнь города. Начатую в 1963 году Фондом Форда по собственной инициативе и за счет средств Федерального министерства иностранных дел и Сената Берлина программу с 1965 года переняло отделение Германской службы академических обменов (DAAD) в Западном Берлине.
Среди стипендиатов, гостивших по году в городе, были: в 1964 году Игорь Стравинский, в 1968-м – писатель и драматург, ныне лауреат Нобелевской премии австриец Петер Хандке, в 1974 году польский драматург Славомир Мрожек, в 1977-м – первый советский композитор на стипендии Андрей Волконский. Затем в 1981-м – также советский тогда композитор Арво Пярт.
Горенштейн оказался исторически первым русским писателем, приглашенным на стипендию в Западный Берлин (первым из кинематографистов стал в 1985 году по предложению Горенштейна Тарковский). Но вот же ирония судьбы: он – вспомним, «сын австрийского коммуниста» – был вписан в документы стипендии DAAD не как представитель СССР, а как представитель Австрии, ибо оформлялся на стипендию не из Москвы, а из Вены, где с женой и маленьким сыном прожил три первых «заграничных» месяца, так как вынужденно выехал по еврейской линии.
Почему вынужденно? У Горенштейна еще в Москве было на руках полученное в мае 1979 года приглашение в Западный Берлин на эту стипендию, и он хотел получить в связи этим загранпаспорт. Но советские власти ему отказали, не признавая его таким образом писателем. Сказали оформляться по еврейской линии и лететь сначала в Вену. Затем уже оттуда, в Рождество, т. е. 25 декабря 1980 года был перелет в Западный Берлин. В том же самолете летели Ростропович с Вишневской. Знакомы они не были, но Горенштейн привлек внимание музыканта своей нежностью к кошке Кисти, которую он вез в салоне в корзиночке.
Горенштейнов встретили в аэропорту и отвезли в меблированную квартиру с забитым продуктами холодильником. Позаботились и о маленьком Дане, завезя все необходимое, в том числе незнакомые до того памперсы.
Инна Прокопец, тогдашняя жена Горенштейна, так вспоминала это время:
«Мы жили совершенно нормальной жизнью: мы ели, спали, ходили гулять… Свежий воздух, солнце, дождь и тому подобное… Мне жизнь эта очень нравилась. Я ее любила, потому что у меня, может быть, впервые на какое-то длительное время было абсолютное равновесие в духе. Может быть, для кого-то эта жизнь показалась бы немножко скучной, но мне было совершенно прекрасно».
До первой своей поездки на Родину в 1991 году Горенштейн прожил в Берлине 11 лет.
За эти годы он написал:
1981 С КОШЕЛОЧКОЙ (рассказ), ЯКОВ КАША (повесть)
1982 КУЧА (повесть), МУХА У КАПЛИ ЧАЯ (повесть)
1983 АСТРАХАНЬ – ЧЕРНАЯ ИКРА (повесть)
1984 ИСКРА (рассказ)
1985 УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ (повесть), ДЕТОУБИЙЦА (пьеса), ПОПУТЧИКИ (роман)
1986 ШАМПАНСКОЕ С ЖЕЛЧЬЮ (рассказ)
1987 МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВЫЙ САДИК (повесть), ЧОК-ЧОК (эротический роман)
1988 ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО НА ВОЛГЕ (повесть), ПРИТЧА О БОГАТОМ ЮНОШЕ (повесть)
1989 ПОТОМКИ ИВАНА СУСАНИНА (повесть) – не опубликована.
Горенштейн с женой и маленьким сыном жил первые полтора года в большой меблированной квартире, выделенной Академией, как он называл организацию, предоставившую стипендию. Через полтора года он снял квартиру поменьше, в которой прожил до конца своих дней.
По воспоминаниям Инны Прокопец, вещей у них было так мало, что переезд с квартиры на квартиру она осуществила сама в несколько ходок с загруженной вещами и книгами… детской коляской. Мебель пришлось покупать. Первые три года Горенштейну с семьей удалось прожить на растянутую им годовую немецкую стипендию. Ему, привыкшему как в киевской, так и в московской жизни к экономии, это было, как говорится, «не в напряг». Гонораров долгое время почти не было, были только скромные суммы за выступления с чтениями перед публикой. Более или менее серьезные гонорары начали появляться с 1984 года, после публикации во Франции романа «Псалом». (Psaume: roman-méditation sur les quatre fléaux du Seigneur, Gallimard, 1984; ISBN 2070227286). И все же денег не хватало, и Горенштейн согласился на предложение швейцарского издателя Владимира Димитриевича (Vladimir Dimitrijević) и в январе 1986 года продал ему, точнее, его издательству права на издание многих своих сочинений, получив от него по договору немалые по тем временам суммы в качестве авансов.
Я предполагаю, что Димитриевич просто решил в такой форме материально помочь Горенштейну, большой талант которого был для него очевиден. Во всяком случае, заработать на издании книг Горенштейна Димитриевичу не удалось.
В 1988 году, когда сын Дан пошел в школу, жена Горенштейна Инна поступила на работу и материально семье стало легче.
Начиная с 1990 года все стало еще лучше – больше стали гонорары, в том числе и за сценарии, а за «Тамерлана» для итальянского проекта Али Хамраева Горенштейн получил в 1990 году аж 50 000 долларов, хотя фильм, к сожалению, не запустился.
Далее были авансы на сценарии «Унгерна» для Ларса фон Триера и для фильма о Марке Шагале, который должен был снимать Александр Зельдович. Оба сценария были написаны, но картины по разным причинам не возникли.
В 1992 году распалась семья Горенштейна, и с того момента жил один.
В 1995-м киностудия «Ленфильм» заказала Горенштейну для режиссера Семена Арановича сценарий фильма о Фанни Каплан. Горенштейн не успел начать писать, как выяснилось, что Аранович неизлечимо болен, и проект был закрыт (Аранович умер в 1996 году). Горенштейн был очень удручен, так как увлекся этой работой.
Денег все равно часто не хватало, и только в 1997 году пришло важное подспорье – немецкая пенсия, как расово преследовавшемуся во время войны, на основе подтверждения через Красный Крест бегства Горенштейна с мамой из Бердичева в июле 1941 года.
Из интервью Горенштейна Савве Кулишу:
Ф.Г. Мама, к счастью, записала тогда нас, зарегистрировала. Тогда записывали всех – был приказ Сталина (так говорили) переписывать всех, кто находился в бегах, ехал в эвакуацию, был ли на вражеской территории и так далее… И это мне здесь, в Германии, очень сильно помогло. Русский Красный Крест выдал в 1997 году соответствующую справку, на основе которой я признан в Германии расово преследуемым со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?