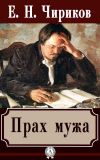Текст книги "Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному"

Автор книги: Юрий Векслер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Из воспоминаний о Фридрихе Горенштейне
Возможно, со времен Бунина страну не покидал писатель столь крупного дарования. Сомнительное утверждение? Никому не навязываю (Юрий Клепиков).
Я помню его по Москве: он умел по-бунински зло, но не злобно, шутить, был одновременно суетен и сосредоточен (Виктор Ерофеев).
Инна Прокопец
Веселый Фридрих… он начинал петь, когда он веселый был. Он просто останавливался посреди комнаты и начинал петь. Кристинька, когда он начинал петь, она вдруг вставала со своего места и говорила «мяу-мяу». То есть она думала, что он плачет. Надо сказать, что она на его пение очень реагировала. То есть если он ругался – Фридрих ругался совершенно прекрасно, с удовольствием и очень сочно, – на это она совершенно не реагировала, но когда он начинал петь, она вставала на все четыре и говорила «мяу-мяу». Вдруг начинался диалог, он говорит Кристиньке: «Что такое, почему? Я не плачу! Перестань»…
Эти объяснения Фридриха, не объяснения, нет, Фридрих никогда ничего не объяснял, Фридрих стоял иногда просто в комнате и говорил два слова: вдруг как будто кто-то дохнул на тебя холодом и все кристаллы вдруг приняли форму, совершенно прекрасную форму. Было что-то непонятно, и вдруг дохнет кто-то на тебя, вдруг ты видишь абсолютно рисунок, он – совершенство. Всегда это было как будто бы какое-то дыхание – это каждый раз. Ты совершенно была не подготовлена к этой ситуации, но Фридрих даст два слова, может быть через плечо, может быть просто так, может быть на кухне, стоя с ложкой, скажет, и вдруг – время останавливается.
Эдуард Артемьев
Горенштейн, однажды встретившись со мной в РАО, перед самым отъездом в Германию, спросил: «А что, Андрей [Тарковский – Ю.В.] все еще собирается делать «Идиота»?» Я подтвердил. «И так же хочет ввести в действие Достоевского?» – спросил Фридрих. Я сказал, что слышал об этом. «Мудааак…» – вырвалось у него.
Далее разговор пошел о проблемах с получением документов на вывоз в Германию Любимой Кошки.
Примерно через полгода мы вновь встретились в РАО и Фридрих сообщил, что проблема с Кошкой благополучно разрешилась, но теперь трудности с выездом возникли у него Самого.
Это была наша последняя встреча.
Павел Финн
У нас с Фридрихом, которого я узнал через Авербаха, была общая приятельница. Такая Рита Синдерович, работавшая в Союзе кинематографистов. Ее знали многие из нас, и многие пользовались ее разнообразной помощью – братья Ибрагимбековы, братья Михалковы, Борис Васильев и другие. Фридрих был с ней дружен. Когда он уезжал, часть своего литературного архива он оставил у нее, и он хранился на антресолях в ее коммунальной квартире. Она тайно давала мне кое-что читать и восхищаться.
Рита однажды позвонила мне и сказала, что Фридрих перед отъездом распродает библиотеку и не хочу ли я купить полное собрание Пушкина 1880 года, издание П.А.Ефремова. Я очень хотел, но отказался, сказав, что в этой покупке было бы с моей стороны что-то не очень красивое. Как будто я из тех, кто умеет пользоваться чужой бедой. Через некоторое время Рита перезвонила. Она поговорила с Фридрихом и – по ее словам – он сказал, что Финну можно продать. Это собрание стоит на моих полках, и оно для меня – память о нем.
Михаил Богин
Я узнал о Фридрихе Горенштейна после «Дома с башенкой», слышал о нем не однажды от Андрея Тарковского, который собирался экранизировать этот рассказ. Познакомился я с Фридрихом, когда показывал на сценарных курсах свой фильм. Высокомерия во Фридрихе я не заметил, он расспрашивал ребят, не стесняясь, обо всем, что его интересовало, и выслушивал со вниманием все, что ему говорили. Но у меня осталось впечатление, что он ни с кем не смешивается. Он явно был откуда-то не отсюда. И дело было не в еврейской интонации его речи. Я однажды увидел его идущим по улице. Был пасмурный день, и он шел с длинным зонтом, опираясь на него, как на трость, и я окончательно почувствовал его «неотсюдость». Удивительно было то, что этот человек с еврейской внешностью и оттенком местечкового еврейского выговора писал кристально чистую русскую прозу.
Чтобы продолжить, я вынужден отвлечься.
В 60—70-е годы была популярна радиопередача Агнии Барто «Ищу человека». Суть передачи состояла в следующем: во время войны, особенно в ее начале, в панике и неразберихе в большом количестве терялись малые дети. Их доставляли в милицию, но ни фамилии, ни места рождения, ни своего возраста, а порой и имени они в страхе назвать не могли. Им придумывали фамилии и места рождений, по зубам устанавливали приблизительный возраст и развозили по детским домам. И вот прошли десятилетия, дети выросли и захотели знать, кто они и откуда, захотели найти своих кровных родителей, но искать было некому, никакой реальной информации о них не было, всё было выдумано. И Агния Барто догадалась читать в эфире их отрывочные воспоминания, сохраненные детской памятью, и в разных концах страны родители и родные узнавали в них родную кровь и отзывались. За десять лет существования радиопередачи Агния Барто помогла соединить сотни семей.
Я снимал фильм «О любви», и мне понадобилось использовать отрывок из радиопередачи «Ищу человека» в одном из эпизодов. Я позвонил Агнии Барто и получил на это у нее разрешение. Агния Львовна выразила заинтересованность в фильме, основанном на письмах, присланных на радио, и мне стали привозить с радио очень легкие двухпудовые мешки из-под сахара, наполненные письмами со всех концов Сов. Союза.
В письмах этих стоял вопль отчаяния матерей, не могущих примириться с потерей ребенка, крик души одиноких людей, оказавшихся без единого родственника. Писали интеллигенты и полуграмотные люди.
Те, кто писали, не предполагали цензуры. А их воспоминания были необычайно ёмки, в них было через край трагедии, был и 37-й год, и голод, и много несправедливостей, выпавших на долю детей. Я понимал, что о содержании некоторых писем нельзя и заикаться, и тайно, для себя, выпечатывал детали и подробности, обороты речи и ситуации из этих писем. Там царил Шекспир. Оторваться от этих писем было невозможно.
Я понадеялся на пробойность Агнии Барто – она была известнейшим детским поэтом, а у всех чиновников, включая членов Политбюро, были внуки, лепетавшие стишки Барто. Она была вхожа куда угодно со своими надписанными книжками. Я на это понадеялся, согласился делать с ней фильм и проиграл. Там, где цензура безмолвствовала, вступала с запрещениями Барто. Она ожидала получить Гертруду – звание Героини Соцтруда – и была непреклонна в своей идущей в ногу с властью поступи. Все эти письма были ее вотчиной, и она формировала их согласно своему правильному мировоззрению. Я надорвался морально и физически, ко мне вернулась забытая и оставленная в раннем юношестве детская астма, в северную экспедицию я уже не смог поехать и послал туда своего ассистента, а после завершения картины заболел и угодил в больницу. Но это мало помогло, в кино работать я больше не хотел и решил уехать за границу.
Предо мной встал вопрос: что делать с двумя десятками страниц, содержащими детали и подробности не слабее горенштейновского позолоченного портсигара с квашеной капустой из «Домика с башенкой»?
Я позвонил Фридриху, и он пригласил меня приехать к нему.
Стояла осень 1974 года. Жил Фридрих у метро «Черкизовская», в однокомнатной квартире, с подругой, молдавской певицей Марикой (если правильно помню ее имя) и кошечкой. Фридрих рассказал мне, как они оказались в этом доме. Марика была популярна в Молдавии, и среди ее поклонников был министр внутренних дел Молдавии Щёлоков. Когда Леонид Брежнев пошел на повышение и стал Генсеком, он забрал Щёлокова из Кишинева в Москву и сделал его министром внутренних дел СССР. Марика написала Щёлокову письмо с просьбой о московской прописке и получила прописку и однокомнатную квартиру в ведомственном доме МВД! Более того, когда, уходя от Фридриха, я попросил у него дать мне что-нибудь почитать из Горенштейна, он подошел к кровати, откинул полог и открылись аккуратно лежащие на полу под кроватью стопки машинописных текстов его произведений. Он выбрал и дал мне на вынос страниц десять своего текста. Марика мне понравилась, показалась теплой. Она ушла, и мы поговорили. Я передал Фридриху текст с надеждой, что он ему пригодится. И я попросил его не упоминать моего имени.
Прошло много лет, и в восьмидесятые годы в Нью-Йорке мне попался в руки то ли журнал «Континент», то ли «Время и мы». Я раскрыл оглавление и увидел там то ли повесть, то ли новый роман Фридриха Горенштейна. Названия не помню, и эту вещь я не прочитал. Но на первых страницах я увидел упоминание о работнике радио, который то ли подвигнул автора на написание этой вещи, то ли в ином контексте. У меня под рукой нет произведений Фридриха, но вы можете легко это установить. У него тогда мы поговорили, и я запомнил его фразу: «Летом я пишу для кино, а зимой я пишу прозу».
Фридрих был жесткий и не сентиментальный. У меня сложилось впечатление, что он не отвлекался на подробности. Он отчетливо ощущал свою миссию.
Леонид Хейфец
Фридрих и ворона
То ли ранней весной, то ли поздней осенью мы шли с Фридрихом по улице Подбельского, где он жил в те годы. Был пасмурный, промозглый день. Под ногами скользило, чавкало, потрескивало – короче, было очень грязно и скользко. Мы, выискивая сухие клочки земли, медленно двигались к метро. Вдруг Фридрих остановился и показал рукой в сторону нескольких чахлых деревьев, которые утопали в полузамерзших лужах. Я ничего не увидел и оттого не понял, почему он резко, не выбирая дороги, проваливаясь в мокрый снег и грязь, быстро зашагал к тем деревьям, наклонился и долго возился, как будто что-то выскребая из земли. Надо признаться, что я хотел было сразу двинуться за ним, но смалодушничал, почему-то очень не хотелось мочить ноги в холодной воде и, как ни позорно в этом признаться, пачкать в грязи брюки. «Что там, Фридрих? – нетерпеливо крикнул я. – Давайте поскорее, мы опаздываем!» Фридрих не обращал внимания на мои вопли, но вскоре двинулся в мою сторону, как-то медленно ступая, весь грязный и мокрый, что-то держа в красных от холода и воды руках. Это была ворона. Совершенно непонятно, что с ней случилось и как он разглядел ее в это время дня, вмерзшую в грязную лужу, беспомощную и умирающую. Фридрих, такой здоровый внешне мужик, как будто бы лишенный всяких сантиментов, держал в руках полуживую ворону, у которой были сломаны крыло и лапы, и старался бережно, как маленького ребенка, отогреть ее, гладил, прижимал к себе, плащ его моментально стал бурым, я почему-то не столько был огорчен состоянием вороны, как именно тем, что сам он был в ужасном виде, а ведь мы направлялись куда-то в гости, и мне никак не удавалось почувствовать то, что в это время ощущал он. Я торопился. Он – нет. «Она обречена». Сказав это, Фридрих еще долго ходил по улице Подбельского с той вороной. Я, проклиная все на свете, волочился за ним, пока он не нашел какие-то деревянные ступеньки и там, под этими ступеньками, пристроил ворону, найдя ей последний приют.
Я уже особенно и не помню, как прошла оставшаяся часть вечера, и только потом, когда я оказался дома и ушло напряжение прожитого дня, ко мне вернулась эта история как некое прозрение, я почувствовал все то, что сделал Фридрих. Я наконец-то увидел все со стороны: и себя, и его замерзшие красные руки, державшие ворону. Это был какой-то для меня невиданной силы урок, и мне не хочется определять словами, чему он меня научил. Но для меня очевидно, что этот урок был великим, каким был и сам Фридрих Горенштейн.
Фридрих и фанты
Однажды мы оказались в гостях в компании инженеров и молодых научных работников. Я представил Фридриха как сценариста и писателя, но, так как его имя не было на слуху, а народ был настроен на веселое общение, ни один человек не обратил на него внимания. Его не знали. О нем не слышали. При этом настроен он был в этот вечер весьма благодушно и, слава Богу, полное безразличие к нему его совершенно не смущало. Он вяло и незаметно посмеивался в усы и лениво что-то жевал за столом, иногда при этом погавкивая и посмакивая, – далекая и глухая местечковость его поведения в быту была известна всем. Сидели в конце стола, что-то ели, что-то пили, причем если я все же проходил как более или менее известный театральный режиссер и некоторый интерес «общества» мне перепадал, то Фридрих за столом вообще был похож на стареющего бердичевского парикмахера, не очень-то ловко владеющего вилкой и ножом, да и вообще не обращавшего внимания на всю эту мудню, извините за выражение.
Все было, как всегда на вечеринках такого типа середины семидесятых годов; неожиданным для меня было внезапное и весьма возбужденное предложение немедленно, как бы не отходя от стола, разыграть фанты. Повеяло детством и чем-то довоенным. Долго спорили, кто будет эти фанты разыгрывать, и я возьми и предложи Фридриха. Вначале все как-то засмеялись, уж очень он не произвел впечатления, а потом кто-то сказал: «А что, это хорошо. Он никого не знает, его никто не знает, пусть он и назначает, кому как "платить" за фанты».
Фридрих лениво уселся в кресло; казалось, еще немного – и он заснет. Начали играть. Очень смешно, с ярко выраженным еврейским акцентом он переспрашивал: «Так, что сделать этому фанту? Так и что ему сделать? Ну вот что…» – и предлагал совершенно неожиданные, поражающие своей тонкостью, остротой и проницательностью задачи. Каждое новое предложение Фридриха вызывало все более изумления и восторга. Я просто не понимал, каким образом он так точно угадывал характер хозяина фанта, так быстро понял характер взаимоотношений между гостями, потому что его пожелания как-то еще учитывали именно их человеческие связи. В памяти осталось его предложение к хозяйке одного фанта написать письмо, например, Александру, который это письмо давно ждет. Наступила непредвиденная пауза: дело в том, что Александра и эту женщину в самом деле связывали очень сложные отношения. Но как об этом догадался Фридрих? Так или иначе вечер заканчивался тем, что все обступили его со всех сторон, только сейчас дошло до большинства присутствующих, насколько незауряден был один из гостей, посыпались вопросы, восклицания, и на моих глазах бердичевский парикмахер превратился в пророка…
Именно в этот момент Фридрих решительно встал, быстро собрался и ушел один, бросив на ходу, что уже поздно и его кошке Кристе пора ужинать, он и так перед ней виноват, ведь она давно его ждет и скучает. Дверь моментально захлопнулась. Фридрих ушел. Все остались в недоумении. Повеяло мистикой.
Марк Розовский
Ступени Горенштейна
Фридрих был, что называется, «местечковый». И это поразительно сочеталось в нем: чисто еврейский говор, манера держаться, провинциализм, чудовищная невоспитанность – с высотой духа, кристальной, «тургеневской» чистотой русской речи в прозе, с аристократизмом мышления.
Однако все это стало понятно позже, потом, когда мы прочитали его рассказы, романы, пьесы, эссе… А тогда рядом с нами был молодой человек с неписательской внешностью и тяжелой манерой общения.
Он всех крыл.
– Этот Евтушенко…
– Этот Слуцкий…
– Этот Вознесенский…
– Этот Аксёнов…
Картавил без стеснения, без всяких комплексов.
Я его постоянно дразнил глупыми школьными антисемитскими дразнилками:
– Скажи, Фридрих, скажи… На горе Арарат растет крупный виноград!
Он шумно сопел и выдавливал из себя:
– Этот Маклярский… пусть тебе лучше скажет!
При этом уже в то время он удивил меня своим знанием «еврейского вопроса». Глубинные подходы, которые впоследствии были продемонстрированы Горенштейном и в «Дрезденских страстях», и в «Псаломе», и в «Спорах о Достоевском», и в «Бердичеве», тогда еще, видимо, только разворачивались в его писательском миросознании, мощно и стремительно произрастали в его тайном внутреннем мире.
Феномен Горенштейна в том, что – после сборника «Вехи» и религиозных мыслителей-эмигрантов – он, пожалуй, оказался первым, кто попытался на новом этапе, в условиях советского социума, распознать «русскую идею», поставив ее под рентген историзма и резко отделив от националистических идеологем. Его перо обнаружило гниение и разврат самых популярных марксистско-ленинских догм вкупе с безбожием и насилием, охватившими общество задолго-задолго до революции 17-го года.
Так и хочется воскликнуть в духе наших ультрапатриотов: «Далась этому еврею Россия!»
Именно далась. С ее болями, духовным поиском, терзаниями и метаниями, изможденным кровавыми катаклизмами бессознанием, с ее страстями и озлобленностью, с ее бесстыдством и лживым официозом во все времена.
Горенштейн всегда досконально знал свою тему. Поэтому коллеги его не трогали: уважали и при том чуток боялись его мощи, уважали его внедренность в описываемую историю, его сутевые размышления о человеке, попавшем в мясорубку событий.
Фридрих был аскетом. Мог жить на «рубчик», одной корочкой и стаканом чая в день. В нем угадывалась какая-то фантастическая смесь Гоголя и Кафки с их стоицизмом и эго-заряженностью на неприятие окружающей реальности. «Домашний философ» он был никакой – все, что он изрекал в устном общении, было, мягко говоря, спорно, но в письменном виде Горенштейн непререкаем. Непонятно почему, но это так.
Тайна Горенштейна в необъяснимом разрыве между уровнем его художественных опусов и бытовыми проявлениями его капризного, подчас сварливого характера.
И тут не подходят обычные мерки: за кажущимся высокомерием прячется глубоко ранимая, сосредоточенная душа – и тем она закрытей, чем больше в ней боли за себя и за других.
На мой взгляд, он очень повлиял на Тарковского и Кончаловского. Как и они на него!.. Хотя множество раз приходилось слышать его штампованные вздохи:
– Этот Тарковский…
– Этот Кончаловский…
Это звучало комично, но, прислушавшись к Фридриху, можно было распознать его «претензии» к молодым выдающимся режиссерам не как дежурные замечания, а как законченную киноэстетику нового натурализма: жизнь в кадре должна представать в формах самой жизни, никакой игры, время всегда соответствует реальному времени, – отсюда длинные планы и отсутствие эйзенштейновского монтажа как главного приема экранного изображения, а также тщательнейшая проработка второго и третьего мизансценического ряда – в кадре нет фона, а есть единая смысловая и цветовая композиция…
Фридрих Горенштейн отстаивал тотальный реализм – назовем его «сугубый натурализм», или «неподдельное кино», или даже «фотокино» – со всеми житейскими подробностями и документальной фактурой. Функция камеры – фиксация течения жизни во времени, без художественного или антихудожественного насилия над ней. Образ – знак правды, а не правдоподобия, поэтому необходимо срастись с реальностью – в этом и мастерство.
С Кончаловским, наверное, у него что-то не вышло. Сценарий фильма «Первый учитель» был написан Фридрихом, но в титрах, кажется, его нет. То ли Горенштейн сработал «литературным негром», то ли еще что-то, но обида, видимо, была законная, ибо несправедливость имела место. Темная история, высветить которую может только Андрон. Если захочет.
С Тарковским (сценарий «Соляриса») вышло получше (здесь в титрах Горенштейн значится), может быть, оттого, что курсы уже были закончены и Горенштейн на наших глазах делался из ничего – глыбой.
Однако глыба бедствовала. И это была не просто нищета, а какая-то нищета с угрюмством, какая-то достоевщина в быту. Неловко вспоминать, но я ему подсовывал денежку, приносил «продукты» в каморку, которую он снимал в доме рядом с Домом журналистов.
Однажды я пригласил его к себе на обед.
Я был почти уверен, что он не придет. Не позволит гордыня. К тому же я тогда жил с мамой, женой и маленькой дочкой далеко от центра, в Беляево-Богородском…
Маме я сказал:
– Придет великий русский писатель. Надо его накормить.
Мама постаралась. Накрыла стол с сервировкой, как полагается для почетного гостя. Ждали и… дождались.
Фридрих явился и удивил маму, потому что не захотел раздеваться. Целых полчаса он сидел в комнате в своем темно-синем плаще «болонья» и твердил, что совершенно не хочет есть. Стол, полный яств, взывал к обеду, но гость почему-то упорствовал – не садился…
Оказывается, он хочет гулять, а не есть. И потому, мол, я скорее должен одеваться и «давай куда-нибудь поедем!».
– Куда?
– В зоопарк! – закричала моя маленькая дочка Маша.
– В зоопарк, – сказал великий русский писатель. – В зоопарке интересно вечером.
– Почему только вечером? – спросил я.
– Когда темно, – был ответ, – звери другие.
Только после этого он разделся и пообедал.
О-оо, это надо было видеть! Точнее, слышать!.. Он ел суп с шумом, как крестьянин хлебает щи. Мама переглядывалась со мной, а я прятал глаза.
Наконец, слопав все, что стояло на столе, он встал и тотчас, не теряя минуты, предложил в приказном тоне:
– Всё! Поехали!
Темнеть еще не начало, но он уже торопился.
Поехали в зоопарк на такси. Всей компанией: он, я, жена и бабушка с маленькой Машкой.
Когда вышли на аллею, Фридрих сразу двинул на скорости вперед, мы еле поспевали за ним. Расстояние между нами было метров двадцать.
Вдруг он останавливается, наклоняется всей своей массивной фигурой куда-то вбок, берется за нос двумя пальцами и, широко отставив локоть, производит на асфальт шумное выделение из носа.
Мама остолбенела, испытала шок. И лишь, когда наша экскурсия закончилась, когда мы уже попрощались с Фридрихом и разошлись, на обратном пути мама все же задала мне, видно, очень волновавший ее вопрос:
– И это… великий писатель?
– Да, мама.
– Не может быть!
Оказывается, может.
Евгений Попов
Из настоящих писателей гарнитура не составишь
Писатель – это от Бога, а не от отдела культуры ЦК КПСС, Литературного института или нынешнего пиара, надувающего читателей в особо крупных размерах.
При знакомстве Фридрих Горенштейн многим казался собственным персонажем: брутальные шутки, нарочитый акцент «дядюшки из Бердичева», нетерпимость к более удачливым коллегам, безапелляционные, часто несправедливые суждения.
К счастью, перед тем как впервые встретиться с ним, я прочитал его кристально ясную прозу, написанную тончайшим русским языком. Там все было по-другому. Там был Бог. Дышали «почва и судьба». Пульсировала мысль. Мучались безумные люди. Рушилось мироздание.
Вот почему за всеми его эксцентрическими трюками и эскападами лично мною всегда угадывалась настороженная и беззащитная душа – сына «врага народа», да к тому же еврея, да к тому же уникального «неудобного» таланта, не получившего при жизни своего места (так назывался один из его лучших романов).
Что ж, «из настоящих писателей гарнитура не составишь», как однажды выразилась Белла Ахмадулина, правда по другому поводу.
Фридрих был мастер. В романе «Зима 53-го» он словами изобразил семь оттенков черного цвета того угольного шахтного ствола, вдоль которого летит вниз бедный его герой-самоубийца. Фридрих был странный человек. Все во мне противится тому, чтобы писать о нем эти краткие воспоминания. Боюсь, что все это будет выглядеть так же плоско, как и его витальные шутки и штуки. Боюсь «попасть в непонятное», как выражаются в малопросвещенных слоях нашего современного общества. Хотя чего, собственно, бояться? Фридриха здесь нет. А там, где он сейчас, мы все в свое время будем. Фридрих был подлинно странный человек во всех смыслах этого слова, включая религиозный.
Любовь Фридриха
Я не знал его предыдущих жен: чилийку с неизвестным мне именем и молдаванку по имени Маричка. Фридрих рассказывал, что чилийка познакомила его со своим сокурсником по Университету дружбы народов, которого звали Ильич Карлос Рамирес и который в дальнейшем получил титул «террориста № 1», а также астрономическое количество лет французской тюрьмы за свои политические убийства, подготовившие нынешний террористический беспредел во всем мире, в том числе и в нашей стране, где, как выяснилось, многому можно научиться. Ильич говорил Фридриху, что мировой гармонии достичь очень легко: советская молодежь должна пришить Брежнева, а западная – Никсона, или кто там тогда правил в Америке? Фридрих с ним очень спорил, но, очевидно, тов. Рамиреса не убедил.
Фридрих и кулинария
Как-то, еще в Москве, Фридрих позвонил мне и спросил:
– Ты кушать хочешь?
– Хочу, – признался я, проживавший тогда в одиночестве, да еще и в чужой квартире.
– Приезжай, я тебя накормлю, – сказал Фридрих.
Я и поехал. При советской власти у меня было много свободного времени. Фридрих жил где-то на Преображенке, в обыкновенной московской многоэтажке, и рассказывал, что здесь еще совсем недавно была «цельная деревня», состоящая из домов с палисадниками, что он даже брал у какой-то хозяйки полезное для его здоровья козье молоко.
Фридрих правильно накрыл стол. Вилка слева, нож и ложка справа. Салфетки. Свежий хлеб.
– На первое у нас будет украинский борщ, на второе – жареное мясо, на третье – компот из сухофруктов, – торжественно объявил он.
– А ты? – спросил я, наконец-то обратив внимание, что на столе имеется лишь один обеденный прибор.
– Мне не надо, – туманно ответил Фридрих.
– Может, ты меня отравить хочешь? – в его же духе пошутил я.
– Не отравить, а я уже покушал, – серьезно объяснил Фридрих и принялся меня угощать. Вина у него не было.
– Сыт? – спросил он меня, когда я съел все предложенное.
– Да, – сказал я.
– Вкусно было?
– Вкусно.
– Тогда теперь иди и расскажи всем, что Фридрих Горенштейн не только замечательный писатель, но и прекрасный кулинар.
Что я, собственно, сейчас и делаю. Правда, с опозданием на двадцать с лишним лет.
Искрометная шутка Фридриха
В то время на участников «Метрополя» уже посыпались разного рода беды – «кому в лоб, кому в пах, кому в глаз», и мы, в очередной раз собравшись на вышеописанной квартире, в очередной раз решали кардинальные вопросы нашей тактики и стратегии: кому писать, зачем, что будет, чем сердце успокоится? Кто-то уже выпивал на кухне, трезвый Высоцкий сидел в углу на стопке книг, покойный авангардист Сапгир читал стихи религиозному философу Тростникову… Кажется, это именуется «богемой»?
Фридрих весьма оживленно участвовал в посиделках, но потом вдруг посуровел, глянул на часы, точно дождавшись определенного времени, быстрым шагом подошел к наружной двери и громко обратился к нам:
– Поздно, господа! Ваша песенка спета! Раньше надо было думать!
Открыл дверь и, угодливо изогнувшись, сказал сладким голосом:
– Заходите, товарищи!
За дверью, разумеется, никого не было.
Фридрих и его кошка
Его кошка по имени Кристенька, роскошная, ласковая, ленивая, мощная зверюга, была, пожалуй, единственным существом, каковое он любил преданно и беззаветно. Женившись на «рыжей», он на следующий день пригласил меня и Виктора Ерофеева «с женами» на свадьбу.
Это была самая странная свадьба в моей жизни, почище той студенческой, где товарищи, полагая, что я «юморист», выбрали меня тамадой, и все закончилось смертной тоской, дикой дракой и битьем посуды в нищем московском кабаке.
Фридрих не сразу открыл нам дверь той самой квартиры на Преображенке, а открыв, спросил:
– Пришли?
– Пришли, – ответили мы, вручая молодоженам цветы и подарки.
– Наверное, кушать и пить будете? – продолжал допытываться Фридрих.
– Будем, – признались мы.
– Пожалуйста, у нас много чего есть со вчерашнего… – Он широким жестом открыл холодильник и стал метать на стол закуски, доставать бутылки.
Вот мы уж и устроились за столом, подняв бокалы, изготовившись произносить тосты за счастье молодых.
Внезапно лицо Фридриха исказилось ужасом.
– Ты где села? – тихо обратился он к любимой невесте. – Ты что, не знаешь, что здесь Кристеньки место! (Опять место!)
…Я все равно утверждаю, что он не был монстром. Я утверждаю, что он был обыкновенный замечательный писатель, обыкновенный странный человек, не желающий принять как аксиому, что и время, и место каждому из нас определены Богом.
Юрий Клепиков
Мы познакомились в начале 60-х на Высших сценарных курсах. Горенштейн – даже не студент, всего лишь вольнослушатель. Значит, по творческим признакам не добрал каких-то баллов. Далекий приличных манер, бедно одетый, он казался еще и претенциозным. На лекциях постоянно высовывается, что-то хочет оспорить, косноязычно выдвигает аргументы, задает неловкие вопросы, пытается загнать в угол, надоедает, вызывает смех. Заподозренный в интеллектуальном юродстве, не был впущен ни в одну компанию. Одинокий и странный, он бродит среди нас, презрительно кривя губы.
Однажды в гардеробе:
– Горенштейн, тебе надо сменить фамилию.
– Почему?
– В кино и так полно евреев.
Это Марк Розовский. Конечно, шутка. Но я не помню ее упаковки.
– Я не просто еврей, я венский еврей.
– Венский. Это же надо!
– А вот ты московский. Сам меняй.
Влезает в старенькое пальтишко. Трясется от негодования.
Спустя годы оба окажутся авторами «Метрополя». Последний московский приют перед отъездом в Германию Фридрих найдет в доме Розовского…
Возвращаюсь на сценарные курсы. По прошествии первых недель определились лидеры, авторитеты, любимцы. Вот два молчуна – Иван Драч и Алесь Адамович, уже известные писатели. Красавец и остроумец Толя Найман. Гений обаяния Максуд Ибрагимбеков. Безупречный Илья Авербах. Эрлом Ахвледиани и Амиран Чичинадзе – организаторы быстрых застолий, сценаристы будущих великих фильмов. Со всеми хотелось сыграть в карты, поболтать, выпить, пуститься в какие-нибудь прегрешения.
А что Горенштейн? Да все так же. В сторонке, сбоку, никому не интересный. Но час его близился. Никогда не забуду: на одной из лекций там и тут читают свежий номер «Юности». Наконец он попадает в мои руки. «Дом с башенкой». Проза Горенштейна потрясла. Стало ясно, кто тут самый-самый. Фридрих с достоинством поистине аристократическим принимает свое новое положение, перестает выступать в роли оратора, а если и возникает, к нему напряженно прислушиваются. Но удивительно – остается в изоляции, на этот раз по своей воле. Куда-то исчезает, никто не видит его праздным, выпивающим, ухаживающим за девушкой, спешащим на футбол.
Фридрих был слушателем сценарной мастерской Виктора Сергеевича Розова. Оказался «неудобным» учеником. Все завершилось скандалом. Дипломный сценарий Горенштейна завалила комиссия, состоявшая из ведущих сценаристов того времени. Мастер не защитил подопечного. Зато сценарием заинтересовался Тарковский. Ему нравилась такая подробность: «В комнате пахло засохшими чернилами». Каково? Видимо, в сценарии в неожиданной форме ставились увлекательные художественные задачи. Другой великий ходил вокруг «Дома с башенкой». Там действовал угрюмый инвалид с золотым портсигаром, набитым квашеной капустой. Это восхитило Анджея Вайду. Позже Горенштейн напишет с Тарковским сценарий «Соляриса». И еще несколько для других режиссеров. Неловкость с дипломом будет исправлена. Усилиями Сергея Владимировича Михалкова образуется московская прописка. Встретится и женщина. С цыганской певицей Марикой Балан Фридрих соединит свою жизнь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!