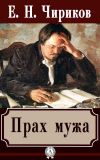Текст книги "Пазл Горенштейна. Памятник неизвестному"

Автор книги: Юрий Векслер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Чудесный осенний день, осень семидесятого. Московско-петербургские вёсны очень плохи, фактически весны, как правило, нет. Нет постоянной демисезонной весенней температуры шесть – десять градусов, в марте еще зима с выходом на низкие минусовые и нуль, апрель весь в нуле и низких минусовых с переходом на низкие плюсовые. От нуля сразу идет на восемнадцать – двадцать (теперь в Европе, в связи с изменением климата, и того хуже). Иное дело – осень. Осень в России, в Москве и Петербурге, бывает хороша, оттого и пушкинская любовь к осени, неслучайны и болдинская осень, и бунинская осенняя живопись, и тютчевская. Так вот, осенний день семидесятого, воскресенье. Тихо и пусто в Москве: кто на своих дачах, кто просто за городом, в Подмосковье. В такой тихий, несуетливый день договорились мы с Андреем Тарковским встретиться, чтобы обсудить предварительно работу по сценарию фильма «Солярис».
Встретились в ресторане «Якорь», был такой небольшой рыбный ресторан на улице Горького, недалеко от Белорусского вокзала. По-моему, он и ныне существует, но какие там коммерческие структуры властвуют, и не подают ли там лишь норвежскую треску и канадскую семгу? Тогда же, в начале семидесятых, еще не успела брежневщина высосать из страны последние соки на ракетно-военные надобности, еще полны были если не магазины, то колхозные рынки, и в ресторанах еще хорошо кормили, по-российски. В «Якоре» еще можно было заказать сравнительно недорого и печеного леща, и судака, запеченного с картофелем, и щуку, сома или налима с грибами, и карася, фаршированного кашей, с мочеными яблоками.
Встретились в «Якоре» мы втроем: я, моя бывшая жена – молдаванка, актриса и певица цыганского театра «Ромэн» Марика – и Андрей. Не помню подробностей разговора, да и не они важны, но, мне кажется, этот светлый осенний золотой день, весь этот мир и покой вокруг, и вкусная рыбная еда, и легкое золотисто-соломенного цвета молдавское вино, все это легло в основу если не эпических мыслей, то лирических чувств фильма «Солярис». Впрочем, и мыслей тоже. Марика как раз тогда читала «Дон Кихота» и затеяла, по своему обыкновению, наивно-крестьянский разговор о нем. И это послужило толчком для использования донкихотовского человеческого беззащитного величия в противостоянии безжалостному космосу Соляриса.
Потом, по предложению Андрея, мы переехали в «Националь», ресторан мной не любимый из-за царящего там бомонда, к которому, к сожалению, Андрей примыкал, посиживая там в житейской суете. Впрочем, в тот светлый день ресторан «Националь» был полупустой, а кормили там, конечно, хорошо, хотя, разумеется, подороже, чем в «Якоре». Особенно же славился ресторан грузинскими винами: красным, точнее, темно-гранатовым «Мукузани» и белым «Цинандали». В «Национале» я вдруг встретил своего друга детства, которого не видел много лет и который ныне служил в Кушке на границе, был в Москве проездом и зашел в ресторан пообедать. Сидели мы уже вчетвером, эти люди из совершенно разных концов моей жизни сошлись вместе весьма гармонично, хоть больше никогда не сходились. И эти чувства, светлые минуты бренной жизни вошли в «Солярис».
«Солярис» начинался в покое и отдыхе. Околокиношная суета, к сожалению, явилась, но потом. «Утонченные умники» внушали Андрею, что «Солярис» – неудачный его фильм, чуть ли не коммерческий, а не элитарный, потому что слишком ясен сюжет и ясны идеалы. Поживем – увидим, господа «элитарные», «утонченные». Впрочем, уже и теперь видно. Что такое «Солярис»? Разве это не летающее в космосе человеческое кладбище, где все мертвы и все живы? Этакий «Бобок» Достоевского. Но воплощение не только психологическое, а и визуальное.
«Сто знацит? Кладбищенские размышления». Журнал «Зеркало загадок» № 7, Берлин, 1998 г.
Творческий роман Горенштейна и Тарковского с размолвками и паузами продолжался до смерти режиссера (в 1986 году), которую Горенштейн до конца своих дней ощущал как невосполнимую утрату. Были у них и другие совместные работы и замыслы, в частности, сценарий «Светлый ветер» (по роману Александра Беляева «Ариэль»), было и в конце жизни Тарковского совместное сочинение фильма по «Гамлету».
Горенштейн говорил в интервью Евгении Тирдатовой:
Ф.Г. Я считаю, то, что происходит сегодня с мировым кино, это результат засилья режиссерства. Кино должно опираться на литературу… Для того чтобы оно стало другим искусством, оно не должно терять связи с соками, которые его питают. Я, как профессиональный сценарист и литератор, конечно, отделяю одно от другого. Я пишу пьесы, думая о законах театра: если не выбраны точно жанр и стиль, а у меня так бывало, нечасто, но бывало, лучшие идеи идут под откос. К сожалению, не всегда точным выбором жанра обладал Тарковский. Ему надо было попытаться сделать совершенно классические вещи, при его-то чувственности. Очень жаль, что он не снял Достоевского, жаль, что не поставил гоголевскую «Страшную месть», мы с ним об этом говорили.
Интересно, что в конце 90-х, работая над мега-пьесой об Иване Грозном «На крестцах», Горенштейн вернулся к образу Андрея Рублева и вступил в творческий спор с Тарковским. Но об этом ниже.
Обсуждение на «Мосфильме», по мнению критика Инны Борисовой, позднее вдохновило Горенштейна на пьесу «Споры о Достоевском», но обсуждение это, при его советском абсурде, отмечено важным: признанием большой одаренности Горенштейна, признанием уникальности его таланта. Не стоит, наверное, излишне обольщаться тем, что в худсовете возникла тогда исключительная флуктуация большинства за Горенштейна. И тем не менее слова, прозвучавшие при обсуждении, все же давали Горенштейну надежду на будущее признание, тем более, что – и это видели все – он не был антисоветчиком… Так говорили о нем тогда почти все участники обсуждения. Ничего подобного тем не менее не произошло в литературной и театральной среде, хотя доброжелатели и «пониматели» (Анна Берзер, Инна Борисова, Лазарь Лазарев, Виктор Розов, Александр Свободин, Борис Полевой, Мария Озерова и в театре некоторое время Олег Ефремов и актеры «Современника» Андрей Мягков, Олег Табаков, позднее Станислав Любшин) были, конечно, и там.
Раба любвиПараллельно в жизни Горенштейна тогда же, в 1963 году, начался плодотворный творческий роман с Андреем Кончаловским (он, кстати, перевез из России в Германию многие тексты Горенштейна), написавшим в предисловии к книге кинопрозы Горенштейна «Раба любви»:
Андрей Кончаловский
Первый раз я его увидел в редакции кинообъединения на «Мосфильме». Фридрих производил странное впечатление. Одет он был как-то по-кургузому, в несколько слоев – под пиджаком был свитер, под свитером фланелевая рубашка в клеточку. Его ярко выраженный еврейский местечковый акцент и постоянная смущенная улыбка сразу запоминались. Говорил он скрипучим голосом, глядя куда-то в сторону и лишь изредка бросая взгляды на собеседника. Кажется, мы были с Тарковским, и втроем разговорились о его повести, только что опубликованной в журнале «Юность». Публикация такого текста (в то время!) в советском журнале стала оглушительным событием. Фридрих же, в свою очередь, был возбужден нашим сценарием «Андрей Рублев», который был напечатан в «Искусстве кино» и тоже стал своего рода сенсацией.
Не помню, сколько времени прошло с того вечера в буфете киностудии, но достаточно быстро я предложил ему переписать сценарий «Первого учителя». Повесть Айтматова и сценарий Добродеева были написаны в таком сентиментальном, лирико-драматическом жанре. Я же хотел сделать из этого раскаленный кусок истории – трагедию, которую можно было увидеть в фильмах Куросавы. Творчество Куросавы мы с Андреем Тарковским досконально изучали в фильмотеке «Белых столбов», и этого нельзя не заметить как в «Андрее Рублеве», так и в «Первом учителе».
Фридрих очень ясно понимал вот эту раскаленность характера учителя, и, главное, он сразу схватил мои намерения. Я очень боялся, что Айтматов будет недоволен, потому что вещь была изогнута в совсем другом направлении. И, надо сказать, к чести Айтматова, он прочитал сценарий и сказал: «Мне очень нравится, не хочу ничего менять».
После успеха «Первого учителя» у нас возникла крепкая и плодотворная дружба. Я понимал, каким талантом и оригинальностью обладает этот несуразный, застенчивый и угловато-неловкий человек, который, кстати, мог очень страстно увлекаться женской красотой и влюбляться. Я подтрунивал над его увлечениями, и он принимал это без обиды.
Мы написали еще несколько сценариев, в частности, «Рабу любви». До его отъезда из СССР в 1980 году мы, помимо «Седьмой пули», которую снял Али Хамраев, вместе написали сценарий о Скрябине под названием «Зависть».
Уже когда он жил в Западном Берлине, у меня родилась идея сделать фильм о Марии Магдалине. Мы довольно долго работали над сценарием – изучили массу материала, и у меня до сих пор хранится в архивах около 1000 страниц к этому проекту, есть также и синопсис…
Еще несколько слов о нашей, наверное, самой известной совместной работе – фильме «Раба любви».
В свое время была такая актриса Инна Гулая. Она была очень похожа на звезду немого кино. Гена Шпаликов за ней ухаживал и потом женился. Мы с Геной решили написать для нее сценарий о Вере Холодной. Мы начали писать, и я собирался снимать по нему картину. Назывался сценарий «Нечаянные радости». Но этому проекту не суждено было сбыться, потому тогда я уже думал о съемках «Первого учителя». Подробностей я не помню, но во всяком случае сценарий со Шпаликовым не был написан, и я предложил работу Горенштейну. Мы написали в итоге «Рабу любви». Начинал снимать Хамдамов, но в процессе съемок Рустам вдруг исчез, растворился в тонком воздухе, как дух, и студия оказалась в странном положении. Меня вызвал директор Сизов и, так как это я предложил кандидатуру Хамдамова, потребовал разобраться с производством, которое остановилось. История это известная, много раз интерпретированная, и все знают, что в результате Никита Михалков начал снова производство и на оставшиеся деньги закончил фильм, который, кстати, был очень успешен.
Горенштейн в совместной работе всегда шел на несколько шагов впереди того, что можно было себе представить. Он был художником очень смелым, неожиданным и парадоксальным, его характеры, их поведение были всегда крайними и какими-то «горенштейновскими». Он мог затормозиться на каких-то деталях, казалось бы, абсолютно ненужных, а потом перескочить через огромный кусок жизни и опять на чем-то сосредоточиться. Он, подобно Чехову, сжимал и растягивал время в тех местах, где ему хотелось. Мне кажется, что, чем больше так называемых «ненужных вещей» в произведении, тем более ярко выражается характер писателя, художника или режиссера.
У него есть пьеса, а на мой взгляд – замечательное литературное эссе, которое можно назвать драматургическим, – «Споры о Достоевском». Я не могу сказать, что с драматургической точки зрения это совершенное произведение – через него проламываться сложно (но ведь так же сложно проламываться и через прозу Федора Михайловича), но глубина и изощренность характеров там во многом достигает уровня Достоевского.
В этом же смысле поразителен образ главного героя в его романе «Место»: этот молодой человек – Гоша, который в общежитии ест шоколад, накрывшись одеялом, чтобы не делиться… Молодой человек, которому (в его мечтах – Ю.В.) суждено стать диктатором России! Глубочайшая, странная, необъяснимая, как все гениальное, и при этом абсолютно реальная вещь.
Фридрих мог иногда вспылить. Если бы не мое уважение… нет, уважения у меня ни к кому не было тогда, скорее – любовь к нему, то вряд ли мы остались бы друзьями. Но вы знаете, есть люди, на которых трудно сердиться. Можно возмущаться ими, можно ударить по голове чем-то, а сердиться в глубине нельзя, потому что понимаешь, что эта агрессивность на самом деле – форма выражения беззащитности. Мне казалось, что он всегда был готов к тому, что его просто ударят. И он всегда был готов драться, как волкодав. Вместе с тем он был бесконечно нежен и чувствителен. Его достаточно было погладить, что называется, по шерстке, и он обмякал, начинал моргать и слезы выступали у него на глазах. Такой характер мог бы описать Чехов. Или Кафка?..
Человек был абсолютно беззащитен перед системой, перед бюрократией… Могу представить себе, что таким же беззащитным был, наверное, Мандельштам.
И Тарковский, и я, мы очень хорошо понимали, что такое Фридрих. Во время Пражской весны, когда в Чехословакию вошли танки, Горенштейн написал выдающееся эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», которое, естественно, не было опубликовано, но на нас произвело неизгладимое впечатление. Я его часто цитирую до сих пор. До сих пор у меня в памяти сохранились особенно яркие фразы этого манифеста: «нет ничего страшнее, чем дикарь с букварем» или «если Толстой и Достоевский – это Дон Кихоты русской литературы, то Чехов – это ее Гамлет».
К сожалению, сегодня время медленного чтения, время литературы Горенштейна ушло. Он успел еще ухватить тот период, когда люди читали. Не листали, а читали. И читали не автора, а текст.
Вернется ли когда-нибудь подобное время? Придет ли время Горенштейна? Я не знаю. Но тем, кто еще не утратил способности к внимательному, сосредоточенному чтению, его романы, повести и… сценарии способны доставить подлинное удовольствие общения с глубоким и по-настоящему одаренным Богом писателем.
Доброжелательность людей кино в итоге воплотилась в фильмы сценариста Горенштейна.
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН
Фильмография
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 1965, режиссер Андрей Кончаловский, сценарий, в титрах не указан
АНДРЕЙ РУБЛЕВ 1966, режиссер Андрей Тарковский, монологи, в титрах не указан
СОЛЯРИС 1972, режиссер Андрей Тарковский, сценарий
СЕДЬМАЯ ПУЛЯ 1972, режиссер Али Хамраев, сценарий, вместе с А.Кончаловским
ЩЕЛЧКИ 1973, режиссер Резо Эсадзе, сценарий
РАБА ЛЮБВИ 1975, режиссер Никита Михалков, сценарий, вместе с А.Кончаловским
КОМЕДИЯ ОШИБОК 1978, режиссер Вадим Гаузнер, сценарий
ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ 1980, режиссер Сурен Бабаян, телефильм, сценарий по Рэю Брэдбери
Я намеренно начал книгу с высокой ноты первого творческого признания Горенштейна в Москве – с его первого большого написанного в Москве текста «Дом с башенкой», с которого и началась не только его сценарная работа, но и собственно его литература, которую он видел как высокую, освященную Богом игру.
Горенштейн впоследствии написал, вспоминая первые годы в Москве: «После киевского клоповника был я тогда ужасно избалован московским вниманием, думал, все меня любят и только и ждут, чтобы добро мне делать»…
В рассказе «Шампанское с желчью», где Горенштейн зашифровал себя под фамилией Гершингорн, есть сцена явно из этого времени:
Пьесу Гершингорна читали у Ю. всё на той же «кухоньке». Было время: интеллигенция собиралась в салонах под зеленой лампой, а на «кухоньках» лакеи щупали кухарок. Есть какой-то особый оскорбительный смысл в этом добровольном самовыселении нынешнего интеллигента-мещанина из собственных комнат на собственную кухню. Как дворянская эмиграция вспоминала с умилением брошенные барские усадьбы или брошенные хутора, так нынешние уехавшие в эмиграцию вспоминают брошенные московские и ленинградские «кухоньки». Сколько слабого, праздного, ненужного было в этом кухонном времяпрепровождении, а все же случались и на «кухоньках» трогательные, искренние моменты.
Когда Гершингорн окончил чтение пьесы, все сидели молча. Окна были распахнуты в теплый лунный вечер, и на кухне приятно пахло легким белым вином.
– Так он же Гоголь! – вдруг восторженно, романтично воскликнула пожилая дама.
– Нет, Чехов, – спокойно, бытово возразил ей молодой человек.
Приятно, приятно ласкать непризнанного гения. Как часто пишет Шекспир, желая подчеркнуть торжество момента, «все уходят при звуках труб». Уходят, чтоб заняться текущими, живыми проблемами, а гений остается в своей неживой, разреженной, горной атмосфере, где дыхание затруднено, а состояние неестественно и напоминает длительную, непрерывную агонию со всеми признаками отсутствия бытового сознания и присутствия сознания потустороннего. Поэтому нужда в гениях гораздо меньшая, чем это кажется на первый взгляд. Особенно в непризнанных. Если уж ты гений, так сиди где-либо на недоступной высоте в альпийском замке своем или среднерусской усадьбе. А на этих непризнанных и доступных смотришь со страхом и раскаянием, переходящим, как естественная реакция самозащиты, в дерзость и насмешку.
«…думал, все меня любят и только и ждут, чтобы добро мне делать…» И делали. «И Тарковский, и я, мы очень хорошо понимали, что такое Фридрих». И оба действенно помогали Горенштейну встраиваться в московскую жизнь.
Кончаловский через отца помог с пропиской и пытался помочь с квартирой, со вступлением в кооператив. Драматург Виктор Розов, в мастерской которого Горенштейн оказался на Высших сценарных курсах, «пробивал», как тогда выражались, его рассказ и пьесу. Высоко, как мы уже убедились, оценивал талант Горенштейна Тарковский…
Особой заботой Горенштейн был окружен в Москве в доме критика Лазаря Лазарева, которому доверил хранение своих текстов и выдачу их по его особому разрешению узкому кругу знакомых…
Далее, однако, последовали встречи и со своими Сальери (поначалу с одним из них, но явно проявившемся), и с событиями внешними, от которых он не мог, как многие, закрыться «на кухоньке». «А на этих непризнанных и доступных смотришь со страхом и раскаянием, переходящим, как естественная реакция самозащиты, в дерзость и насмешку». И от этих смотрящих «со страхом и раскаянием» Горенштейн и получал позднее действенные проявления зависти и злословия.
«Летом я пишу для кино, а зимой я пишу прозу…»
Горенштейн жил в Москве на деньги, которые давало кино. Я говорю не только об осуществившихся фильмах с его участием. Он писал заявки на сценарии, за которые, в случае их принятия, сначала платили авансы, а в случае реализации сценария – гонорары, а еще он «по-черному» правил за деньги чужие сценарии.
Это сложилось у Горенштейна в Москве на удивление почти сразу. Вот часть его кинодеятельности (нереализованные замыслы) до эмиграции:
СЦЕНАРИИ
1. «Дом с башенкой», 1963
2. «Девочка родилась в 47-м году», 1964
3. «Ленин. 1903 год», 1969
4. «Чудесное посещение», литературный сценарий по мотивам повести Герберта Уэллса, 1971
5. «Испытание», вместе с Юрием Клепиковым, 1971
6. «Скрябин» («Зависть»), вместе с Андреем Кончаловским, 1974
7. «Сестричка Саша», по мотивам повести Сергея Баруздина «Просто Саша», 1975
8. «Снег над морем», 1975
9. «Археологические страсти», 1976
10. «Волшебная лавка», литературный сценарий по мотивам рассказов Герберта Уэллса, 1976
11. «Светлый ветер», вместе с Андреем Тарковским, по роману Александра Беляева «Ариэль», конец 70-х
12. «Долгие годы», 1979
13. «Потусторонние путешествия», по мотивам произведений Герберта Уэллса и сочинениям по оккультизму и магии.
ЗАЯВКИ НА СЦЕНАРИИ
1. «Люди из захолустья»
2. «Серебряный олень»
3. «Белокаменная»
4. «Солнечная»
5. «Ленин. Август. 1900 год…»
6. «Обреченные на бессмертие», 1970-e
7. «Астрономия», Горенштейн, Эсадзе
8. «Золоток ключик», Горенштейн, Кончаловский
9. «Кефир»
10. «Три года», телевизионный фильм по повести Чехова.
Но параллельно Горенштейн делал главное дело своей жизни – писал книги. В Москве написаны
1963 ДОМ С БАШЕНКОЙ
1964 ВОЛЕМИР (пьеса), СТАРУШКИ (рассказ), ДЕНЬ, ОСТАВШИЙСЯ НАД ОБРЫВОМ (рассказ)
1965 ЗИМА 53-ГО ГОДА (повесть)
1966 СТУПЕНИ (повесть), РАЗГОВОР (рассказ)
1967 ИСКУПЛЕНИЕ (роман)
1969 КОНТР-ЭВОЛЮЦИОНЕР, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАСТИ, НА ВОКЗАЛЕ, ФИЛОСОФСКИЙ КРЮЧОК В ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕ (рассказы)
1973 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН (кинороман), СПОРЫ О ДОСТОЕВСКОМ (пьеса)
1975 ПСАЛОМ (роман), БЕРДИЧЕВ (пьеса)
1976 МЕСТО (роман)
1977 ТРИ ВСТРЕЧИ С ЛЕРМОНТОВЫМ (рассказ), ДРЕЗДЕНСКИЕ СТРАСТИ (повесть)
В 1966 году Горенштейна постигла в Москве вторая важная в его судьбе неудача (о первой чуть ниже) – отказ «Нового мира» напечатать его повесть «Зима 53-го года» о жизни донбасской шахты. Повесть была отвергнута редакцией, несмотря на поддержку отважной Анны Берзер.
Из стенограммы заседания редколлегии «Нового мира» в 1966 году:
Алексей Кондратович: Это именно «угол зрения», а не широкий и объективный взгляд на жизнь. Автор настойчиво хочет испугать меня, и в этом я вижу преднамеренность, едва ли добрую, во всяком случае – надуманную. Написана повесть местами (особенно в начале) так усложненно, с таким обилием рудничных терминов, что разобраться в этом нелегко. Патологичность характера главного героя несомненна, так же как некоторая болезненность авторского отражения этого характера. Но последнее, возможно, от моды.
Евгений Герасимов: Боюсь, что в данном случае Анна Самойловна (Берзер. – Ю.В.) ошиблась. Поведение героя повести кажется патологичным, и что хотел сказать автор – я не понял.
Борис Закс: О печатании повести не может быть и речи – не только потому, что она непроходима. Это еще не вызывает ни симпатии, ни сочувствия к авторскому видению мира. Шахта, на которой работают вольные люди, изображена куда страшнее, чем лагеря: труд представлен как проклятие; поведение героя – сплошная патология; повествование на редкость алогично, а обилие технических подробностей не помогает, а мешает понять что-либо. Талант автора сильно преувеличен в известных мне устных отзывах. Хотя, надо признаться, отдельные эпизоды написаны сильно. Если, как пишет Берзер, перед нами «произведение сложившегося талантливого писателя», то – надо признать прямо – это талант больной и болезнь неизлечима. Другое дело, если повесть – произведение незрелого, неопределившегося писателя. Тогда это случай тяжелый, но не безнадежный.
Это бодание в дубовой ложе ясно отрезало Горенштейна от «советской литературы», от ее процесса, и он больше не только в «Новый мир», но и вообще ни в какие журналы до отъезда из страны ничего не предлагал, и только в «Литгазете» изредка публиковал юморески.
Так закрылся для Горенштейна путь в официальную литературу СССР. Позднее он счел себя благодарным судьбе, так как публикация сделала бы его «писателем в законе», ориентированным на публикации, и скорее всего не позволила бы, как он считал, написать «Псалом» и «Место», а может быть, и «Бердичев».
Параллельно закрылся и маячивший некоторое время путь к успеху первой пьесы «Волемир», которую хотел поставить Олег Ефремов в «Современнике» (об этом ниже в главе о Михаиле Шатрове).
В итоге осталось только писание сценариев на продажу и своей прозы «в стол».
Первым произведением после «Зимы 53-го года» стали «Ступени», которые попадут в 1979 году в альманах «Метрополь».
С альманахом, участие в котором Горенштейн позднее оценивал как ошибку, связаны последние перед эмиграцией свидетельства чужеродности Горенштейна совписовской элите.
Цитаты из стенограммы обсуждения альманаха в Союзе писателей…
Феликс Кузнецов: …Мне кажется, в альманахе четыре ведущих направления: 1) приблатненность (Высоцкий), 2) изгильдяйство над народом, 3) сдвинутое сознание (Горенштейн, Ахмадулина), 4) секс.
…
Лазарь Карелин: Ну вот, товарищи, разговор наконец определился. Филос[офов] нам слушать не надо. Здесь и так много философии. Вот Горенштейн с его ущербными, убогими, физиологическими сочинениями тоже философ буржуазный в своем роде. Всё вместе это – политическая диверсия и желание литературного скандала. Мы дали вам возможность одуматься, у нас нет сомнений, что это будет опубликовано на Западе. Вы были с нами неискренни. Вы не сказали, что решили собрать людей и объявить им об альманахе. А сбор людей – это гласность, ваш сбор нужен был для гласности… Мы пытаемся помочь вам, крупным писателям. Битов – превосходен. Горенштейн… Я его помню. Он начинал в «Юности». Проза у него слабее битовской. Сильный диалог? Богоискательский диалог. Люди отвратительны. Влияние Зощенко, Булгакова в отвратительной плоскости. Основная мысль: человек, сошедший с ума, духовно возвышается. Цитата: «Пока зрячие заняты распрями, слепорожденные не дремлют»… и про то, что власть – случайна. Может быть, это и отличная литература, но издана она не будет.
Интересно, что Горенштейн, который всегда говорил, что его «замалчивали», мог и не знать, что его упоминали при обсуждении, стенограмма которого появилась в печати уже после смерти Горенштейна. Но когда альманах вышел на Западе, Горенштейн, вскоре оказавшийся там же, уже, конечно, прочитал опубликованную в «Новом русском слове» к выходу «Метрополя» статью Вайля и Гениса «Манифест творческой свободы», в которой его повесть «Ступени» объявлялась самым слабым произведением альманаха. Горенштейн был уязвлен. Жаль, что он не мог прочитать опубликованную уже после смерти Станислава Рассадина его «Книгу прощаний», а в ней его первую реакцию на «Метрополь».
Станислав Рассадин
Когда я прочел, в пору его появления, еще рукописный альманах «Метрополь», меня охватили горечь и стыд, вполне патриотические. Не сплошной, но общий, уравнительный уровень альманаха, задуманного как «альтернатива», поразил ничтожеством духовного и нищетой эстетического результата. Поразил по контрасту, даже сразу по двум. Во-первых, с несомненной смелостью предприятия, не уважать которой нельзя, а во-вторых, и по контрасту, если хотите, вовсе не «альтернативных», просто – мастерских, высокопрофессиональных удач, прозы Горенштейна и Искандера, стихов Рейна, Липкина и Лиснянской с окружающей их расхлябанностью, полуумелостью и полуученостью. Что и было огорчительнее всего, впоследствии узаконившись: отказываясь от критериев российской литературы, всегда твердо знавшей, что хорошо и что дурно, что нравственно и что безнравственно, мы наипервейшим делом разрешаем себе писать плохо.
Вслух я всего этого, однако, не высказал, как и иные, думавшие точно так (вот они, несвобода, дисциплина, цензура партии невступивших). Мы боялись оказаться в ряду с теми, кто, наподобие отвратительного Феликса Кузнецова, кинулся делать на погроме альманаха карьеру; я ограничился тем, что высказал свое мнение кругу друзей, средь которых были, впрочем, «метропольцы» Липкин и Искандер.
Решение эмигрировать Горенштейн принял до «Метрополя», по его словам – где-то в 1977 году, а созревало оно, смею предположить, не без влияния советских государственных антисемитских (под видом антиизраильских) кампаний в 1967 и 1973 годах.
В уже упомянутом рассказе «Шампанское с желчью» есть воспоминание героя, названного в тексте «режиссер Ю.»:
Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, беспрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили в радио– и телеизвестиях. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда.
Я предположил бы связь между этим переживанием и написанием «Искупления». Связь, конечно, не прямая. Но здесь, как мне представляется, антисемитская кампания выступает в качестве триггера, а в качестве травмы – комплекс переживаний наблюдательного подростка во времена известных антисемитских кампаний в СССР 1948–1953 годов (их тень есть и в «Зиме 53-го года»).
То, что писал Горенштейн в Москве, не было антисоветским, но было настолько чужим эстетически (без «нормы» чего-то обязательно дурно пахнущего), что опубликованным стать никак не могло. Горенштейн понимал это. Но подлаживаться не мог. Он несколько раз в жизни находил свои непосредственные асимметричные творческие ответы на политические события. После вторжения войск стран-участников Варшавского договора в Чехословакию он написал эссе «Мой Чехов осени и зимы 1968 года», после разрыва отношений СССР с Израилем – повесть «Искупление», а после войны Судного дня в 1973 году и антисемитской кампании в СССР у него родились и были воплощены замыслы романа «Псалом», пьес «Бердичев» и «Споры о Достоевском» и документальной повести «Дрезденские страсти». Никто из сверстников не позволил себе реагировать на названные события даже текстами «в стол», ни у кого из них не возникло импульса даже помыслить в эту сторону. Пожалуй, только у Аксёнова, очень травмированного вторжением в Чехословакию (Алексей Герман рассказывал, как рыдал Аксёнов, узнав о вторжении), написался в 1968 году рассказ «Рандеву». Остальное – куда позднее, когда «замыслил побег»…
Было бы, конечно, примитивизацией видеть в этом прямые «ответы» Горенштейна: это было следование подсознательным творческим импульсам, сохранением себя, спасением своей души.
Горенштейну тогда важно было писать, написать не откладывая, вовремя. Это ясно из его мыслей вслух о судьбе Юрия Трифонова в его первом интервью на Западе Анатолию Гладилину в 1982 году.
Ф.Г. Юрий Трифонов пытался наверстать упущенное. Это и в жизни очень тяжело, в литературе это практически невозможно. Потому что то, что не сделано, то каменеет. Лев Николаевич Толстой никогда бы не мог написать «Севастопольские рассказы» в тот период, когда он писал «Войну и мир». Я это, конечно, говорю не для сравнения каких-нибудь литературных талантов – это смешно и нелепо сравнивать. Но каждый занимает свое место, есть место для золота, есть место для серебра, есть место для честной меди, всё нам нужно в литературе и в жизни. Я хочу сказать, что в тот период, когда надо было писать свои «Севастопольские рассказы», Юрий Валентинович Трифонов писал вещи совершенно другого порядка. И когда он нашел в себе силы как-то сказать в полный голос, множество тем, не созданных им ранее, вели между собой борьбу и создали то творческое напряжение, которое в конечном итоге, возможно, привело его к ранней смерти.
Написать было важно, а вот с публикацией Горенштейн был готов ждать. Не давал он свои произведения и в самиздат.
Он понимал, что если распространять их нелегально, то его запросто могли бы посадить в психушку, как это проделали в те годы с Валерием Тарсисом и Владимиром Максимовым. Достаточно вспомнить похожие на донос характеристики из немногочисленных обсуждений («Новый мир», «Метрополь»). Даже при как бы доброжелательном обсуждении на «Мосфильме» Мальцев публично заявлял, что Горенштейн, по его убеждению, шизофреник. Василий Аксёнов решился пустить по кругу роман «Ожог», обозначив на машинописной копии издательство как ВАСИЗДАТ, только когда окончательно решил эмигрировать.