Текст книги "Ячея"
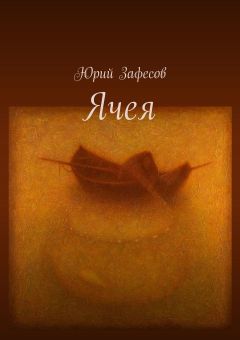
Автор книги: Юрий Зафесов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ячея
Юрий Зафесов
Иллюстратор Михаил Кабан-Петров
© Юрий Зафесов, 2023
© Михаил Кабан-Петров, иллюстрации, 2023
ISBN 978-5-4474-4200-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Октябрь
Вчера мне думалось светлей!
О, небо, хищных туч вокзал,
греми, раскалывайся, лей
и в землю молнии вонзай!
Сквозь думу павшего листа,
сквозь профиль, рваный и резной.
Какая злая нагота
перед грядущей белизной!
(1979)
«Рано светает…»
Рано светает.
Поздно темнеет.
Время сметает
всех, кто не смеет.
Гулкие ночи.
Серые стены.
Жизнь позвоночных
странных растений.
После паренья —
будничность ада.
И озаренье —
после разлада.
Чур! До свиданья!
Разум коснеет.
Поздно светает.
Рано темнеет.
Курсантские стихи
В.А.
Прошлое обрывается,
молвя вчерашним днём:
Время на нас отыграется,
как мы когда-то на нём.
В пору знобящей крепости
будет и круть и верть.
Встретятся две нелепости,
сцепятся Жизнь и Смерть.
Зрак секунданта сузится,
газовый взмоет шарф.
Сцепятся-запрессуются:
явят бильярдный шар.
Сферу. Грозой причесанной
вечность сойдёт на нет.
Тает в руках Зафесова
потусторонний свет.
«Садитесь за стол без меня…»
Садитесь за стол без меня.
На стенах безумствуют тени.
Доступностью легкой маня,
валькирии – к вам на колени.
Предайте спиртное огню.
Лицом моим – пламя качнётся.
Ту пулю в бокал оброню,
что в сердце дырой обернётся.
«Если делать Вам нечего…»
Если делать Вам нечего,
если полночь в окне,
Вы на станцию Печенга
приезжайте ко мне.
Здесь над белыми сопками
вьюги, пенясь, ревут.
Здесь гражданские соколы,
вот беда, не живут.
Здесь с печалью свыкаются,
но не падают ниц,
белокорые карлицы
у норвежских границ.
«Нет тебя! Что, не верится?..»
Нет тебя! Что, не верится?
Грезят ресницы инеем.
Просто вот взяли ветреность
и наделили именем.
Просто вот взяли облако
и населили ливнями.
Ливни умыли олуха
с отчеством, но без имени.
С отчеством, будто с посохом,
он поспешил за облаком
чертополохом, всполохом…
если б не встреча с обухом.
Обух молвы для олуха
пестует грех отпущенный.
Ветреность… чувство облака…
рваное и гнетущее.
«Ночами…»
Ночами
трудно засыпаю,
и на подушке
мне неуютно
как сипаю
на жерле пушки.
Раздумий
знобкая минута
в зиянье тает.
И даль запахнута,
и утро не наступает.
Я, изнемогший
чуткой ночью,
бреду по полдню.
Где сон во сне,
где мир воочью,
уже не помню.
Мир перепутий
и развилок
в сентябрьской
дрожи.
И тот, кто студит
мне затылок,
роняет вожжи.
О друге
Я думаю о нём:
он лгать не научился.
Он видел, как огнём
объятая волчица
несла к воде щенка,
слюной кипящей брызжа.
Была её щека
в кровавой пене – рыжей.
Горят леса, горят,
а судьбы еле-еле.
Обманчивый наряд
душевных богаделен.
Закрывшись на засов,
в замок сцепляю руки.
Из дум, как из лесов,
горящие зверюги.
Отвоют – и сквозь пол.
Дымится паутина.
Паду ничком на стол,
и – новая картина:
я друга узнаю
в геологе усталом.
Я вижу – в том краю
бушует красноталом
рассветная тайга
и навевает дымом.
Навалятся снега,
мы встретимся с Вадимом.
Он явится, как снег.
Правдивее, пожалуй.
«Заканчивая ночлег!
Ты выдумал пожары…»
«Смешно зимой не видеть снега…»
Т.Б.
Смешно зимой не видеть снега.
Вернее, грустно – не смешно.
И вот скрипит, скрипит телега,
везя промерзшее окно —
ослепший дом в пустое поле,
в бесснежье спекшейся зимы,
в раздумья, что родятся после,
как в клочья рваные дымы.
Скрипит, скрипит по лютой стуже,
устав от частых проводин.
Ты говорила: «Будет хуже,
когда останешься один»…
Когда заря из мглы восстанет
с недомоганием, с трудом.
Ведь не телега – просто ставень
из этих мест увозит дом.
«Сырой земли…»
Сырой земли
ветвиста память,
черемух мутная зима.
И постепенно
проступают
на синем черные дома.
Природы память
в третьем ком-то,
кому не помнить суждено
кипящий свет,
оконный контур
и два дыхания – в одно.
Дине
Птичий голос звонок:
«Фью, я гнёзда вью!»
Уступи, ребенок,
тропку муравью!
Человек глазастый,
золотой клубок
нас увел из царства
скучных лежебок.
Неизбывный, первый,
тот, что вел меня
в шорохи, напевы.
Нарожденье дня.
Крохотули-чада
жалобно кричат:
ящерки, птенчата,
выводки волчат.
Шелестят стрекозы.
Серебристый мрак.
Лягушат серьёзный
сочный переквак.
В дебрях облепихи
шало бродит свет.
Сказ про злое лихо
поутру – навет.
Оттого то, милый,
нам шагать пора.
И познанье мира
начинать с добра.
Подпаски
Т.Б.
Было детство. Было лишь вчера (я едва из детства выбрел, Таня). Мы, мальчишки, ночью у костра постигали тайны мирозданья: даль галактик, где пасут коней, не познавших пут и конокрадов, до последних утренних огней: трепет трав… немыслимая радость… бледный месяц… мутная тайга… над рекой свечение разлито… по гольцам стекает в берега… по камням отчетливо – копыта…
Было детство. Звёздные пиры. И миры – без горя и погони. Но смотрели в красные костры черные стреноженные кони.
Последние птицы
Последние птицы. Протяжная грусть на небе студёном – угольником тёмным. Тревога под сердцем – мой гадкий утёнок. Прощайте! Полет осуждать не берусь.
Я этой земли упоённый росток. Не зря мне даны ваше краткое братство, попытка в себе до глубин разобраться, и мыслей поток, как всемирный потоп.
Я, правый своей родовой правотой, замру над промерзшей отцовской могилой, над маминой скорбью, над бедами милой, над ранней, упрямой и дерзкой, мечтой.
Кому я на свете сумею помочь? Смогу ли прожить молодым и любимым?.. Последние птицы над снегом, над дымом, над спящим Витимом кричали всю ночь.
«Вязкий воздух локаторы месят…»
В.Я.
Вязкий воздух локаторы месят.
Ночь. Оплавлен коричневый месяц.
Пали росы, шипя, в ковыли.
И просторы прогоркли в пыли.
Широко,
от границы с Китаем
пал идёт, одичало скитаясь
по следам душногривой Орды.
И – лютует, теряя следы.
Мой товарищ
(по деду татарин),
в этот час позабыв о гитаре,
силуэтом застывший в окне,
видит сполохи дальних огней.
Он, надежный,
влюбленный в пехоту,
поведет молчаливую роту
по зловещей бескрайней степи
на огонь, как в атаку, в цепи.
Возвратится, горячий, под утро,
встанет на пол прохладный, разутым.
Вспомнит, влажную простынь стеля,
золотистой пшеницы поля.
«Милая, совесть моя не повинна…»
Милая, совесть моя не повинна
в том, что однажды пригрезилось мне
чёрное солнце, седая равнина,
хищная птица на древней стене.
Черное солнце, седая равнина…
это, быть может, вражда и хула.
Милая, что же ты смотришь ревниво,
молча руками меня оплела?
Думаешь, птицу я видел спросонок,
мозг начала обволакивать мгла?..
Вижу: под сердцем мерцает ребенок.
Полчеловечества ты сберегла.
Черное солнце. Седая равнина.
Вечность – в разъятой моей пятерне.
Полчеловечества… а половина
не родилась – растворилась в огне.
Рыщущих туч грозовая руина.
Я погибал на грядущей войне.
Черное солнце. Седая равнина.
Хищная птица на древней стене.
Память – наплывы сукровицы, грязи.
Голос Бояна и певческих струн.
Путь до любви. От сырой коновязи
мчит по равнине ослепший скакун.
«Не рыдай, береза, от картечи!..»
Не рыдай, береза, от картечи!
Восстаю из боли и тоски.
Облака, оплывшие как свечи,
пламенеют в зеркале реки.
В ней лодчонка, слушая теченье,
тарахтит у реденьких ракит.
А за плесом чистое свеченье
нелюдимке тело золотит.
Кто она? Зачем сюда приходит,
на песок ступает босиком?..
С ней вчера прощался пароходик
молодым надсаженным баском.
А сегодня на заре вечерней,
всё что было близко – далеко.
Золотое видится на черни.
Мне до боли сладко и легко.
И звучит, протаивает песня,
что ночами брезжила во мне
словно жар наследственного перстня
в ледяной фамильной глубине.
Так стихает долгое ненастье.
И тогда уже, как благодать,
помогает жить чужое счастье.
Ну а горе – учит сострадать.
«В кромешной темени светла…»
Тане
В кромешной темени светла,
во сне потягиваясь сладко,
ты прошептала-обожгла:
«Я – оловянная солдатка…»
Очнись, опомнись и найди
для жизни мирные пароли!
Пусть оловянные дожди
лудят изношенные кровли.
Пусть проводившая меня
калитка стонет тихо-тихо
и посреди большого дня
рыдает старая пластинка,
свою сжигая колею…
Любовью,
ревностью ли мучась,
благословляю я твою
непредсказуемую участь.
В. К.
Голубоглазый подполковник!
Нам не уйти в объятье снов, когда хмельной даурский конюх выводит звездных скакунов. Их мирозданье встретит громом, расклочит шпорами бока. Под галактическим паромом очнется Млечная Река. И осененный высшей правдой на степь обрушится поток…, в степи за каменной оградой живет военный городок.
Присяду я на подоконник, помыслю о добре и зле. Голубоглазый подполковник, тревога бражит на земле. В твоих ладонях вечность дремлет. Ты – ратник, пахарь. пилигрим. И мы про русские деревни всю ночь с тобою говорим. И пьем вино за наше братство, за все, что прожито всерьез. За рубежи! За гул пространства! За путь России в гуще звезд!..
Два смысла
Вячеславу Вьюнову
Смутен взгляд сквозь затемненность стекол в дорогом изяществе оправ. На глазу небес – ресницей – сокол, слепоту куриную поправ.
Брат мой сокол, где сестра зегзица?.. В облака, блукая, забредем. Заморгает небо, разразится обложным стенающим дождем.
Высверк молний – восклицанье блица, жизнь впотьмах, вслепую, впопыхах. И живут, не повстречавшись, лица, те что под очками и в очках.
Взгляд в очках подробен, как расплата за глаза припухлые подруг. Без очков – в себе подслеповато ты живешь, как замыкаешь круг. А пообочь суета сорочья, оторочья жизни суета, лес прозрачен, дымчат в узорочье, суть густа – ну, словом, лепота!
Два лица, два смысла зазеркалья рассеяньем света в каберне. Забайкалье, то бишь Забокалье: Чехов в кресле, Берия – в пенсне.
«Быть провидческой совестью родины…»
Быть провидческой совестью родины,
как и те, что в иные лета
говорили устами юродивых,
но свои замыкали уста.
Как и те, что при жизни возвысились
до мучительно честной судьбы,
чтоб у плах просмоленных, у виселиц,
у острожной глухой городьбы,
у разверстой нечаянной вечности,
у запятнанных кровью дворцов
оглянуться на род человеческий,
что злодеев казнит и творцов.
Таежник
Сказал: «Желаю всем здоровья!..» Смолчали стены – мыслил вслух… Трудна дорога до зимовья… Полет тяжелых копалух. Надсадный грохот переката. Цветные сны сибирских мхов. Пометками пестрела карта. Молчали томики стихов. Кромсали ночь метеориты. Сверкали вечные снега. Темнели ели. Меркли пихты. Сползали в реку берега. И он постиг на склоне лета, вдали от звона площадей, что неоправданна, нелепа домашняя вражда людей. Зверь провожал мужчину взглядом, что по своим же шел следам. И под винтовочным прикладом сверкал, расколот, колчедан. И смысл таился в каждом миге, в судьбе скитальца, в жизни всей. Он, возвратясь в уютный флигель, собрал задумчивых друзей. Ночь напролет негромко жили, не искаженные в молве, его пронзительные мысли о милосердье и родстве.
Вячеслав
Оставлю выводы на годы дальние, на дни усталости и неудач. Шаманка вышепчет: «Старо предание.» И в пляс ударится, как будто в плач. А я последую за тенью ястреба, тайгою, тундрою – до родника, где сопки синие, где солнце – ясное, где сквозь кедровники гремит река. И зверю вольному не став обузою, и заповедного не ранив сна, пещеру высветлив хрустальной друзою, прочту причудливые письмена.
Я в мир раззуженный вернусь разборчивым. Средь сотен слипшихся личин и рук, не сломлен леностью, не тронут порчею, живёт отшельником мой старый друг. Над ним, взъерошенным, звонок опомнится, забьётся рыбиной на остроге. Он встретит, вымолвит: «Явился, звонница! А я и в городе живу в тайге…»
Дом в Сибири
Свет печи. Чуть колеблемый свет.
Отогреем друг другу ладони.
В этом сиром, заброшенном доме
нет покою от прожитых лет.
Здесь зазря отгорает заря.
Паутина в углах шевелится.
И восходят забытые лица.
И кружится перо глухаря.
Сквозь надсаженный хохот пурги,
крепость бревен и одурь мороза
снова слышится плач паровоза.
А за дверью – чужие шаги.
Долгий сон на краю немоты.
Стол накрыт – для продрогших в дороге…
Мы наутро проснемся в тревоге —
хлеб не тронут, но стопки пусты.
Этой жажды нельзя утолить,
как нельзя в этой местности дикой —
той, где свет разбавляют брусникой,
от себя их приход утаить.
Зов из тьмы очевиден вполне,
как февральский взыскующий норов.
– Спи, родная, но даже во сне
не пугайся ночных разговоров…
Снег
Н. Шипилову
Ни о чем не беспокоясь,
в ночь иду – огни горят.
Содрогнул последний поезд
телефонных будок ряд.
Из одной – темно и глухо,
как упавшая с Луны,
смотрит жалобно старуха
на раздолье белизны.
Небеса ль её ветшают —
клочья падают к ногам, —
или вечность воскрешает —
как читает по слогам?
Что ей слышится – стихии,
постояльцев голоса?
У нее глаза сухие,
дальнозоркие глаза.
Что-то чует. Что-то будет.
Перестанет падать снег.
Кто-то, видимо, осудит
мой нечаянный ночлег.
Что-то будет – белый витень,
привокзальные огни…
Всё, что будет, можно видеть.
Выдать – Боже сохрани!..
Вербное воскресенье
В час, когда по заре луженой
станет прошлое парусить,
постучатся чужие жены
о душе моей расспросить.
«У похмелья больные крылья,
мы б хотели тебе помочь…»
Хватит!
Свиньи мой двор изрыли.
Бога нет!
Уходите прочь!
Не гневите!..
Но свет нездешний
ветер вербами шевелит.
И округа живет надеждой.
Отчего же душа болит?
Отчего шелестит над кручей
змий зеленый – воздушный змей?
Память,
совесть мою не мучай!
Нет покою душе моей!
Жаждет,
ищет она спасенья
там где зиждется Русский Крест.
Морок вербного воскресенья.
Бог не выдаст – свинья не съест.
Маятник любви
Дине
Прожитая вечность ничего не значит! В мире бесприютно, на душе темно. «Не печалься, доча, это водка плачет, в этой пьяной шкуре нет меня давно». Я уехал в гости и вернусь не скоро (мне отвратен шорох вкрадчивых шагов). В том краю далеком назревала ссора, я её утишу, разведу врагов. Я пронижу вечность, мне поможет случай, как письмо в конверте скомкаю лицо. Времени земного матерьял текучий разомну на пальцах, разомкну кольцо.
Отыщу в заборе старую прореху. «Не взрывайся, сердце, в полночь запершись!» Пусть надсада-память трижды входит в реку, дважды не смывая прожитую жизнь. Пусть как спутник бродит в зоревых урёмах, пусть тропа петляет меж добром и злом. Свезшихся с орбиты, жаром изнуренных увлеку сквозь годы в золотой пролом. Чтобы у порожка ягода-морошка, запахи и звуки незакатных дней. Чтобы шла на небо млечная дорожка, чтоб родные люди не брели по ней.
Прожитая вечность ничего не значит, в мире бесприютно, на душе темно. «Не тревожься, доча, это водка плачет. Соберись в дорогу, затвори окно.» Позабудь о боли ощущений острых, не расходуй душу в гневе и злобе. В том краю далеком бродит светлый отрок. Ты ему расскажешь о его судьбе. Скажешь: «Твои мысли потрепало ветром, напитаться грустью мы от них смогли…»
И качнется снова между тьмой и светом, меж родимых судеб маятник любви.
Напутствие
Кристине
Стар городишко. Прах погребенных бродит в крови монастырской стены. Жил в городишке Тишка-ребенок, он прозревал и разгадывал сны.
Днем с фонарем волоокий свидетель век сновиденья свергал с высоты. Но горожане, как малые дети, жадно смотрели в отверстые рты. Слушали сказки о собственной доле, доумевая, что небо коптят. Видя, как жизнь согревала в подоле теплые облачки белых котят. Как ошкуряла сосновые бревна. Как пламенела сосулями с крыш. Тишкина тетка Глафира Петровна за предсказанья имела барыш. И на крыльце со значительным видом, глядя пришельцам поверх головы, пыжилась: «Зараз мальчоночку выдам. Так повествуйте, что видели вы».
Видели сон богомольцы-скитальцы: огненный столп у Матёры-горы. Там ветродуя шершавые пальцы рвали с полей золотые вихры.
Странный ребенок судьбе благодарен – видеть поверх куполов и крестов. Сон означал: шестикрылый Гагарин, рядышком Будда, Мухаммед, Христос.
Виделся сон бригадиру сторожи, он добела отмывал кобеля. Рядом толпились ужасные рожи. Полые зерна рожала земля.
Тишка печалился: «В пору почина кто же незрячие, если не мы! Сон означал, что Аврора – мужчина, крейсер, лупцующий полночь Невы.
Я, как поэт, на правах звездочета Тишку оставлю – на добрый совет. Пьющая ключница видела чёрта, но не в зеленый – в оранжевый цвет.
Медные грошики – листья осины. Сон объясню, как блинов напеку: из-за морей привезут апельсины, их обменяют купцы на пеньку. На кожуре поскользнется татарин. Девица вспыхнет, свежа и горда. Мирной заботой пахнет из пекарен. В душные степи прольётся орда.
Далее – сон с Куликовой поляной, древо творения, ямб и хорей. Далее я повстречаюсь с Татьяной, матерью будущих двух дочерей. Реки, не раз поменявшие русла, утихомирят свои куражи. Мир назовется Сибирью и Русью. Непостижимостью – русская жизнь.
Русские люди – беспечные птахи. Странницы-тучки, стеклярус – роса. Чья-то башка отдалится от плахи, ноги немедля пойдут в небеса. Жизнь на Руси – благодать да потеха. Лес бесконечный, где леший да бес. В путь отправляется доброе эхо, а возвращается громом с небес.
Ясные думы свои пеленаем, баюшки-бай, моя лапушка дочь! Все наперед мы о родине знаем, только ничем ей не можем помочь. Знать, не по нам мировые одежды: моден покрой, а глядится срамно. Русой державы благие надежды алчный вельможа кладет под сукно. И кочевряжится, с жиру дурея. Сходятся ведьмы на старый погост. С шумом смыкаются кроны деревьев, чтобы не видели путники звезд.
Но ведь живем! Продолжается повесть. Миру нужны гусляры и волхвы. И Змей Горыныча мучила совесть – память четвертой его головы. И оттого, надевая пальтишко, ты не спеши под звучанье имён.
А сочинился мне в Суздале Тишка лишь для напутствия добрых времен.
Письмо в Забайкалье
Добрый день, Михаил!
Пусть железо гремит листовое, заглушая орган, поселившийся ночью во двор. Твоя дума – тайга, где нечасто встречаются двое. Повстречавшись, никак без глотка не начнут разговор. О кремнистой тропе, о нездешней высокой печали, о тяжелых снегах, заваливших дорогу домой. Михаил! Вишняков! Мы так долго и трудно молчали, ведь у нас за спиной все, что было сумой и тюрьмой.
Но и нам довелось слышать гром среди ясного неба: глас пытался внушить, что из нас получилась шпана. Что мерзлотные сны разглядела осклизлая нерпа. Что лишь косточки моет житейского моря волна
«Не начни без любви!..» – ты опять зацепил за живое. О несбыточном вечном звенит поднебесный поток. Милосердье – пустыня, где редко встречаются двое. Повстречавшись, никак не поделят последний глоток.
А поделят – поймут, что в дому всякой твари по паре: словоблуд и кормилец, савраска и резвый Пегас. Там, под Богом живя, чертенята гремят в самоваре, воздувают огонь, чтобы часом огонь не погас.
«Жаль поэта, что дар на воскресные выдумки тратит,» – ты осудишь меня. Я ль не помню вчерашнее зло, как погиб мой отец, как скорбел раскулаченный прадед, и как в ссылку его, устыдясь, провожало село.
Помню, но про себя. И душа от рожденья немая мне на пальцах расскажет про страшный вселенский рычаг. Помнить буду всегда, не изверившись, все понимая. Лишь постичь не умея – откуда в пустыне очаг. В нем, в летучей золе все блуждает игла золотая, запоздало латая по миру разбросанный кров. Трудно жить не рискуя, прохожие лица листая, не надеясь на встречу во тьме постоялых дворов. Будь здоров!
Евразия
Я пришел с таежного Востока. Эту весть на память затвержу. Одиноко! Ох как одиноко! Ливнями себя огорожу. Горностаев выпущу из клеток. Отольются мне колокола. Будет чай смородиновый крепок в ночь у евразийского котла.
В час, когда Вселенная ослепнет у гремучих звездных переправ, заклубится варево столетий, крошево из обагренных трав. И проступят дальние посулы, и означат цену за товар, и умелец оружейной Тулы распалит латунный самовар. И смолистый дух самосожженья перельется в смутную тоску, и взойдет скуласто отраженье, что сродни кипчаку-степняку. И тогда от взмыленного крупа ляжет тень на юную княжну.
Заклинатель замкнутого круга сотворяю Солнце и Луну.
«Попутчица взгляд поднимала к Стожарам…»
Попутчица взгляд поднимала к Стожарам,
смеясь, обнимала меня.
Виденье дацана, езда по кошарам,
полночный приют у огня.
Гортанную песню заводит кочевник,
посланец иной стороны,
о том, как от скошенной ястреба тени
шарахались, злы, табуны.
О том, как непрочно земное везенье,
о грёзах незрелых плодов…
Я тёмен и дик, сумасброд-иноземец,
язычник больших городов,
встаю, ухожу от костра безлошадный,
в ту степь, где смуглы пастухи.
И женщины голос звучит, беспощадный:
«Я тоже писала стихи».
«Таинство удочерённых…»
Таинство удочерённых
кущ незнакомой луны.
Чопорность белых черёмух.
Ночь молодой тишины.
Светом облитые склоны.
Гул полноводной реки.
Тяжко колышутся волны,
плавно летят лепестки.
Быстро проносятся воды,
жадное чьё-то питьё.
Дети бессмертной природы,
слушаем голос её.
Слово любви и привета,
что из глубин проросло.
И не имеет запрета
странное наше родство.
«Мы проснулись в огромном доме…»
Мы проснулись в огромном доме.
Свет протёк сквозь твои ладони.
Дом внимал приглушенный шорох —
то сквозняк приютился в шторах.
Быль бывает чудесной сказкой.
Звук возник из золы камина:
в доме палевый кот сиамский
шёл по клавишам пианино.
Шёл, вослед заиграла флейта
в глубине твоего дыханья.
Жил июль ликованьем лета —
в полыханье и колыханье.









































