Текст книги "Ячея"
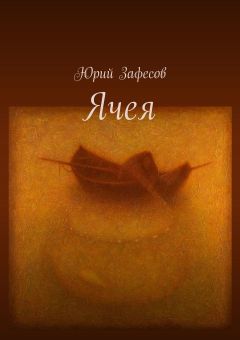
Автор книги: Юрий Зафесов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Игра у чайного куста
А. Москвитину
Всю ночь на шахматной доске фантомно двигались фигуры. Предполагая игроков, художник медлил у холста. Непредсказуем был итог. Грустя, продрогшие амуры саднили стрелами сюжет цветенья чайного куста. Дождь начинался не спеша, сердцебиением по жести. Чересполосицу времен слоила талая слюда. На оттоманке у стены ютился плед ангорской шерсти. Портреты близких и родных – издалека и навсегда.
Художник звал чужую мысль, себя вживлял в пустые клетки. Перелицовывал жилет, который впору, но не впрок. Сквозь переплеты старых книг, густой как треск мотоциклетки, шел электрический разряд междустраничьем древних строк.
Интрига завтрашнего дня пусть обозначится в альбоме! Художник видел старину, где на вельможах – парики. Не засвети дагерротип, душа-сомнамбула любови! Крепись! В сознании творца вот-вот возникнут игроки. Вот-вот обрушится в зарю листвой густеющая чаща. Вот-вот откликнется скворец на желторотый произвол… Смутна икона за спиной «Неупиваемая чаша». Как смоль заваривался чай, а куст, замасливаясь, цвёл.
Художник вспаивал талант: «Дай откровенья, Бога ради!» Дремотным пламенем алел феодосийский сердолик, да сицилийская жара в адриатической прохладе свивала душные жгуты в столбы античных базилик.
Художник мыслью изнывал среди дельцов и демиургов, давая огненный простор и палашу и бердышу. Пройдя десятками андор, щвейцарий, австрий, люксембургов, перевалив за Енисей, он снова вышел к Иртышу. Вдыхая чайный вромат, он видел рухнувшую стену сквозь отворившийся киот христопродавцев и невежд. Ронял черемуховый сад густую облачную пену в Россию муки и стыда, в Россию славы и надежд.
Гори, рассветная звезда! Но, преломлённая в таланте, веди художника туда, где откровением сквозит великолепная ничья в непримиримом варианте. А кто за шахматной доской? Пока – варяг и чингизид…
Ветер в спину
Душа! Ты стала барышом, которым не с кем поделиться: я в этом городе большом уже не вглядываюсь в лица. Несу сквозь тень и полусвет дум домотканую холстину. И сквозь меня дороги нет – есть заунывный ветер в спину.
И есть чужая сторона, где бродит кровь, не прозревая. Но тает в тереме жена, свечу в ладонях согревая. И я люблю её навзрыд, в былом и будущем покаясь, покуда терем тот парит, земли студёной не касаясь.
Одинокость
Каждый раз, как увижу сосну на пути,
забываю вернуться домой.
(Бо Цзю И)
Письма занятная тесьма восторг и гнев перемежала. Я медленно сходил с ума, и жизнь мне в этом не мешала. Вращалась солнце, как блесна. И вот я родину покинул, когда последняя стена упала в сторону Пекина.
И треснул мраморный флакон в мездру, похожую на драку. Под утро Огненный Дракон закинул в небо дроф и дракул. И канул в ночь иезуит за просвещенной черной дурью. Навстречу вышел Бо Цзю И, он пригласил меня к раздумью.
И я увидел, как извне вокруг него шумело море.
Какое счастье наравне молчать в бездонном разговоре!
«У каждого евразийца…»
В. Карпцу…
У каждого евразийца
есть свой стозвукий колчан,
лохматая лошаденка
и мреющий путь аттилов.
И есть железная клеть —
перекати-кочан,
назначеная для совместья
западников и славянофилов.
У каждого евразийца,
дремавшего у Иглы,
вкруг острия которой
Творца обобщает беркут,
своё пониманье смерти.
Он клеть пускает с горы
и катится погремушка
едва ли до Кенигсберга.
Тайна
Танюше
Плохая дорога убьет лошадиные силы, и джип-иноземец подфарником ткнется в кювет.
– Сбежим до парома! Там старые стонут настилы, и в быструю воду вливается медленный свет.
Сбежим под угор в ликованье таежного лета, взойдем как трава у подножья замшелых камней. Ты вздрогнешь, припомнив сквозь розовый сон бересклета прошедшую жизнь в мельтешне воспаленных огней.
Вчерашнее эхо – угрюмство ревущей плотины, что в толще воды поглотила царевну-избу. Я в небо заброшу поеденный ржавью полтинник – «пусть дождь золотой искушает иную судьбу!»
Припомню: мечталось пожить у реки в глухомани, на лунных дорожках встречая Бродвей и Парнас, нездешнюю Русь, что туманна лежит за холмами – немыслимый берег, где люди забудут о нас.
Укроемся в мире, где быстрый ленок нерестится, где соболь постится, где дичи не рыщет ружье. Там раны залечит большая двуглавая птица, державную мякоть почувствует коготь её.
И дрогнут стропила над нами в разбуженном доме. Тогда и поймем, постигая высокий полет: мы души спасали и хлебом кормили с ладони те стороны света, где русская тайна живет.
Двуединство
В подземелье клацнувший засов
отворяет свет перед концом.
В нем творцы утробных голосов,
кто спиной ко мне, а кто – лицом.
«Страстотерпцы! Есть ли кто в живых?» —
я спросил у этих и у тех.
Мне навстречу, выжатый как жмых,
очевидец сумрачных утех.
Заклохтал: «Явился, гордый князь!
Ты един? Или один из двух?»
Я – един!.. И взвыла, усладясь,
бездна, пожирающая дух.
Плен
Ношу тяжелые унты, ношу тяжелый полушубок. И не уехать, не уйти от мутных лиц и мятых юбок. От злобы, зависти, обид. От сытых, благостных и теплых. Заря ладони окровит, в мой дом выламывая стекла.
И плоть, подвержена суду, меня покинет постепенно. И невесомый я пойду (так возвращаются из плена). Шагну к разверстому окну, смахну нечаянные слезы. Крылами тяжкими взмахну.
«Какие жгучие морозы!»
Старые фотографии
Миг – и нету никого…
Я гляжу на эти фото
и с небес, как с эшафота,
совершаю воровство.
Миг – и голая стерня.
Поминаю-вспоминаю.
Были-не были – не знаю,
потому что нет меня.
Миг – и рушатся мосты,
тают запахи и звуки.
И бегут вприпрыжку внуки
прямо в жерло пустоты.
Второе Я
Ты ли искал идеала,
чистого света-огня?
Молча поправь одеяло
и уходи от меня!
Малая толика яда.
Двое нас в круге луны.
Звездная сфера разъята,
пропасти озарены.
Каешься: думал-не думал,
вместе рубили сплеча.
Ветер порывисто дунул,
и – поперхнулась свеча.
Вместе творили погони,
туго вязали узлы.
Свет, прошивая ладони,
шепчется с горсткой золы.
Вместе отчаянно бредим,
смысла вострим остриё.
Вместе на родину едем,
я просыпаю её.
Ты же, недремлющий гений,
пеплом осыпанный зверь,
держишь в глуби сновидений
незатворённую дверь.
Мне остается в итоге
только слезу утереть.
Долго не стой на пороге
и не забудь умереть.
«Смутны иконы. Кони – в мыле…»
Смутны иконы. Кони – в мыле.
Но не пытайтесь наши мысли
изъять из сна и тишины.
Покуда алчущее эго
блуждает в поисках ночлега,
в ночлежках сумерки пьяны.
1949
Как-то раз в московском кабаке, где клялись и изливали души, дед мой замер с рюмкою в руке и заметил вскользь о Колчаке, мол, ученый был морей и суши.
За окном сорок девятый год. И сосед, накушавшийся жирно, заблажил: «Чей камень в огород? Говоришь, ученый – не вражина? Полагаешь, зря, мол, в Ангару… – засверкал трофейными часами. – Ты мне, брат, пришелся по нутру, надо обменяться адресами»…
«Адрес мой, – дед мыслью не слабак, произнес, как высказал доверье, – родина летающих собак, дальняя сибирская деревня».
«Дерзнула пуля золотая…»
Памяти отца
Дерзнула пуля золотая…
Приняв
терновый свой венец,
прощался ястреб, улетая,
быть может,
счастлив наконец..
Он улетал из небе-крова,
превозмогая синеву.
Лишь память
каплей темной крови
поила хвою и листву,
сквозила тенью неотвязной
в простор,
что клёнами редел.
Круги замкнув,
истаял ястреб.
Он отворил иной предел.
«Этот некто, с сединой и в сером…»
Этот некто, с сединой и в сером,
пищу дал и сердцу и уму.
Он прошел сквозь дерево на север
и пророс раздумьями во тьму.
Вслед за ним неспешно и неловко,
бронзовея, крона утекла.
И слоились светлые волокна,
и змеилась тусклая смола.
Ключ гремячий бился в уговорах,
объяснял, петляющий без сна,
где скудней растительность, где морок,
там судьба как заново слышна.
Этот некто с сединой и в сером,
словно птица ставший на крыло,
просквозил сквозь дерево на север,
как туман, пролившийся в дупло.
Канул в глушь убогого приютца,
затворив мыслителя чело.
Он ушел, но обещал вернуться.
Только вот не знаю – для чего.
В.М.
В нас осталась злость старателей,
дети щедрого огня,
мы лишь образ собирательный…
Здравствуй, русская родня!
Здравствуй, узкая-нерусская,
обогревшая тайгу.
Память – птицей трясогузкою
на витимском берегу.
Догорели, как истаяли,
лиственичные дрова.
На плече, на горностаевом,
спи, седая голова.
Спи! Бывали ночи долгими —
дольше мая не проспим,
по дорогам, по раздолбанным,
с пониманием простым
утечем во тьму изгнания,
разберемся в письменах.
Запредельные названия:
Хомолохо, Балаганах,
Камустяг… Шипели молнии,
созерцал, мерцая, век
нас, повергнувших безмолвие,
помутивших разум рек.
Наставлял: «Добротно скроены,
кровь истории – смола,
так языческие воины
золотили купола».
Поощрял: «Они в борении
обретали дух и речь».
Остановит думу времени
самородная картечь.
Что имели – то и тратили,
в белый свет погружены
каторжане и старатели.
На Сибири нет вины!
«Второе дно…»
Второе дно
давным-давно исхожено.
Иное дно, как новое окно.
Спуститься вглубь,
но не найти искомое,
пойти на всхлип
и наступить в… оно.
– Золотари,
не там собаку роете,
ища ответ
на проклятый вопрос.
Но, матьегоети,
сплошные роялти
на чих, на вздох,
на медный купорос.
Зачем вам Бог?
К чему размытость в Облике?
Сосновый бор
бельчатами мельчит.
Темна могила
в набежавшем облаке.
Блажен дурак,
что знает, но молчит.
Ерошка
Е.У.
В куще кычут совы. Как в пуховиках месяц невесомый в легких облаках. Ветхая сторожка, дверца на крючок. «Что не спишь, Ерошка, добрый лешачок?» Над твоим колючим древним озерцом хрипотца уключин, донный свет – венцом.
Взад-вперед хромаешь, на душе щемит. Ведь под утро, знаешь, ахнет динамит. По ветвям вразвалку прошагает гром… Как-то спас русалку хромоногий гном. Чуть не уморила – черта родила. Самосад курила, самогон пила. От лешачей скуки дурью извелась. Отлежавшись сутки, к морю подалась.
И теперь Ерошка от раздумий черн. У печи рогожка, на рогожке – черт. Ненаглядный дрыхнет. Кашлянет, всхрапнет. Иль копытцем дрыгнет, или воздух пнёт. И к утру не чует лютую тоску.
Лешачок врачует мачеху – сынку…
Золотая жила
Вспомнил жизнь как пагубу и муку. Вознамерясь выжить не во лжи, подковал блоху и бляху-муху, ухватил шершавые гужи. Сделал шаг – не сдвинулась телега. Вздох родил – качнулся сеновал. Посреди родимого ночлега поклонился долу и сказал: «Нам пора, любимая, проститься, мне скликать отчаянных ловцов, ведь ночная сумрачная птица поклевала собственных птенцов. Взвила вожжи желтая нажива, запалила жирные рубли. И вонзилась золотая жила в мякоть мира – в яблоко Земли.»
Вспомнил жизнь как пагубу и муку, попенял на пьянь и голытьбу, подковал блоху и бляху-муху и унес телегу на горбу. Вглубь Земли, где тайная потеха черепа на порох истолкла, где блуждает алчущее эхо – картотеха мирового зла.
День ли, ночь… Зеленая зарница. Ржавый дуб над берегом крутым. В медной кроне сумрачная птица забавлялась червем золотым. Вспомнил жизнь как пагубу и муку, отчий дом, колодец, сеновал. Подковал блоху и бляху-муху, птицу – хвать! – к телеге приковал. В мир вошел сквозь пушечные жерла, словно выбил ненависть плечом. В небесах летал на этажерке, золотым пронизанный лучом.
Сон ли, явь… Сквозь солнечные сети я бреду в осенние поля, постигая истину на свете, ту что есть кормилец и земля. Ту что люд свободный и служилый предпочтет дворцу и шалашу. Я, кочуя в золотую жилу, уповаю часто на Левшу.
Добрый малый
Добрый малый оставил трактор: «Пусть пасется сам на лугу! Щелбанатор и пенделятор изобресть, – говорит, – могу. В силу добрых квасных традиций, чтобы смысл наполнял очаг. Угораздило ведь родиться с любознательностью в очах!»
Добрый малый с земель исконных начал счет верстовых столбов. «Щелбанатор – для толоконных невысоких вельможных лбов.» Соком жимолости сиропным восставала заря над мхом. «Пенделятор нерасторопным помогает взбежать на холм». Добрый малый, расейский житель, сладим каждому свой хомут! Пусть спокойно поспит правитель, изобретший сухарь и кнут.
«Город в своих объятьях…»
Город в своих объятьях
стискивает село…
Душно Муму в объятьях
глухонемого Герасима…
То человек мира
и не от мира сего
комом летят с горы,
здравствуй, Гора-зима!
Белый ворон
Белый ворон в рыжей кроне,
как першит твоя гортань!
Ты скажи своей вороне:
«Ненагрядная, отстань!
Что ты мыслишь о породе?
Под себя себя гребешь.
Что там осень в огороде,
если в городе грабеж!»
Если с вербой золоченой
обручен, как обречен.
Если и к Ербогачену
приторочен орочон.
И к тебя я приторочен,
прибинтован тыщей лык,
правдой прошлых червоточин,
волей пришлых прощелыг.
Если не лущишь, то ропщешь,
кости моешь, душу рвешь.
Мужу горло прополощешь —
теще шею не свернешь.
Будет жизнь – не камарилья.
Белый ворот, горний хор.
Как-то снег упал на крылья
и не стаял до сих пор.
…Ворон крылья простирает,
в медный коготь влип топаз.
А в ноябрь удирает
красный заяц – листопад.
Притча о круге
М.К.
Вьюга свечи задула, прислюнила огарки. На селе Богодула всполошились музгарки. Было жутко и зябко. Но, сомлевши у печки, молодая хозяйка примеряла колечки. Примеряла сережки, наводила румяна. И стучали сапожки по тропе деревянной.
А на печке о чем-то разговаривал сонно конопатый мальчонка – полуночное солнце. Над мальчонкой густела прокопченная скука… Занавеска взлетела от внезапного стука.
«Дождалась – постоялец!» – и порхнула деваха, как слетевшая с пялец пышногрудая птаха. Дверь без памяти настежь – дом качнула остуда… «Вот и свиделись, Настя!» – «…Иннокентий! Откуда?..»
То явился законный, давший имя ребенку, распродавший иконы и пропивший буренку. Он упал у порога и сказал, засыпая: «Окружная дорога есть дорога слепая». И бессвязно о чем-то пробурчал и запнулся. И проснулся мальчонка. И приступок качнулся.
Утром смолкнула вьюга. Меж снегами плутая, шла тропинка из круга, словно дымка – витая.
Быти-ё
Не дадут поэту помечтать, поскрипеть соломой мирозданья! Входят люди, через слово «мать». Ей поклон, друзья, и до свиданья!
Нет, стоят – декабрь к январю. Говорят загадочные речи. Заступаю в круг и говорю: «Нынче у меня иные встречи. Ровно в полночь из небытия извлеку даурские тетради, в дом приедут старые друзья – погранцы, старатели и бляди.»
Мы наполним чаши до краев, предадимся буйному восторгу. Как сказал философ Соловьев: «Всем простим – Европе и Востоку»…
Ровно в полдень над моей тоской отгорят отчаянные свечи, поперхнувшись лютостью людской, вознесясь над мутью человечьей. Я очнусь и скатертью утрусь. В круг шагну и брошу: «Не торгую! Разлюбил я нынче вашу Русь. Разлюбив, не полюбил другую»…
Впрочем, грусть-печаль моя остра, словно дым таежного распадка. Где отрог – хребтиной осетра, но и там не сытно и не сладко».
Но и там беспечное жульё в пустодыром роется кармане. А моё земное быти-ё – сеновал в державной глухомани.»
Любит – не любит
Цветик ответит – любит-не любит. Любушка вспыхнет, молвя: «Телок ты! Там за оградой странные люди кусают друг другу доступные локти. Ходят по кругу в поисках гения, в поисках родины и народа. Спят на гвоздях и выносят сомнения прочь за ворота.
Ты же – блаженный, горе порода, ладишь к избенке крыло деревянное, держишь в корыте среди огорода синее небо, вглубь осиянное. В небо глядишься: любит-не любит? Что тебе скажет бездна сквозная, коль за оградой странные люди шьют из лохмотьев шумное знамя!..»
Колодец
Днем и ночью под моей рубашкой дух томится, словно обречен. Двор. Бадья распахнута ромашкой, опояском омут обручен. В том краю тяжелая калитка бьет-гремит щеколдой невпопад. В том краю закончилась молитва. Мертвый омут. Дерево. Распад.
Наполняя крону чем придется, устремляясь шелестом к звезде, дерево на кольца распадется и пойдет кругами по воде. Оттолкнет виденье колокольни, растревожит нежить и дурман. И протяжно дрогнувшие корни подопрут раскидистый туман.
Так-то так, но я не инородец. Вновь сошью гудящую бадью. Разбужу отеческий колодец и прозреньем корни напою. Лишь тогда вершина устремится, оттолкнет земную колыбель. Только дух, как проклятый, томится, и рыдает дряхлый журавель.
Стансы
1
Умы Отчизны смущены. И, помечтав о лучшей доле, портреты сходят со стены. Нездешний свет блуждает в доме. Гнездится нечисть по углам, жует стеклянное печенье. Всё жуть и мрак, лишь старый хлам имеет смутное значенье в свеченье чопорных планет. Но в старой книге стерто Имя.
И только печь, которой нет, творит еловое полымя.
2
Всё утрясется! Но, увы, не помогают уговоры. Неслышный, как полет совы, восходит ужас в ваши норы. Кренится вычурный плакат – «Мир – шелестящему циклопу!» И там, где плавится закат, скребется Азия в Европу.
«Космизм, соборность, русский путь…» Смеётся племя молодое. Хрустит пространство – не сомкнуть окровавлённые ладони. И значит – вновь Россию вброд, но давний опыт не торопит… Когда б хождение в народ не породило смутный ропот. Когда б полуденную слизь не соскребать с булыжных улиц…
Однажды в Боге на сошлись, потом в друг друге разминулись. Но также чинно пили чай. И также поутру разило. И снова слышалось: «Прощай! Прощай, немытая Россия!» Судили праведным судом и скрип телег, и голос детский.
Вставал рассвет, и Мертвый Дом покинул Федор Достоевский.
3
Когда досужая молва погасит пламя преисподней, и матерьяльная канва предназначение исполнит, тогда несказанно вслух внезапным светом озарится. И воцарится русский дух над непроявленной страницей.
Он различит на склоне дней благоухающую ветку, рожденье звезд, игру теней – всё то, что надо человеку, чтобы понять земную грусть, свою нечаянную долю.
Предвосхитив обратный путь – путь человечества на волю.
Птица
Прости меня, Птица!
Прости за мечту о полете. Упавшему навзничь мне слышались клики вдали:
– Птенцы человечьи! Вы слезы напрасные льете…
Тем часов собратья на поиски Бога ушли. Кто посохом стукнул, кто вскинул смоленые весла, кто смыслом наполнил скитания дымных рубах, кто принял на веру сиротские наши ремесла, кто выдохнул птиц – но они запеклись на губах.
Меня поглотило, в себе растворило пространство. Прости меня, Птица, за боль нерожавшей земли. Прости доброхотов – и тех, что ушли в христианство; и тех, что в себя и в печали Отчизны ушли. Ушли – не вернулись. В любой накатившейся глыбе таилась угроза и отсвет подспудного зла. Мечта о полете – ночное паренье на дыбе. Ступил в ковыли – и траншея за мной пролегла.
Прости меня, Птица! Покуда светла моя воля, не славы желаю, не мыслю с любви барыша. Рубаха моя на шесте среди черного поля – вразброс рукава, а над ней беспредельна душа. К душе бесконечна по осыпям звездным дорога. С ней время не властно беспечно твердить о своем.
Стою на земле, постигая сомнением Бога, под сердцем храня безутешный родной окоём.
«Мне будет помниться мотив…»
Мне будет помниться мотив
сто крат низверженного камня.
Поэт подножия – Сизиф.
Вздымание – маниакально.
Вздымает камень мой отец.
Дед Ереджиб идет на фрицев.
Стократно содрогнется чтец:
титаны против олимпийцев.
Судьбу читаю по слогам,
когда земная песня спета.
Иду к поверженным богам
просить житейского совета…
«Ну что, Зафес, блуждает ямб?
На то Зевеса воля божья.
Что, человечишко, озяб?
Вот булыган
и вот – подножье»…
«Там Архангел…»
В.К.
Там Архангел,
тут нэпман,
между ними засор.
Меж землёю и небом
затевается спор.
Мироздание грузит
и вповалку разит.
Жизнь тупит и скорузит.
Тормози, паразит!
Всех расплата застигнет,
лишь прибудет паром,
и Архангел застынет
над тобой с топором.
Скажет: черное чрево,
раззудись лезвиём,
чтобы Звёздное Древо
полегло в окоём!
Чтоб идущие небом
понимали верней,
что Архангел и нэпман.
ищут между корней.
Лихолетье
Лихого времени творцы!
Корона наискось надета.
Мечтатели и стервецы.
Жги, несоветская газета!
Заговорили сразу все
с неутоленным аппетитом.
Все – кто на первой полосе
и те, что набраны петитом.
Основы ссыпались в трусы,
бухло запенилось в граалях.
Бомж из газетной полосы
бумажный сотворил кораблик.
Под фейерверки порохов
скарб потащил
по сходням некто
на философский пароход,
крутящий звездное магнето.
«Прочтут внимательно…»
Прочтут внимательно,
скажут: брешет.
А ведь напрасно —
то память брезжит.
Стезя
Признай Эзопа в парне шустром. Хлебнув елей из пиалы, раскинь умишко парашютом, летя в объятья со скалы. И не смоли чужую лодку, купая облако в пыли. Дослушай певчего соловку, затем соломку подстели.
Срывая голос паровозный, тряся мошонкой и мошной, трудолюбив как жук навозный, кати окатыш – шар земной. Кати осиный гул к обрыву, сноровист, хоть и неказист. Лови сверкающую рыбу, что рябью заводь исказит. Пусть вспыхнет, сделав заводь темной (коль выпить заводь ту нельзя) над переправой замутненной незамудненная стезя!
Философ
Он, право, с Вами не знаком. Вы – холм земного одеяльца. Он – взрыв, он – нравственный закон бездонных нег неандертальца. Но он в бреду, как во хмелю, не помня имени и долга, откроется: «Я Вас люблю! Я Вас люблю, но ненадолго…»
Вы знайте, это – навсегда! Внезапно, милая, поверьте! Он чист, как зимняя вода, кристалл бессмертия и смерти. Он тот кристалл по капле пьет, в себе блуждает бесконечно. Над ним сверкает и поет провал – причудливое нечто. Он ветер огненных стрекоз в оледенелом храме сада, он отдаленный микрокосм, он – выхлест снежного заряда. Пестра житейская хандра, но утлы вызнанные темы. Когда он выйдет со двора, снега в округе станут немы. И вдруг, не зная почему, в тот миг Вы станете моложе, вослед сказав: «Я Вас пойму и полюблю… но жизнь позже…»









































