Текст книги "Ячея"
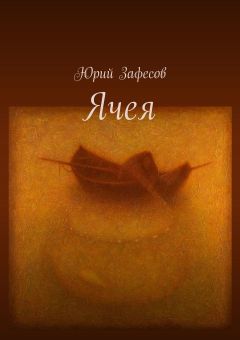
Автор книги: Юрий Зафесов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Черепки
Однажды схлопнется мирок.
Однажды схлопнутся мирки.
Где борозда на мирозда…
наступят сумерки.
Небесной глины млечный сок
не в глину канет, но в песок,
в сны Виночерпия:
кто слепит с помощью оков
всех стариков из черепков —
основу Черепа.
Кто пониманием проймет,
сцедив в зарю янтарный мёд,
померкнув сотами.
Распад в победу обратит…
Сей Череп по небу летит,
свистит пустотами.
Детство
Там, напротив Никольска,
где Лена течёт тиха,
где на берег выброшен
лодки покатый остов,
там сквозят стрижи,
изнизав низы и верха,
и в туманах спит глубоко
Монастырский остров.
Там начало жизни,
там Лета неглубока,
там, упавши в воду,
на солнце блестит колечко.
Там летят Зазеркальем
белые-белые облака,
и круги от колечка
расходятся бесконечно.
Изба
Вадиму Кожинову
Происходившее давно зловонной воли вызволенье уже в умах погребено. А мы, сквозное поколенье, дым, чье чистилище труба, во лжи блуждаем, где доныне стоит крестьянская изба. Не на земле – на красной льдине.
На серебристом сквозняке, забыв былое золоченье. По Окияну, по Реке куда несет её теченье? Из достопамятных времен, от созерцательности ленной в гул дерзновенных шестерен в ночи мерцающей Вселенной.
Я просыпаюсь в той избе, ладонью глажу половицу. Я напищу письмо тебе в самозабвенную столицу. О дурачках, о горюнах – кто избу опростоволосил. Изба – Россия – на волнах, без крыл, без паруса, без весел. Плывет с березой на трубе, в печи цветет земля сырая.
Я нахожу вину в тебе.
В себе.
В громах родного края.
Среда обитания
В. Гусеву
В похолодавшую долину
легла неласковая мгла.
Но не пытать на вязкость глину
они сойдутся у стола.
Забултыхаются до рани
одутловатые сердца.
У философствующей пьяни
есть шанс перекричать Творца.
Ведь Он молчит, и нет угрозы.
Я смутно подавлю зевок.
Прольются покаянно слезы,
напоминающие воск.
Прольется горькая отрава,
но суесловить – не творить.
Покуда левая орава
мешает правой говорить.
И всякий горд разбитой рожей.
И вновь бесстрастно ночь следит
как дерзкий ветер бездорожий
иную волю холодит.
«Пурга звенит, как саранча…»
Памяти мамы
Пурга звенит, как саранча,
через луга перелетает.
Горит фамильная свеча.
Свеча горит, но воск не тает.
И. занавешивая тьму,
звенят связующие цепи.
И жутко, мама, одному
в пустом дому – в фамильном склепе.
И горько думать по ночам,
что никогда на свет не выйдет
подслеповатая печаль.
что дальше осени не видит.
Время
Прольется сумрак
в грифельный рисунок,
надломит ангел белое крыло.
От сосунков у пламенных форсунок
восходит в мир тлетворное тепло.
И человечек маленького роста
бежит на свет, не удаляясь прочь.
Зевает Сфинкс у каменного моста.
И женщина – одна – выходит в ночь.
И точит время
червь-первопроходец,
в тележный скрип поверженную ось.
Гневится Марс.
Бадья летит в колодец
и прошивает облако насквозь.
«Живущий в пору перемен…»
Живущий в пору перемен,
истертый жизнью в наготу,
понаблюдай из квашеной капусты:
вот ручеек, как Цицерон.
катая камушки во рту,
возвысился в ораторском искусстве.
Вот зоревые снегири
на вербе в дребезгах зари
торжественны, как в храме самураи.
Вот на седые валуны
опустошают пузыри
хохочущие пьяные сараи.
Жующий свой нелегкий хлеб,
гляди, как щурится, сомлев,
бездомный пес по кличке Аристотель.
Он охраняет свой скелет.
Вот светляки влетают в хлев,
а будущее светится в истоке..
Испивший огненную сушь,
неси сверзающийся нимб
в заклад распоясавшемуся сброду.
Мы что имеем – не храним.
Вон Пик Вселенной, а под ним
порода, изолгавшая природу.
Московские тракты
В. В. П.
Вырастает отрок из штанин, несуразен, то есть бесподобен. Перманентно пьяный гражданин, житель исторических колдобин. Имбирем напоенный экстракт гражданину глотку припекает. Из-под сапога Московский тракт истекает, словно избегает, как дворняги бешеной слюна, как снега стенающего марта – от енота от полоскуна и до полоскучего Штандарта.
Тракт Московский – галочий насест. Просквозив бараком и сараем, он бежит из сотен разных мест, из любых неведомых окраин. Вслед ему глядит абориген, черным грибом голод утоляет: подзаборный галлюциноген только так в Московию гуляет.
Тракт Московский – горняя стезя, ниспаденье северного ветра. Под куранты умирать нельзя, умыкнув пришествие рассвета. Это внял доживший до седин, невзначай повенчанный со славой, перманентно трезвый господин, угловатый пастырь златоглавой. В храм вошел, меня предостерег:
– Не терплю плебейской укоризны! Мы и есть те ниточки дорог, что связуют помыслы Отчизны.
Раздумье над картиной покойного друга
А всего-то – пара страстных взмахов, и – взлетая, таю над толпой. Я не видел столько красных маков: вышел в небо – кончился запой. Значит, город не убил желанья жить, творить и отрываться с крыш. Над землей – молитвы и камланья. В гуще я – крылатый замухрыш. Повстречавший тучи липкой твари, душной мошки, оклубившей взор, я горю в трущобах киновари, отражаюсь в заревах озер.
Я шумлю, спугнув аборигенов, повисаю в тучах пристяжных, различаю многих диогенов, аввакумов, грозных, шергиных. Я пою – Шаляпин (не Каррерас) – на границе света и ни зги, над алмазным Мирненским карьером замыкаю дантовы круги.
Вскользь лечу на русским рассеяньем: все, что видел издали, вдали истекает северным сияньем, завывает в снеговой пыли. И напомнив мне о черной шахте, кто-то черный шепчет о судьбе…
Кто крылат – летайте, продолжайте! Растворяйте Родину в себе!
Пуля
От этой жизни,
подло падкой
на миражи небытия,
болела пуля под лопаткой,
летая в дальние края.
Жрала шагрень
ничтожной плоти.
Ревело адское сопло.
Болела пуля… на излёте
уткнувшись в отчее село.
«Друг Володя, едва ли…»
В.Б.
Друг Володя, едва ли
смысл исканий в борьбе.
Умных к умным послали,
а меня, брат, к тебе.
Нас никто не торопит,
посидим, помолчим.
Наш окраинный опыт
для неярких лучин.
Но и в отзвуках битвы,
во хмелю и в поту,
мы не помним обиды
за свою темноту.
И не жаждем отмщенья
за безмолвные дни.
Мы лишь гул возвращенья
убиенной родни.
Баня
Помраченье мне путь означало,
когда шла ты по сходням к воде.
И молчание, словно мочало,
повисало на банном гвозде.
Пар крепчал, отдавала печурка
жар камням – скорлупе черепах.
И слепая голодная щука
целовала твой огненный пах.
Ни Бодлера не помня, ни Рильке,
вслед тебе я глядел, как дурак.
И – дерзнул, и – шагнул из парилки
прямо в брезжущий брызжущий мрак.
«Бродит солнце в осеннем саду…»
Т.Б.
Бродит солнце в осеннем саду,
ветви вишен мерцают кроваво.
Я к тебе непременно приду,
как придет ко мне грозная слава.
Я увижу её на просвет
и, багровые комья роняя,
подарю тебе терпкий букет
из деревьев, что вырвал с корнями.
«В житии, прогорклом и погаслом…»
В житии, прогорклом и погаслом,
старый Киренск – мой спасенный рай.
Я умел испортить кашу маслом,
всё во мне творилось через край.
Дед Мелетий, не гневись на внука!
Я на твой покой не посягну.
Мне доступна поздняя наука
собирать по крохам тишину.
«В сквозящем заполночь листе…»
В сквозящем заполночь листе
печаль истаявшего лета.
Я стану видеть в темноте,
устав от недостатка света.
Я первый снег переживу,
я доживу до новой грёзы,
уже струящейся по шву
во тьме дымящейся березы.
«В каком году, в каком-таком бреду…»
Е.Д.
В каком году, в каком-таком бреду
ответное возникнет «кукареку».
Я улицу никак не перейду,
ведь мне она напоминает реку.
Река… строка… непостижимо дно.
На дальний берег я гляжу подолгу,
поскольку там горит твоё окно,
но я, как ветер, в поле верен долгу.
Долги, долги! Нова моя тоска.
Напряжена весны спинная хорда.
Течет река, свинцовая река,
она безмолвна после ледохода.
Текут века. Крепчает звездный хор.
Мелькают миги. Наступают сроки.
И вот горит не бакен, светофор,
смешав непримиримые потоки.
Прости, мой друг! Тоскою обуян,
влекусь душой к границам и заставам.
Ведь улица впадает в океан,
смыкаясь за спиною ледоставом.
«Этот ночной паром…»
Этот ночной паром
фарами озарен.
Вырублен топором
из череды времен.
Глухо плывет в туман.
Был, а уже и нет.
Словно в пустой карман
кто-то просыпал свет.
Из Рильке. Почти…
Бежит через дорогу кобелек.
А мы не замечаем, как стареем.
Затеплим, дорогая, камелёк
и кобелька беспутного пригреем.
Да, путь далек, беспечен кобелек,
но камельком подлунный мир подсвечен.
Пусть в чистом поле тонкий стебелек
колеблется и верует, что вечен!..
«В личном космосе…»
В личном космосе
шторы ветхие…
Смыслу здравому вопреки
продувают их несусветные
трансцендентные сквозняки.
Я планету из легких выдую
(в стылом полыме полый я).
Между фатумом и планидою
смыслом схватится полынья.
Позитронами да нейронами
невозможно пронять сие
закосневшее в черной проруби
поднавязшее бытие.
Но оцежено винопитие.
Колосятся хлебы стола.
Замираю,
когда наитие
размыкает предел угла.
Ни созвездия, ни мизгирика
не дано мне понять умом.
Оттого моя метафизика
преткновенье в себе самом.
«В многолюдье и в диком племени…»
В многолюдье и в диком племени
голос Вечности груб и прост:
«И в мужском и в горчичном семени
скрыта тайна рожденья звезд…»
Впрочем, всё же не тайна – таинство.
Сир солдатский тупой сапог.
По вселенским шатрам скитаемся.
«Мать Вселенная, ты ли Бог?!.»
«Глагол раскрошится, как мел…»
М.С.
Глагол раскрошится, как мел,
изнемогая стать преданьем.
Гордыни я не одолел,
соприкоснувшись с мирозданьем.
Сгущаю звёздную нугу
я, неединожды солгавший.
Но Бог на дальнем берегу
врачует свет, меня соткавший.
Он прочит «все не без греха…»,
когда в ночи над отчей крышей,
кнут переняв от Пастуха,
целует свет, меня избывший.
«В спелом яблоке червоточина…»
В спелом яблоке червоточина,
на округлости – след зубов…
Заплутавши во снах пощечина
осыпает кору с дубов.
Звон в ушах, на оси – вращение.
«Дед Пихто да цирк Шапито!»
Тишь, зардевшая от смущения…
«Ослепительная, за что?»
Понапрасну ножи наточены:
быть капустнице за сверчком…
Где-то рощах шумят пощечины,
я их в поле ловлю сачком.
Разговор сторожа с отроком, пикетирующим прошлое
– Расти, расти до полу, борода! Дым из ушей стелись до Сахалина! В строю ходил, но в стаде – никогда. И потому, шагай отсюда, глина… или побудь со мною, мальчуган. На грустной ноте песня у соловки: в утробе недр урчащий ураган, вот-вот сорвет с цепи боеголовки. В часах песок остывший захандрит, не сможет течь в отвалах високосных. Наступит час – земля заговорит, и полетят ракеты в дальний космос. И цель отыщет каждая – свою, далекий гром Создателя разбудит. И это вам не баюшки-баю.
– Проснешься ночью – и Луны не будет?
– Не смейся, дурень, тут мы все равны. Античный мастер понимает глину. Давным-давно уж нет моей страны. Я, старый воин, обхожу Руину. Горит огнем парадный аксельбант, мой сизый нос смеркается сквозь годы… Бросай в костер трескучий транспарант с кривой ухмылкой Статуи Свободы! Взгляни в бинокль: архангел Гавриил уже спешит к тебе на колеснице. Но не боись, я внукам сохранил в ракетной шахте огненные спицы. Знай: старым ранам долго заживать…
– Уйди, старик, ты смотришься нелепо. Мы очень скоро сможем зашивать и шар земной и траченое небо.
– Ну, коли так, встречаемся в аду! В натёках боли бронзовый калека, в грядущий миф бредя на поводу, я оцежу Руиной – Человека…
«В чем мне признаться Богу?..»
В чем мне признаться Богу?
Как я стал водопад?..
«Вымости мной дорогу
в рай, за которым ад».
Месяц (орел да решка)
плещется в глыбе льда.
Что ты скрываешь, речка?
Что ты хранишь, вода?
Здесь в ледяном оскале
сколы под Рождество.
В каждой летящей капле
шалое божество.
Я же – подобье Божье,
падающий поток.
Радуги у подножья
вспыхнут уже потом.
Ячея
Дом, в своем отрицанье дачи, саркофаг или пантеон? Два решенья одной задачи – затвориться ли, выйти вон.
Заблудиться, забыться в мире в понимании мертвых числ. Стар Ловец, грузила, что гири. Смысла нет? Или всё есть смысл?
Сеть небес декабрем окатит, с конский волос заблещет сталь, но локтями протерта скатерть – так, что видно иную даль.
Милый друг, посмотри на небо! Уплывают в даль облака, как фарфоровые плацебо, исцеляющие века.
Прорывайся! На белом свете на приманку вчерашний хлеб. Паутина глубинной сети донным занавесом судеб.
Без оглядки беги отсюда, пусть спасется душа – ничья!
Здесь безжалостна амплитуда.
И по каждому – ячея.
«Падающего – толкни!..»
Падающего – толкни!
Долго ли до земли!
Только ли из небес
мордой ржаной
в солонку?..
И по ступеням вниз
выйди и подстели
реки, луга и лес.
Падающему – соломку.
Воз
С. Т.
«А воз и ныне там…»
Но где же «там», Серёга?
Я проглядел глаза,
но ни в одном глазу
слеза не залегла.
Изнемогла дорога.
Узоры на стекле.
И баба на возу
вожжами жжет пургу…
сбоит наотмашь сердце,
и шутовской колпак
и пыльное жабо
летят через Урал…
Случайное соседство.
Давай, поговорим
о прежнем Бодайбо.
Мальчик-с-пальчик
Я в темный зрачок утопаю,
в подзорной пожив трубе.
Построю-создам Утопию
в отдельно взятом себе.
Вослед не пойду за туловом
от исстари к испокон.
И даже намаслю дулю вам.
Пора – если пуст флакон!
Где входов полно и выходов,
не нужен дверной глазок.
И я, межпространство выгадав,
забрезжу наискосок.
С горы (когда надо в гору бы)
плашмя станет падать труп.
Восстану уже из проруби,
как выгляну в Божий пуп.
«Линяет детство…»
Линяет детство,
ломка голосов.
Хрипл попугай,
вертлявый как Хазанов.
Кукушка вылетает из часов,
остервенело лает на хозяев.
Мяучит боров. А труба зовет
на огород, за город и помимо.
И только зебра, знай себе, живет,
собой напоминая пианино.
«Не от беса в ребро…»
Не от беса в ребро,
но от беса в мозгу
я куда-то опять
по ступенькам бегу.
то ли вверх, то ли вниз,
то ли вкривь, то ли вбок.
То ли в арт, то ли в сюр
то ли в сирый лубок.
Мирозданье старо,
на висках серебро,
я монету подбросил,
она – на ребро.
Левый профиль орла
потрясаю щелчком,
отчего и бла-бла
завертелось волчком.
Отчего журавли,
то вблизи, то вдали,
мне напомнили вдруг
о вращеньи Земли,
что стояла допрежь
на моржах, на быках.
Осыпаясь с орбиты,
живу абы как…
Флигель.
Женщина спит.
И зудит мошкара.
Светит призрачно бра
в ночь изъятья ребра.
Догоняшки
«Потянулась
крошка за окрошкой»…
Из окошка гляну в огород:
бабочка гоняется за кошкой,
или, может быть, наоборот.
Вдохновившись
этим зоопарком,
перед домом сяду на скамью:
девушка гоняется за парнем,
как догонит – упечет в семью.
Все забавно,
но законно, вроде,
только перспективы неясны.
И вода в своем круговороте
догоняет собственные сны.
Воспаряя,
славит невесомость.
Дождь меня, бегущего, настиг,
где бельчих ореховая совесть
в чих вмещает сочиненный стих.
Там подругу,
верную подпругу,
отстегну, стеная и сопя,
при ходьбе по замкнутому кругу
настигая самоё себя.
Веселые грабли
Любимица кошка мурлычет-мяучит:
«никто-никого-ничему-не научит».
И, право, напрасно мой внук почемучит.
Никто никого ничему не научит.
А дедушка добрый, а дедушка пьяный,
а дедушка бабушкой грезит Татьяной.
И брови суропит – все выдул до капли.
Он знает, что опыт – веселые грабли.
Считалка
И вот он вышел из себя,
и посмотрел со стороны,
и понял: силы неравны.
Ведь был он волхв,
а стал – фуфло.
Куда природное ушло?..
Явилось «эх» взамен «ха-ха».
Облатка полая стиха
иного гения скрадет:
Петрушку сменит идиот.
Петрушка выйдет из ворот,
чтоб поглядеть со стороны
насколько силы неравны.
У самодержца и страны.
У занавеса и стены…
Ворон-Камень
К пойменному выйду носопырью:
Ворон-Камень, треснувшая грудь.
Сириус, повисший над Сибирью,
в сырости оцеживает грусть.
Утекаем: рябь, пора сырая.
«Край озерный, ты бочарня лун!»
Бредит Камень, прародитель грая:
«Якорь старый, я картавый врун».
Второе дно
Дом-чайхана по пути на Вязьму. Надпись с подсветкой – «Вкушайте здэс!». Писано как бы арабской вязью. У палисадника – «Мерседес»…
Тополь, как сторож, к окну приставлен. Фосфорным светом сквозит окно.
«…Грозный Иван и Иосиф Сталин!?. Чур! – я отпрянул… – Второе дно?..»
Курится трубка – дымок относит ужас столетий во тьму, в бурьян.
– Русский народ … – говорит Иосиф.
– Нерусь, молчи! – говорит Иван.
– Русский народ, – нажимает Сталин, – очень талантлив, когда не пьян.
– Он во хмелю, коли с ног не свален, злобен и лют, – говорит Иван. – Пьёт, да на небо глаза таращит. Чуть отвратится, как снова пьёт. Что не пропьёт – по углам растащит. Вор на воре…
– Но ведь как поёт!
– Что там стенанья его, рыданья – вечные «если бы» да «кабы». Словно от Вязьмы до мирозданья несколько суток хромой ходьбы. Словно от Бога до Туруханска несколько взмахов вороних крыл…
Царства мерцали, смеркались ханства. Слепнущий посох века торил…
Дальние дали шумят крылами. Шепотом ухают в ночь сычи. Воля седлает слепое пламя, там где береза не спит в ночи. Клонится долу – не спорит с ветром. Смутно маячит имперский хлам. Спичка вскипает беззвучным светом. Лики безмолвствуют по углам.
Гром над округой гремит, как топот – из ниоткуда, из тьмы седой…
Утром от ветра сломился тополь, ливнем умыт – не святой водой. Падая, вспомнил уже как милость: в лютые-лютые холода в небе России бадья дымилась, будто кипела в бадье вода. Будто разор среди многих тысяч вывел закон, сотворенный тлей: «Умных – упечь, нерадивых – высечь! Дерзких и буйных – сровнять с землей!»
Но не вожди принимают роды. Льется сквозь пальцы к рассвету ночь. Мимо неслышно текут народы чуть над землею и чуть обочь.
«Братья-славяне, великороссы! Что ж омрачаете белый свет? Время к судьбе обратить вопросы (чтобы опять не найти ответ?..)
Что-то на свете должно остаться… Родина. Вера. Деяний сноп. Детоубийцы и святотатцы снова приходят из дальних снов.
Алчущий бездн самодержец дикий ищет в пространстве второе дно. Дверь отворяет Петр Великий…
Я не решаюсь стучать в окно.
«Я сам себя в зародыше припомню…»
Я сам себя в зародыше припомню,
и разочтусь на ширь и глубину.
Вневременное временем заполню
и это все в безвременье столкну.
Так, опаляя спиртом горловину,
поистрепав изрядно чалый верх,
вовнутрь себя уносит пуповину
мерцающий сквозящий человек…
«Сумрак века пробуровлю бровью…»
Сумрак века пробуровлю бровью:
«Пить артезианское нельзя!..»
Где моё сибирское здоровье?
Где моя Сизифова стезя?
Объяснюсь: не всякий камень впору;
уместившись в крохотный зрачок,
второпях воздвигнутый на гору,
он подмял журчащий родничок.
Раздышался средь чужого пира
над крестами сгнившими могил…
Есть гора – Высокий Череп Мира.
Я порой внутри неё бродил.
Там в часы сердечного прилива
думал: тут вот замертво кольнет.
Всё огромно, пусто, сиротливо.
Свист змеиный и кристальный лёд.
Стогны страха для сквозящей птицы,
для судьбы, тачающей строку…
Я увлекся обживать глазницы.
Покатился камень по виску…
«Люди пришли с идеями…»
Памяти
Льва Гумилёва
Люди пришли с идеями,
только идеи вышли.
Коготь, застрявший в дереве,
ожив, порвал корневище.
И пнём-колодой, плахою
дух просветлило запросто.
Только вот эхо плакало
между востоком-западом.
Люди прошли с идеями,
в дымных веках согбенны.
Вслед посадивший Дерево
плечом подпирает бездну.
Гиберборея
Танюше
Далёкое – спасает.
Но сделав нас мудрее,
в оконце угасает
страна Гиперборея…
Мы спим не шелохнувшись,
дворами кружат вьюги.
Два льда, соприкоснувшись,
растаяли друг в друге.
А поутру проснулись,
глаза в глазищах тонут:
два льда соприкоснулись
и сотворили омут.
А вьюга шепчет: «Слушай,
вы взбалмошны, наивны:
два льда, соприкоснувшись,
раскрошатся на искры».
«Наивны… как цунами…»
Пусть – донные изгибы,
пусть льдины, что над нами
смерзаются во глыбы.
Мерцанье да сверканье…
Возьму перо, бумагу:
творя перетеканье
Гипербореи – в магму.
«В сверкание дни наряжены…»
Памяти В. М.
В сверкание дни наряжены.
Навстречу таёжный страж:
внезапно из-за коряжины
Володька встаёт Мураш.
В глубокой речной излучине
трубивший в коровий рог,
мосластый, смешной, веснушчатый
и крапчатый, как Ван Гог.
Володька с пищалкой-дудочкой.
Володька среди суков
на петлю короткой удочкой
имает бурундуков.
Пора объясниться знаками.
Но слышу с иных полей
ключей ледяное звяканье,
курлыканье журавлей.
Никак не могу насытиться.
Высматриваю в логу,
брусничники ископытивших
изюбря и кабаргу.
Как прежде торгуют шкурками
эвенк, орочон, якут.
И соболи с чернобурками
по смуглым плечам текут…
Коряги, как пальцы, скрючены.
Я крикну в пустую падь:
«Уже все зверьки приручены,
а звери ложатся спать».
Но вспомню,
мой друг,
растаяли
озера, и звезды лгут.
А соболи с горностаями
уже по тебе бегут.
Мне скорая встреча чается.
Но я не пойму пока
чем купол небес венчается,
где снеги, где облака.
«Глух оселок…»
Глух оселок.
Хромает слог.
Душа росой отморосила.
Когда тебя сбивает с ног
и мнет неведомая сила
вбей крюк!
Гумно населено,
и по ночам собаки лают.
У твари утвари полно,
поленья полымем пылают.
Косые сажени в окне
сажают суженых на лавки.
Золовки жарят на огне
царевен крапчатые лапки.
Вбей,
вколоти в колоду крюк!
И в шапке,
скроенной из шавки,
войди в краеугольный круг,
где парки,
жмурки да куржавки
плывут в приют
или в притон
и распадаются на звуки…
Ты спишь,
но подступает Он,
кого ты выдумал от скуки.
Аллегории для Оли Гурьевой
Здравствуй, Гурья Башка!
Как живешь ты в своем Барнауле? Я бродил по росе, светляков собирая в кулак. Заблудился впотьмах в небольшом подмосковном ауле (будь не к ночи помянут заброшенный русский кишлак!) Там встречали меня, опрометчиво карты крапили, анашою чадя, будоражили псов на цепи. Там хлеб-соль рукавом очищали от пепла и пыли. И кричали похабно: «Хоть что-нибудь, падла, купи!»
Мне придвинули вблизь самокрутную ось остолопа; двустороннюю бездну, которая спьяну смешит; шестиухую мышь; узколобого янки-циклопа; и шкатулку из яшмы, которая чистый самшит.
Я ведь тертый калач! Я грядущую власть знаменую: здесь разводят рамсы, здесь линчуют, здесь щупают кур. Я сошью тебе миф, а себе я куплю надувную узколонную деву из нерпьих лоснящихся шкур. С ней забудусь во сне, в тесноте, в срамоте, в неуюте. Призадумаюсь шибко: кого-то, да сможем родить! Обозначу очаг, согреваясь не в чуме, так в юрте. Мне давно ведь повадно спирально, как дым, восходить.
В тундре прошлого нет. Но летят и летят бумеранги. Бреют череп чучхе и из рук вышибают абсент. Лучше в чуме чуметь. Или яриться хреном в яранге, зарывая в брезент горловой диалект и акцент.
Знаешь, Гурья Башка, в твоей доброй и чувственной вере мой поверженный смысл начинает от горя лысеть. Наша дружба крепка, как мозоли рабов на галере (я давно на былое гляжу сквозь москитную сеть).
Гу-гу-гурья башка! Торгаши меня вновь обманули! За меня отомсти, пребывай при своем короле. Как твоё «ничего»? Как погода в Ба-ба-барнауле? Впрочем, может быть, в Томске, а может, и в Йошкар-Оле.









































