Текст книги "Ячея"
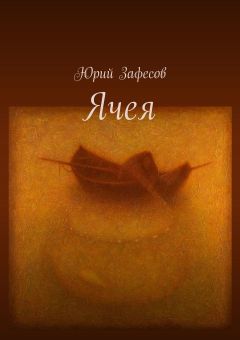
Автор книги: Юрий Зафесов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Город Желтого Жиголо
В. Артёмову
Эту ночь не купить за трешку.
Сей бульон – не перловый суп.
Это как распилить матрешку —
на последней сломаешь зуб.
Ефросинья да Евпраксия,
в каждой плавающий узор.
Что, Артем, для тебя Россия,
если вымести хлам и сор?
Если пыхнув знакомой трубкой,
ад воздавши, смолу – в янтарь.
Если видеть под каждой юбкой
и аквариум, и букварь.
…Аты-баты!
Был город зыбок.
Раскачавшись на каблуках,
два бродяги кормили рыбок.
Рыбки плавали в облаках.
Маевка…
Утро вспаханных борозд, выше – каменные щетки. Среди розовых берез – розовеющие щеки, утомленные глаза, костерок горит у речки. Невпопадны голоса, извлеченные из речи. Пакля желтая в пазу. Рыбы вязкая молока. Дремлешь, словно на весу. Завершается маёвка.
Речки шалая волна, то в притоке, то в притопе. Спит красавица, пьяна, на пригорке, на припеке. На мольберте, не в мольбе, во саду ли в огороде, не принадлежит себе, но принадлежит природе.
Пьем за счастье и успех, за судьбу не вороную! Мишка дуется на всех, Зойку спящую ревнует. Он косарь, но не корсар, смотрит на свою подругу: спит распахнута краса и распихнута по кругу. В легкомысленной возне жизнь почикана годами. Воспаленная, во сне жадно шевелит губами. И отыскивает ртом шрамы вражеских ранений. Рядом с брызжущим кустом оживает муравейник.
День наполнен до краев хайрузовой бирюзою. Связка-сцепка муравьев – в восхождении на Зою. Тут, пожалуй, все свои – и беспутник и бездельник. Эх, вы, мавры-муравьи, муравейник-мавровейник! Устремленная толпа, ошалевшая от счастья, торит тропку у пупа, оббегает вкруг запястья. И почти у облаков, у небесного колодца, замирает у сосков, как на всхолмиях Хеопса…
Коршун медлит в высоте.
Даль колеблется сквозная.
Я пишу о красоте.
Спит царица неземная.
«Гордись убежищем, чалдон…»
А.П.
Гордись убежищем, чалдон,
белёной печью, чистым полом!..
Я знаю: самый лучший дом —
дом, обнесённый частоколом.
Я к неприкаянным не строг,
пусть ищут вольное становье!
Мой дом – не капище, не стог,
но ощерённое гнездовье.
Кому – шурфы, а мне – графин.
Во мне – бескрайность и приволье…
Там всякий, кто не серафим,
падет на вздыбленные колья.
«Пыл мимолетного объятья…»
Пыл мимолетного объятья…
Отшельничая– валаамя,
во мгле белеющее платье
пролей в лазоревое пламя!
Челнок-лодчонка легкой тенью
плывет сквозь яблоко глазное.
И истончается виденье
как червь полуденного зноя.
«Да…»
Да,
я заблудился бы
в мире, когда бы
не свет этих ярких
зовущих огней.
Бывают такие
красивые бабы,
что тихо вздохнешь
и найдешь пострашней.
И станешь богаче,
значительней, выше,
добьешься всего
и поспеешь на суд,
где серые волки
и серые мыши
последнюю корку
подкорки
грызут.
«Ты плачешь… Наверное, тот…»
Ты плачешь… Наверное, тот
земную дорогу осудит,
кто время из вечности пьет.
Слеза не роса – не остудит.
Всё с нами уже невпопад
И в прошлом, навеки отныне,
рыдает, смеясь, водопад —
клепсидра, часы водяные.
Два мотива
Валентину Устинову
1
Мы тем и будем знамениты, что пастухи вселенских смут, семиты и антисемиты, нас не оценят, не поймут. Мы не задушим их в объятьях, не станем бить из-за угла – в метафизических понятьях продолжим спор добра и зла. Прикроем русское пространство, на плечи взвалим облака. Есть два мотива мессианства – «гоп-стоп» и «песня ямщика».
Есть мы с тобой, что неучтиво над звездной бездной осеклись, провидя век, где два мотива слились, смешались и сплелись. Сошлись, как сходятся в проулке тиран и жертва, бог и черт, градоначальники и урки, и с казнокрадом – звездочет. Провидец с фигою в кармане и переделкинская фря – они в итоге пониманья и Февраля и Октября.
А нам по нраву жизнь июля и августа, и сентября, где муравейники и ульи, и подмосковная заря. Где с золотой каёмкой блюдца, с кофейным контуром веков – не зодиаки властолюбцев и гороскопы дураков. В нас суть грядущего другая, совсем иной водораздел.
Бродяга, грусть превозмогая, из-за Байкала углядел – как бронзовеют от заката в хитросплетениях молвы два вахлака, два азиата на берегу реки-Москвы.
2
Оставив эго в первом встречном, не убоявшись тупика, давай подумаем о вечном – построим замок из песка. (Не третий Рим и не Афины, и – не дай Боже! – Голливуд.) Тогда разумные дельфины нас, неразумных, призовут в глубь мирового океана за вулканический ожог, где грозный рык Левиафана глух, как пастушечий рожок.
Туда, откуда взгляд не кинешь в ветхозаветные края, на Атлантиду и на Китеж – сквозь суть догадки бытия. Где киль Летучего Голландца распашет хлябь над головой. Где черепаший хрупок панцирь, совсем как опыт мировой. Где метеорами слепыми завьюжит космос, глух и пуст, когда под слоем звездной пыли Господен Перст означит путь. Путь от Ковчега до борделя апостолов и зазывал. И нас на берег Коктебеля забросит тридевятый вал.
Очнемся – поздно или рано? Богов вселенная родит: в объятьях Максимилиана и обгорелых Афродит. Покаты плечи. Смутны речи. Штормит полуденный стакан. Земные страхи вечность лечит. А это значит – Океан.
«Дед Никанор не сразу умер…»
В. Г. Распутину
Дед Никанор не сразу умер…
Сдавая внуку хлам и лом,
недоумил и надоумил
ходить по кладбищу с веслом.
Мол, нерозумный дважды платит,
когда уходит в донный ил.
«А вдруг кому весла не хватит
на сотню дедовских могил?»
Дед Никанор не канул в тину,
прилег с родными заодно.
Потом построили плотину,
и кладбище ушло на дно.
Те старики уже далече…
Но сквозь ледовое стекло
все ищут правды, теплят свечи.
А внук им подает весло.
«Добуду…»
Добуду,
поскребши русского,
Тунгусский метеорит…
Похрустывает
прокрустово
а кесарево – искрит.
Огонь,
оснежённый нежностью,
вокруг наломает дров,
взорвавшись
над неизбежностью
прозренья иных миров.
Дурачки
Младший был дурачок.
Средний был дурачок.
Старший был дурачок.
Но об этом молчок.
Я и сам дурачок.
Рыболовный крючок
обломил, зацепившись за слово.
Оседлал поплавок,
возрыдал, аки волк.
Жалко мне червяка дождевого…
Глядь – кругом поплавки.
Все мы – дурьи башки.
Не река – разливанное море.
Далеко в синеве,
по микитки в траве
гром-телега стоит на угоре.
Сколько спиц в колесе?
Сколько плевел в овсе?
Сколько судеб
скатилось к обрыву?
Не клубись, мелюзга!
С колокольцем дуга,
запрягай Серебристую Рыбу.
Ведь телегу тянуть —
не эпоху лягнуть!..
(Ба, кобылка давно околела!)
Эх, была-не была!
Цел червяк и голавль…
Кто ж удилище – через колено?!.
«Дорогу через ров осилит отрок…»
Дорогу через ров осилит отрок
под птичий взмах,
под неземной замах.
Песочные часы воздвигнут остров,
где можно жить в ушедших временах.
В небесной колбе кротко, ненастырно
всклубится Тот,
Кто заново иском.
В низинной колбе – знойная пустыня,
сухое небо, смытое песком.
Часы-весы в песок стирают камни,
пересыпая каинов в веках,
где в чашах двух
двух бездн перетеканье
трепещет на вселенских сквозняках.
«Застучит по асфальту подкова…»
Застучит по асфальту подкова,
замигают во тьме огоньки.
В ста дворах деревеньки Буньково
между грядок живут ебуньки.
Их забавы – засады и прятки.
Им не в тягость морковь прорежать.
Им не в падлу пропалывать грядки,
чтоб земле было легче рожать.
Евразийский узел
Принимай, городьба,
своего бунтаря и пострела!
Не скули под окном,
колоброда-кудлатый щенок!
Был вселенский пожар,
и на небе дыра прогорела,
раздышалась крапива
и буйно разросся чеснок.
Я допил молоко,
и, отпав от младенческой капли,
от глухого оврага
до гулкого края добрел.
С неба падали птицы:
болотные серые цапли,
белохвосты-орланы,
Имперский Двуглавый Орел.
Был Он порван повдоль.
Были сталью иззубрены шпоры.
Я шепнул, устрашась:
«Перед смертью мы разве равны?».
Он ответил тревожно:
«Разломаны реки и горы».
Я расслышал его —
«не летается в две стороны».
Я услышал: «Добей!
Не могу отвечать за безмолвье,
за мигающий омут,
Медведица где на плаву»…
Я ответил: «Прости
за терпенье, любовь и беззлобье».
И лопатой срубил,
что на Запад глядела, главу.
Отразилась дыра,
плесканулась
в запекшейся луже,
и пригрезилось мне,
что я знаю свою колею:
над Россией круги
были, помнится, уже и туже,
и шаги Звонаря
восходили к забытым в раю.
Я Орла накормил,
обескровил ядро и дробину,
сбрызнув мертвой водой,
и живой, что мерцала на дне.
И Орел воспарил.
Белый свет завязал в пуповину.
Очень прочным узлом.
Этот узел сошелся на мне.
Единороги
«Немноги единороги…» —
скажу себе за глаза.
То бросится бес под ноги.
То уд оплетет лоза.
То сон повторится дважды.
То губы вопьются в дых.
Чуть позже
в пустынях жажды
споткнется верблюд-кадык.
Припомнит свою породу,
оплавит гортань смолой —
нырнёт плавником под воду,
пырнёт бирюзовый слой…
Волна залатает рану…
А я, на печали скуп,
седым океаном стану
и солью истаю с губ.
…Немноги единороги.
Пасутся среди небес,
бредущие без дороги
сквозь облачный
влажный лес,
в бреду ли,
в слепом дозоре
(где страждущий – окаян),
испив наизнанку море,
сверзаются в океан.
«Там, где не взять умом…»
В. Карпову
Там, где не взять умом,
возьми режиссурой.
Часто простые жесты
уместней слов…
Старая дура
не хочет быть
старой дурой.
Стоит ли нас итожить,
старых козлов?
Нет нам итога, брат,
нам не впервой,
не с первой.
Мы бестелесны, друже,
как тот сквозняк.
Манной падет с небес
на землю сперма,
и прорастет оглобля,
сарай, сорняк.
Средь мирозданья, брат,
жутче чем под подолом,
Разум брюзжит и брезжит,
душа темна.
Если какой-то кол
не встанет колом,
сразу затянем хором
«Вставай, страна…»
Дщерь, внеземную щель,
чуют без труб подзорных
черт, человек семейный,
и Бог – изгой.
Здесь на краю земли
крутит башкой подсолнух.
Кто еще поперхнется
его лузгой?…
О смысле
Есть ли у жизни смысл?.. Все перепутаны нити. Ослепнули в катакомбах мерцающие клубки. Действие вязнет в подробностях, подробности – как финифти. С шумом летят шутихи, и оживают лубки.
Есть ли у жизни смысл? В мыслях шагни на небо. Потом посмотри под ноги и наточи топор. Да не кляни судьбу, сотканную нелепо, пусть опадут созвездья прямо к тебе во двор.
Звездная крона чахнет, стынет в ветвях Юпитер в крае грехопаденья, что испещрил Адам. Если отыщешь нить, сразу распустишь свитер руками любимой спутницы связанный к холодам.
В лужах мерцает лёд, скован смысл залежалый. Стоишь на краю перрона вдали от билетных касс. Да нет уже, нет тебя! А есть лишь вот этот ржавый, давно уже обесточенный проволочный каркас.
Есть ли у жизни смысл? Печалься о новой пряже. Что там нить Ариадны, когда Ариадна – товар. Прикинь совсем отвлеченно: ты с нею лежишь на пляже, а в катакомбах плачет раненый Минотавр.
Наш негасимый мир изрыт бекасиной дробью ничтожных осуществлений, но вот истекает бронь, и нить начинает пульсировать по Образу и Подобью, привязанная к мизинцу Сидящего Потусторонь.
Есть ли у жизни смысл? Надо дождаться смерти, чтоб сорняки земные проще было полоть. Все ты увидишь ясно, в ином непрерывном свете, ясней, чем когда рассудком повелевала плоть.
«Применяя навыки, мозги ли…»
Применяя навыки, мозги ли,
Человек – ишак или лешак —
он всегда одной ногой в могиле,
потому что жизнь – всего лишь шаг.
Шаг познать,
в обнимку с девой дивной,
где кого метели замели
в чутком чреве матери родимой,
в гулком чреве матери-земли.
Первый шаг
(не падайте – шагайте!)
скорлупу земную сокрушит.
Ну, а кто зависнет на шпагате,
шаг второй уже не совершит.
Ехал грека
В сборнике «Жертвы Колымы»
первая фамилия в перечне жертв – греческая…
К полемичному сюжету приложу идею-фикс: ехал грека через Лету, ехал грека через Стикс.
«Карту кинем – не погибнем!» – снеговейный буридан ехал грека в храм богини прямиком на Магадан. Ковырял палеолиты перед тем как в храм войти. Тектонические плиты передвинул по пути. Православие обидел, прыснув пресным языком: «Если эллина не видел, значит, с Лениным знаком».
Есть в Египте пирамиды. У ковбоя есть лассо… Храм богини Артемиды. Хром товарища Лазо. Я к безносому брелоку приложу идею-фарс: сплошь колючку-проволоку. И скажу собакам «Фас!»
Как свербело, как нудело!… Нигилизм-алкоголизм. Отсидели, знать, за дело, Это дело – катаклизм. На суку не кукареку, на суку – ума сума. Сунул грека руку в реку – оказалась Колыма. К дыбе – льдистое монисто. Колыма не комильфо. Контрацепт котрабандиста от Алкея и Сафо.
Подстрекатели и скряги, Вещный Шут и Вечный Жид – в путь, назад – через варяги, через варвары в Аид. Сквозь отвалы золотые, где на горюшко – брюшко. Скопом канули святые сквозь игольное ушко.
Отчеканились вопросы у порога тишины. Пусть погаснут папиросы! Вы грешны. И мы грешны. Обратимся в слух и зренье, закатив ГУЛАГ на склон… Живо ль древо Со-творенья? Был ли зэком Аполлон? В чем вина, война и мера. Чья эпоха? Чей обман? Но не спросишь у Гомера, не отправишь в Сусуман.
И тогда сойдутся двое спесью волчьих, песьих орд: красноярскому конвою кутаисский Гесиод скажет так: «Покрой куколя суть Святая Простота. Вне земли – покой и воля, подле Южного Креста»…
«Еще не рожденную душу щемит…»
Еще не рожденную душу щемит
еще не зажженное пламя.
В мерцающем зернышке роща шумит,
в стенающем семени – племя.
Еще ничего не дано понимать.
Глуха Голубиная почта…
Но вот разверзается мачеха-мать,
из праха рожденная почва.
И вот простирается зло и добро.
Таежник грохочет: «Медведь я!
Пусть корни сжимают земное ядро,
а крона цепляет созвездья!
И пусть за спиной у мужчины – Семья
над сблеванной знатью и голью!»
В неистовой Кроне немыслимый я
глаголю, глаголю, глаголю…
«По суху аки… Штормящий своё разумеет…»
По суху аки… Штормящий своё разумеет:
вот вам свобода, но в щепы шаланда и бот…
Тварь дребезжащая многое право имеет,
приотстранясь от иных невозможных свобод.
Скрижаль
Они отлили из свинца златого ложного Тельца, потратившись слегка на позолоту. А золотые кирпичи, шипя, истаяли в ночи, принявшись за подпольную работу.
Измена, смута и корысть устои мира стали грызть, сквозь стены и засовы проникали. И, попустившись, Моисей, кормил с ладони карасей, щекочущих Египет плавниками.
Крупчатка манная, легка, благословляла облака, небесному причастна обмолоту – в мир ниспадала, как пыльца, то человечество с Тельца фальшивую сдирало позолоту.
Прости, любимая, но знай, я собирался на Синай, чтоб посохом явиться Моисею. Проспал беспечное дитя, тысячелетия спустя, пустыню Аравийскую просею. Отсею соль, отсею боль, ошметки вежд, обломки воль, что смыслами означатся пустыми. Когда пророка станет жаль, найду ту самую скрижаль – «Не выводи блудущих из пустыни».
Таракан
Покуда шло крушенье мира,
я во все щели влез без мыла,
усатый рыжий таракан.
Не шел к больным и старикам,
и не глотал я дух распада.
Ведь старики сошли до ада:
людская, лучшая рассада
не уцелела в сшибке тел.
Я в детство к старости летел.
Небесный Промысл
Преподобному
Иосифу Волоцкому
И ты пошел на звон колоколов…
И я увидел: этот звон малинов.
В тот самый миг поверх людских голов
происходила схватка исполинов.
Раскосый облак – облак Челубей
теснил к обрыву облак Пересвета.
И белый пух летейских голубей
листал страницы Ветхого Завета.
Перечисляя, кто кого родил,
дьячок гундел похмельно и надсадно.
И странный смысл в столетьях пробудил:
бойцы, сошедшись, разошлись внезапно.
И, поклонившись разом до земли,
к иным тысячелетиям примерясь,
они, обнявшись, на закат пошли
превозмогать жидовствующих ересь.
Метафизика
Из опрошенных
Аристотеля знают немногие.
Человек триста – из ста.
На 20-летие нашей дружбы
В. Устинову
Когда затем
в России вспыхнул свет,
за всем за тем,
что шло,
казалось, прахом,
я отвечал
вопросом на ответ:
– Всем по заслугам?
А небесным птахам?
А Божьим дудкам?..
– Этих пощади! —
кричала роща
голосами века,
и чуткий филин,
ухавший в груди,
изобличал
в прохожем человека.
И вёл меня
сквозь снег и холода
навстречу
созидавшему таланту,
не дожидаясь времени,
когда
остудит ветер
Огненную Лампу.
«Жар мимолетного родства…»
Жар мимолетного родства
отведав из янтарной чаши,
чадящий светоч мастерства
блуждает в сумеречной чаще.
Подслеповато прогорев,
печальник, сумрак стерегущий,
не узнает родных дерев
лишь оттого… что тени гуще.
«Жили-были скирд да хуторок…»
В. Карпцу
Жили-были скирд да хуторок,
но затем состарились в горниле.
Мы с тобой ходили вглубь дорог.
А теперь в густом и липком иле
варим вар в неверии и зле
с каждым часом – смыслами короче.
Странный морок бродит по земле,
застилая выжженные очи.
Странный морок также одинок.
Жил как не жил – пыхнув, затихает.
А в пустых глазницах огонек
чуть забрезжив, тотчас затухает.
Жук
Се чекушка.
Суть четвертинка.
Откровенье
для чистых вен.
Жук-хитиновая скотинка,
как ты,
право,
поползновен!
Я доверье тебе внушаю,
Верещагину-щипачу.
Я лежу,
тебе не мешаю,
небо веточкой щекочу.
Кыш, одышный,
сойдешь на клейстер!
Дай мне слышать
поверх оград
как вершины
колышет ветер,
Вертер,
вешатель,
ретроград…
м. с.
Три сына – трясина.
Три дочери – троеточие.
А ты – босяк, ни так ни сяк,
глотка волчья России,
троеточие трясины…
Резьба по воде
Пусть годы проносятся мимо!
Пора, брат, щетиной к звезде,
в просторном гнезде серафима
заняться резьбой по воде.
Пора выходить из метели,
пропившись на братском пиру,
в лучах золотой канители,
в сквозном изумрудном бору.
Пора у огня оптимизма
ладони погреть, Козерог!
Пусть краеугольная призма
лежит у исчадья дорог.
Она дожидается часа,
глотая и множа зевак.
Мне их возвращает сетчатка,
сбирая прозренья в кулак.
Взметая листву и коренья,
и черных, и белых ворон.
И слышит, и видит, как время
сочится с любой из сторон
И знает. что многого – мало!
И в речку бредет косогор,
то маятник режет, как масло,
пластает на части простор.
С последней своей остановкой,
причалом в ночных небесах.
С нелепой охриплой страховкой —
кукушкой в песочных часах.
Занавес
Не Козьма, так точно – Казимир.
Музыка, немая от рожденья.
Красота, спасающая мир,
своего страшится отраженья.
Вглубь себя уйду от духоты,
но содвину занавес неплотно.
Догорают поздние холсты.
Проступают ранние полотна.
Памяти Э. Ренана
Иисус раскурил сигарету,
перед вечностью грезя во сне.
Из любви, не за пагубу эту,
я погладил его по спине.
Мир кроил и кроил трафареты,
в перекрестиях плавил металл.
Пепел пал, и в огне сигареты
чуть насмешливо ад всклокотал.
Я на памяти сделал зарубку:
«Рим дремал. Пили кровь комары…
Вождь сидел и посасывал трубку,
в ней сгорали и гасли миры.
Обратился ко мне: « За острогом
пой, звереныш, про меньшее зло,» —
и добавил: «Все ходим под Богом,
в том нам больше других повезло…»
«Тускнеют, угасают власти Рима…»
Тускнеют, угасают власти Рима…
Предвидя междуцарствие коня,
леплю из пластилина властелина
и ставлю его около огня.
Он малого сказать не успевает
(глух колокол из жидкого стекла).
Лишь Цезарь, закоснев, загустевает,
под Брута выпадая из седла.
Три сосны
Русский смысл друзей не ищет.
Глух во мхах заскрёбся страх.
Лунный свет, вселенский нищий,
заблудился в трёх соснах.
Пронизающий зиянье
канул в скорбный неуют.
Три сосны срослись корнями,
друг из друга соки пьют.
Чахнет поросль обороны,
а глаза поднимешь ввысь:
в небесах сомкнулись кроны —
три сосны в одну сошлись.
Лунный свет. Тоска и воля.
И добро – почти что зло.
И тумана восковое
соколиное крыло.
И зарок в седой юдоли:
выжить, только померев.
Кто мы? Боги? Или боли?
Или тени от дерев?
Ты ли Промысла сквозного
основанье звёздных пор
триединая основа,
возносящая Собор?!.
Сфера
И вновь
стеклянной
сферы вой.
Внутри сплелись
метель и вьюга.
Там зверобой,
как зверь рябой,
не может вырваться
из круга.
Притча об олухе
Фиолетовый филин ухарем на воздушных ухабах ухает: «У-ух!» Упыри, вурдалаки, лешие расчихались во мхи истлевшие и в пух. Шебаршит, словно мышь под ящиком, извивается ртутной ящеркой родник. Звезды зрит и грохочет хорами, как рыдает над крохоборами, рудник. Колобродит смолой поленница, над криницей береза кренится и крест – над почившим до срока олухом, что избенку воздвигнул обухом, в присест.
Он рудник драгоценный выпростал, глянь: избенка на курьих выростах взросла. Изумруды мрачнели грудами, золотыми змеились рудами – в рост зла. Тут напала хандра на олуха, он сломился как ствол подсолнуха, угас. «Твердь земная тобою пройдена, но навеки забыта родина,» – плыл глас. Вспомнил олух, как юным, истовым от народа пошел за истиной в чертог. Но в пути, близ церквы бревенчатой, он взобрался однажды вечером на стог. Длился сон до затменья молодца, он не слышал, что паства молится зазря. Пробудился – вкруг тьма одышная, не гремит световыми дышлами заря.
«Где ж ты спряталось солнце ясное?» – обращался к оленю, к ястребу, к сычу. Злясь, выспрашивал ель точёную, как пройти сквозь чащобу чёрную. Но – чу! «Надоело – изрёк, – заискивать! Рудознатцем пойду за истиной сквозь твердь». И – пошел в глубину гремучую, и поляну обжил дремучую, как Смерть.
«Твердь земная тобою пройдена, а в деревне растет смородина, светясь»… Днём и ночью избёнка ерзала, и ходила под ней промерзлая зыбь-грязь. «Хватит ёрзать чумой-посадницей, али сядешь с размаху задницей на кол! Сгинь, зараза, в косматой темени!» – Вдарил олух тяжелым теменем об пол. Брёвна пола случились полыми, он попал из огня да в полымя – в полон. Но собрался, сразился с нечистью и нашел он под елью – с Вечностью кулон…
Нет, не попросту притча молвится – колом в спину сразили молодца. Слух глух. То не бело проплыло облако – то крестом осеняя олуха, взмыл Дух. Он клубясь долетел до родины, там пророс меж кустов смородины лопух.
…Фиолетовый филин ухарем на воздушных ухабах ухает: «У-ух!»









































