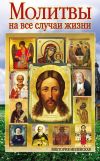Автор книги: Жанна Кормина
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В паломнической и, шире, православной культуре существуют особые способы говорить об аутентичном опыте, практиках, месте. Такими тропами аутентичности являются понятия чистоты, простоты и намоленности. Все они помещают аутентичное в воображаемый домодерный мир, который может быть виден только при помощи оптики, изобретенной модерным человеком, – национализма и антимодернизма. Одновременное стремление и невозможность (да и неготовность, как мы увидим) преодолеть дистанцию между своей повседневностью и подлинной жизнью, с медленным временем и лишенным технологических излишеств бытом, жизнью, которую паломники надеются увидеть и почувствовать в дальних приходах и монастырях, старых иконах и сельских пейзажах, создают особую эмоциональную динамику паломничества. Паломники ожидают от поездки соприкосновения с миром подлинного, рецептов, как получить этот опыт в более полном объеме, и доказательств его ценности.
Особенности антропологической работы в православном поле
В свое первое автобусное паломничество я отправилась более 15 лет назад, в компании приятельницы и коллеги, имевшей когда-то насыщенный опыт православной жизни. Моя компаньонка начала свою церковную жизнь в раннее постсоветское время, когда православие не было культурным мейнстримом и привлекало многих ищущих интеллектуалов. Через некоторое время она совершенно разочаровалась в вере и порвала какие-либо отношения с Церковью. Тем не менее она была хорошим проводником в этом поле. Ее раздражение было конструктивным: она указывала на то, что отличалось от хорошо знакомой ей канонической нормы, а также на то, что в этой норме и ее вариациях было несовместимо с ее личными представлениями о надлежащем устройстве общества и императивом личной свободы. В то же время, в отличие от некоторых других моих православных коллег, друзей и большинства информантов, она не сомневалась в том, что можно изучать православие, не будучи православным, хотя предмет этот не казался ей интеллектуально привлекательным.
Многим антропологам приходится в повседневной исследовательской практике обосновывать выбор своего поля – прежде всего перед коллегами, но также перед информантами (собственно полем) и обществом: друзьями, родственниками, студентами и другими людьми, с которыми доводится говорить о своей работе. В моем случае обоснование этого выбора перед лицом реальных или воображаемых визави часто бывает затруднительным.
Одна причина затруднения связана с атмосферой общественного раздражения вокруг РПЦ в академическом, журналистском и интеллигентском сообществах в России. Многим непонятно, зачем заниматься таким, как сказала одна моя студентка, темным предметом. Если посмотреть на факт раздражения аналитически, то легко заметить, что его базовые причины кроются в естественной человеческой реакции на нарушение классификационных схем. Не всегда ясно, где проходит воображаемая граница между религиозным и светским, и эта размытость и проницаемость границы заставляет одних думать, что происходит насильственная клерикализация их повседневной жизни, а других – что, наоборот, мир вторгается в Церковь, пытаясь судить ее по своим законам. Как справедливо пишет Хосе Казанова, процесс деприватизации религии, связанный прямо с десекуляризацией, приводит к тому, что «не только религия или Церковь предъявляет права на вторжение в публичную сферу: публичная сфера и другие формы публичности также врываются в скрытую, приватную жизнь Церкви, чтобы превратить ее частные дела в публичные скандалы» [Casanova 2011: 29][11]11
Подчеркнутое внимание общества к экономической жизни РПЦ свидетельствует не столько о состоянии дел в ней, сколько о социальном недовольстве несправедливой экономической асимметрией в обществе. Так уж выходит, что редкую возможность для открытой дискуссии о социальном неравенстве и проблеме справедливости в стране предоставляет именно деятельность РПЦ. Подтверждением может служить популярность исключительно критической работы Н.А. Митрохина о состоянии РПЦ [Митрохин 2004].
[Закрыть]. Впрочем, раздражение, о котором я пишу, связано не столько с тем, что религиозный и секулярный миры, существующие в представлении о должном социальном порядке раздельно, ведут захватническую деятельность на территориях друг друга, сколько с неуверенностью в том, где проходит граница, как ее распознать, да и существует ли она вообще.
Как влияет атмосфера раздражения вокруг предмета исследования на его доступность и интеллектуальную привлекательность? Какие ограничения на исследователя она налагает? Может ли собственное раздражение антрополога быть интеллектуально продуктивным? Может ли раздражение других, которые делятся им с тобою, быть информативным и будить мысль? Эти и масса подобных вопросов беспокоили меня на протяжении всего исследования. К концу 2000-х годов в России вокруг религии вообще и православия в частности сформировалась общая атмосфера раздражения. Людей секулярных раздражает навязчивое доминирование православия в публичной сфере и дискурс религиозного национализма, людей верующих задевает, что к Церкви прислоняются всякие невежды, объявляющие о своей православности по праву рождения, а массовые (casual) православные сердятся, что предоставляемый им продукт и услуги порой оказываются ненадлежащего качества. Образ РПЦ в СМИ и дискуссиях, ведущихся в социальных сетях, также не всегда соответствует их ожиданию: для них религия отвечает прежде всего за этику и мораль, доминирующий религиозный институт должен быть совестью нации, а совесть эта должна быть чистой.
Другая причина моих затруднений связана с тем простым фактом, что я не являюсь и никогда не была верующим человеком. Это обычная ситуация: многие мои коллеги-антропологи религии также не являются верующими или по крайней мере членами религиозных групп, которые они изучают. Бывают случаи, когда ученый пишет о религиозных практиках, знакомых ему по собственному детству и жизни своей семьи, но, как правило, именно проделанный им жизненный и интеллектуальный путь отдаляет его от веры, что и позволяет ему быть исследователем[12]12
Замечательный пример – специалист по социальной истории и антропологии католичества среди итальянских мигрантов в США Роберт Орси. Сам американец итальянского происхождения, он вырос в воцерковленной католической семье в Бронксе (Нью-Йорк) и пишет о религиозных практиках группы, которой он когда-то принадлежал по рождению, но которую покинул [Orsi 1985, 2004].
[Закрыть]. Это помогает выстраивать необходимую дистанцию, называемую на воляпюке социальных наук очуждением. Но именно это обстоятельство нередко мешает собеседникам принимать мой исследовательский интерес всерьез; многие, равно церковные и светские люди, действительно считают, что нельзя понять верующего, не имея опыта веры. Как спросила Роберта Орси (изучавшего почитание чикагскими католиками святого Иуды, к которому обращаются за помощью в безнадежных жизненных ситуациях) одна из его собеседниц: «А сам-то ты когда-нибудь молился святому Иуде?» [Orsi 2004: 148]. Орси пишет, что теоретически мог бы, поскольку был воспитан в среде американских итальянцев-католиков, но в ситуации жизненного кризиса выяснилось, что на практике все-таки не мог.
Проводить этнографическое исследование православия в России чрезвычайно трудно. Моя франко-болгаро-немецкая коллега Детелина Тошева, проводившая в течение года полевое исследование в православных общинах в одном из городов Ленинградской области, отмечала всепроникающие ксенофобию и антисемитизм в народном религиозном мышлении, с которыми ей трудно было смириться и которые осложняли ее работу в поле [Тошева 2008: 117]. В приехавшей из немецкого города Халле Детелине некоторые ее информанты, рассуждавшие в духе конспирологических теорий, подозревали враждебного агента Запада. Меня определяют как свою, и это создает совсем другие, хотя и не меньшие, сложности. Антрополог обычно стремится занять такую социальную позицию, которая делает его и своим, и чужим в изучаемой группе, – доброжелательного любопытствующего, внимательного ученика и т. п. Однако место православия в социальном воображении многих современных россиян, а также вытекающая из этого политика инклюзивной идентичности и размытость границ группы таковы, что не оставляют исследователю этого не особенно уютного, но интеллектуально продуктивного местечка на пороге группы: ты должен либо войти, либо исчезнуть. C одной стороны, быть своим легко: участие в паломнической поездке или присутствие на богослужении автоматически делают исследователя членом коллектива, не говоря о том, что владение русским как родным и условно славянская внешность делают в России любого православным по умолчанию, пока он демонстративно не заявит о другой религиозной аффилиации или ее принципиальном отсутствии. С другой стороны, паломники ожидают, что и ты будешь купаться в святом источнике в холодную погоду, а священник – что и ты будешь целовать ему руку при приветствии. Впрочем, перенести те лесные испытания бывает проще, чем удержаться от возражений информанту, выражающему, например, ксенофобские настроения.
Известно, что практически любая религиозная группа ожидает от интересующегося ее жизнью исследователя обращения. В самом деле, специфика этнографической работы, ориентированная на понимание внутренней логики изучаемого сообщества/культуры, предполагает установление доброжелательных личных отношений с членами изучаемой группы. Лучшее, что могут сделать для этого человека члены религиозной общины – принять его в свои ряды. Ожидание обращения бывает мягким («Может быть, ты уже принимала Христа в свое сердце, просто не помнишь?»), но может переходить в своего рода моральное насилие (см., напр.: [Harding 1987; Кормина 2013: 300–302]). Тем не менее религиозные группы, находящиеся в положении меньшинства, вроде харизматических христиан в России или, скажем, православных христиан в европейских странах или США, обычно терпимы. Они готовы терпеть благожелательного исследователя уже потому, что хотят держать свои ворота открытыми: они ориентированы на прозелитизм и заинтересованы в своем положительном имидже перед лицом общества. С изучением православия в России – совсем другая история.
Еще одно затруднение, о котором стоит упомянуть, – проблема размытости границ поля. Вопрос о том, кого считать православным, а кого – нет, не имеет простого ответа. Социологи религии прилагают специальные усилия, чтобы выделить критерии воцерковленности, которые позволили бы подсчитать количество членов той или иной религиозной институции (см., напр.: [Каариайнен, Фурман 2001; Синелина 2001; Чеснокова 2005; Лункин, Филатов 2005]). Во всех попытках подсчета верующих, более или менее удачно придуманных и осуществленных, самым интересным результатом остается констатация существенной численной разницы между теми, кто считают себя православными, и теми, кто являются православными согласно заданным исследователями критериям[13]13
Критерии «настоящего верующего», конечно, в значительной степени зависят от личной заинтересованности исследователя в получаемых результатах. Так, религиозно нейтральные или критически настроенные авторы отмечают исчезающе малое количество «настоящих православных» [Фурман, Каариайнен 2000; Лункин, Филатов 2005; Сибирева, Митрохин 2007]. Их оппоненты считают по-другому и получают намного более оптимистические цифры. Например, Инна Налетова предлагает брать за справедливый критерий подсчетов православных их самоидентификацию: «Статус православия как национальной религии позволяет акцентировать внимание не только на личной вере респондента, но и на его причастности к национальной культуре и коллективной памяти народа» [Налетова 2004: 133].
[Закрыть]. Скажем, согласно данным Аналитического центра Юрия Левады, 68 % опрошенных[14]14
Опрос проведен 15–18 ноября 2013 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны (Россияне о религии [Электронный ресурс] // Левада-Центр: сайт. 2013. 24 дек. URL: http://www.levada.ru/24-12-2013/rossiyane-o-religii (просмотрено 02.05.2014)).
[Закрыть] в 2013 г. считали себя православными (положительно ответили на вопросы: «Считаете ли Вы себя верующим человеком? Если считаете, то какую религию Вы исповедуете?»), при этом 62 % из них никогда не причащаются, т. е. не участвуют в литургической жизни Церкви.
Эта сложная арифметика как раз и свидетельствует о размытости границ группы. Конечно, бывает, что православный христианин долгое время не причащается по особой личной причине: одна моя собеседница, 40-летняя православная прихожанка, перестала причащаться, поскольку стеснялась исповедовать своему приходскому священнику грех, от регулярного совершения которого она пока не готова была отказаться. Хотя, как справедливо замечают Ольга Сибирева и Николай Митрохин, «в современной Церкви принадлежность верующего к определенному приходу не фиксируется и никаких формальных обязательств по посещению храма на него не накладывается» [Сибирева, Митрохин 2007][15]15
Это отсутствие формальной закрепленности верующих за определенными храмами, как показывают Сибирева и Митрохин, является препятствием для их адекватного подсчета.
[Закрыть], согласно распространенному мнению, разделяемому, в частности, моей собеседницей, ее духовным отцом и друзьями по приходу, практика причастия, даже совершаемого редко, понимается как обязательный минимум религиозной жизни для православного христианина [Pop 2018]. Существенно, что причащаться и исповедоваться, согласно этому мнению, следует только в своем приходе. На этот счет, как мы увидим далее, есть и другие мнения.
И все – таки связана эта размытость границ не только с объективно низкой степенью участия православных в жизни приходских общин. Экспансия православных символов и практик в сферу массового бытового потребления также способствует размыванию границ группы. Следует ли, например, считать православными тех, кто на Пасху предпочитает покупать пасхальные куличи в ближайшем супермаркете или кафе-пекарне уже освященными вместо того чтобы освящать их самостоятельно, придя для этого в церковь?[16]16
Иногда для освящения пасхальных куличей священника приглашают на хлебозавод, который отправляет их в розничную торговлю, снабжая соответствующей маркировкой: так, петербургская пекарня «Буше» в 2014 г. сообщала даже имя приглашенного ею иерея: «Во всех кондитерских сети уже можно купить куличи, освященные иереем храма иконы Божией Матери “Неопалимая Купина” Михаилом Преображенским. В продажу они поступили 15 апреля, и до 20 апреля все петербуржцы могут забежать в пекарню и взять свой кулич к праздничному столу» (из архива автора. В настоящее время этот материал удален с сайта пекарни). Петербургская сеть продуктовых магазинов «Лента» в течение нескольких лет приглашала священников, которые освящали всем желающим куличи накануне Пасхи прямо в торговом зале.
[Закрыть] Многие предприятия общественного питания и продуктовые магазины в стране предлагают такую услугу несмотря на недовольство Церкви[17]17
В некоторых епархиях, например Пензенской, пытаются запретить священникам «идти на поводу у торговцев и освящать куличи вне стен храма» (Саванкова Н. Пензенский митрополит запретил продавать освященные куличи [Электронный ресурс] // Рос. газ.: интернет-портал. 2013. 3 мая. URL: http://www.rg.ru/2013/05/03/reg-pfo/kulich-anons.html (просмотрено 03.05.2014)).
[Закрыть]. А будут ли православными те, кто купил эти куличи как традиционную сезонную сдобу и не удосужился поинтересоваться, были ли они вообще освящены в церкви?
Социальное раздражение вокруг российского православия отчасти объясняется силой нормативного подхода, который легче перенять, встав на точку зрения одной из недовольных сторон, чем отвергнуть в пользу нейтральной взвешенной позиции. Нормативный подход предполагает, что исследователь заранее знает, с чем имеет дело и как эти явление, группу или практику следует категоризировать и объяснять. Антропологическое исследование строится по иной логике: работая в поле, т. е. занимаясь этнографией, мы пытаемся «ухватить» категории и концепты, посредством которых членят и объясняют свой мир наши информанты, а после этого мы занимаемся сложным процессом перевода полученного нами знания на академический язык. Иными словами, до начала работы с православными или любой другой группой антрополог не знает, кто они такие, чем живут и т. п. Вернее, какую-то информацию он, конечно, имеет, но она поверхностна, неточна и предвзята. Его работа состоит в уточнении и усложнении проблемы, ее переводе из нормативного дискурса политических или этических суждений в объемный формат релятивистского подхода. Так, например, американский антрополог Чарльз Хиршкинд в своем исследовании того, как функционируют на Ближнем Востоке, в Египте в частности, аудиокассеты с записями речей известных хатибов (исламских проповедников), показывает, что хотя СМИ и сформированное ими общественное мнение видят в этих кассетах опасное средство распространения радикального ислама, в действительности подавляющее большинство проповедей имеют вполне мирное содержание. В них говорится о социальной ответственности и этической дисциплине как способах справиться с повседневными проблемами, такими как бедность и социальное неравенство, с которыми сталкивается аудитория этих проповедей – миллионы обычных мусульман и ответственных граждан, таких, кто имеет постоянную работу, обучается в университете, водит детей в школу и беспокоится о будущем своего общества [Hirschkind 2006: 3–4].
Серьезное искушение нормативным подходом мне пришлось испытать, когда я начала писать свой первый научный текст об автобусных паломничествах, т. е. занялась переводом, метафорическим и буквальным, результатов полевого исследования на академический язык. К этому времени мне удалось побывать в добром десятке паломнических поездок, взять какое-то количество интервью, сделать множество фотографий и собрать еще некоторые данные. И все это время меня одолевали сомнения в том, что я выбираю правильные паломнические туры, что участники поездок действительно совершают их из религиозных побуждений и получают опыт, который верно квалифицировать как религиозный. Иными словами, я увидела не совсем то, что ожидала, и увиденное показалось мне невыразительным и незначительным. В результате я пыталась представить эти путешествия как динамическую модель с двумя полюсами: на одном находится «настоящее» паломничество, в котором мне пока не довелось побывать, на другом – коммерческий религиозный туризм. Однако стройная модель рассыпалась при соприкосновении с полевым материалом – мне начинало казаться, что никакого настоящего паломничества нет, все путешественники преследуют цели рекреационные, а вовсе не душеспасительные. Иначе говоря, паломники виделись мне туристами, которые лишь мимикрируют под религиозных людей, а в действительности играют в паломничество, как другие играют в ролевые игры. Во время одной из таких поездок, в катере посреди Ладожского озера, я разговорилась с соседкой, оказавшейся биологом, сотрудницей петербургского Ботанического сада. Она в течение многих лет в свое свободное время приезжает в расположенный на острове Коневецкий монастырь (Коневский, как называют его местные) трудницей, делать то, что она умеет лучше всего – ухаживать за растениями. Поняв, что с нашей группой она поехала из соображений удобства (так проще всего было добраться до места) и, в отличие от многих участников группы, была опытной православной, я решила спросить, бывала ли она когда-нибудь в настоящих паломничествах. Собеседница посмотрела на меня долгим взглядом и ответила: «А это и есть настоящее паломничество».
Ответ меня удивил, поскольку не совпадал с моими ожиданиями. Своим вопросом я приглашала собеседницу к разговору на тему настоящего паломничества и недопаломничества, ожидая, что она станет сравнивать свой предыдущий опыт с тем, что мы переживали вместе. В самом деле, руководитель нашей группы на протяжении двухчасовой поездки от Санкт-Петербурга до пристани, где мы сели в катер, рассказывала в основном об истории этой территории начиная с первобытности, а во время экскурсии по острову и монастырю больше восхищалась экологической ситуацией, чем чудесами от местной чудотворной иконы. Значительная часть паломников не были прихожанами (к этому я уже привыкла) и не имели элементарных знаний о церковном обиходе. Правда, в начале пути руководитель прочла молитву, обозначая поездку как паломническую, и с нами была небольшая державшаяся особняком группа людей, читавших по очереди негромко нараспев молитвенные тексты. Их присутствие также обозначало нашу поездку как религиозное путешествие, хотя они не приглашали к своим молитвам остальных, которые хотели пережить это путешествие как паломничество, но не знали, как это вернее сделать. Именно это стремление, пожалуй, объединяло всех участников поездки (может быть, кроме руководителя группы): стремление сделать усилие, потрудиться, чтобы побыть паломниками.
Солидарным с моей соседкой по катеру оказался редактор сборника, для которого я писала статью. Он предложил отказаться от оценочного в этом случае слова «туризм» в заглавии и уверенно называть путешественников так, как они сами себя видят или хотели бы видеть: паломниками [Kormina 2010]. Его позиция была созвучна рассуждениям Фенеллы Каннелл о том, кто такие «настоящие христиане» в связи с типичными скептическими суждениями о мормонах: «антрополог под “настоящим христианином” понимает любого, кто себя таким образом описывает. Считать иначе значит знать заранее, в чем состоит суть религии, основываясь в своем знании на выборочных и исторически специфичных канонах ортодоксии» [Cannell 2005: 349]. Действительно, задача антрополога состоит не в том, чтобы определить принадлежность человека к той или иной группе, задавая прямые вопросы о его самоидентификации («Считаете ли Вы себя…?») или устанавливая степень его соответствия искусственно подобранным критериям. Суть антропологической работы заключается в том, чтобы наблюдать, что он делает, чтобы быть кем-то, выполнять какую-то социальную роль – например, православного человека. Смысловое наполнение этой роли, репертуар связанных с нею практик, навыков и знаний не являются, как мне довелось убедиться, ни стандартными, ни статичными. В результате мы с редактором сборника пришли к решению использовать Маринин термин «автобусники».
Ритуал и его руины
Интерес к изучению паломничества в современной антропологии довольно заметен. Недавно была основана специальная серия по антропологии паломничества в британском издательстве «Ashgate» (Ashgate Studies in Pilgrimage Book Series). Есть несколько убедительных историографических обзоров по исследованиям паломничества, которые нет смысла здесь повторять ([Coleman 2002; Badone 2014]; обзор исследований российского паломничества: [Rock 2015]). Вероятно, академический интерес к изучению этой практики диктуется несколькими обстоятельствами. Во-первых, паломничество является одной из форм мобильности, или временной миграции [Урри 2012; Clifford 1997; Appadurai 1996; Coleman, Eade 2004]. Во-вторых, оно связывается с понятием культурного наследия (напр.: [Badone 2012]). В-третьих, и туризм, и паломничество рассматриваются как практика переживания чего-то «настоящего», аутентичного – мест, вещей, но прежде всего опыта. Наконец, в-четвертых, оно понимается как специфическая религиозная практика, одновременно глубоко индивидуальная и групповая, которая позволяет говорить о значимых трансформациях в религиозной жизни, о том, что Фенелла Каннелл назвала «этнографиями секулярности» [Cannell 2010].
Выделение паломничества в специальную область исследований произошло только в последней трети XX в. Первыми, кто предложили особую теоретическую рамку для понимания этого явления, были Эдит и Виктор Тёрнеры, опубликовавшие в 1978 г. книгу «Image and Pilgrimage in Christian Culture» по результатам изучения католического паломничества в Мексике и Ирландии (где они проводили полевое исследование), а также в Англии и Франции. В этой книге авторы применяют к паломничеству концепцию лиминальности, которая была разработана Виктором Тёрнером в его работе 1969 г. «Ритуальный процесс. Структура и антиструктура» на этнографическом материале южноафриканского народа ндембу и сделала его знаменитым [Тёрнер 1983]. Уже в этой работе Тёрнер показывает универсальность ритуального процесса, посвящая целую главу («Коммунитас: модель и процесс») европейским, американским и индийским культурным реалиям, в которых проявляются разные модальности антиструктурных объединений и ассоциаций, именуемых им коммунитас. В качестве одного из таких примеров, наряду с битниками и хиппи, он приводит монашеский орден францисканцев и саму доктрину нищенства св. Франциска Ассизского [Там же: 209–221].
Обращение к истории католичества в книге 1969 г., очевидно, так же неслучайно, как и выбор католического паломничества в качестве нового полевого исследования – нетрадиционного для антропологии поля, как хорошо понимали сами Тёрнеры [Engelke 2004a: 32]. Дело в том, что в самом конце 1950-х годов Эдит и Виктор Тёрнеры с детьми приняли католичество, чем неприятно удивили коллег по департаменту в Манчестерском университете, где тогда работал Тёрнер. Как пишет в предисловии к переизданию «Image and Pilgrimage…» 2011 г. Дебора Росс, после возвращения в Англию из Африки «Тёрнеры покинули марксизм и стали католиками» [Ross 2011: xxxii]. Автор интересного биографического исследования о Тёрнере, Мэттью Энгельке, предполагает, что для ученого и его жены, которая всегда сопровождала его в экспедициях и принимала живое, хотя чаще всего анонимное, участие в его академической жизни, «исследование паломничества было еще одним способом разрушать границы между личной и профессиональной жизнью, границы, соблюдение которых так мало их заботило» [Engelke 2004a: 33].
Тёрнеры рассматривают паломничество как «специфический тип лиминальности в культурах с идеологическим доминированием “исторических” религий или религий спасения» [Turner E., Turner V. 1978: 3]. Они считают, что «паломничество обеспечивает тщательно организованный (carefully structured) и высоко ценимый путь в мир лиминального, где идеальное ощущается как реальное, где ослабленная (fainted) социальная личность может очиститься и обновиться» [Iidem 1978]. Точнее, они определяют паломничество как явление квазилиминальное, или «лиминоидное», поскольку, хотя оно и похоже на обряды перехода, как их описал ван Геннеп [Геннеп ван 1999], в отличие от, скажем, инициации в туземных обществах оно не является обязательным.
Следует признать, что ничего принципиально нового к сформулированной ранее теории лиминальности работа Тёрнеров не добавляет. Не предлагает она и конкретных примеров анализа паломнической квазилиминальности, и вообще для работы, основанной на длительном полевом наблюдении, она обескураживающе неэтнографична. В книге нет ни анализа интервью с информантами, ни ссылок на полевые дневники, которые, это известно, велись обоими антропологами, ни автоэтнографии, которая в этом случае была бы честной и, наверное, увлекательной для читателя. В истории антропологии эта книга фигурирует как эксперимент, причуда классика. Однако для дальнейших исследований паломничества «Image and Pilgrimage…» сыграла важную роль, так что любой обзор литературы по паломничеству, равно как и исследования в этой области, упоминают эту работу и от нее отталкиваются. Она оказалась своего рода увертюрой, наметившей основные направления интеллектуального поиска в области исследований религиозных путешествий. Назовем некоторые из них: 1) паломничество – это путешествие из профанного центра на сакральную периферию; 2) паломничество – не идеальная модель, а исторический институт; 3) паломничество в большей степени подвержено социальным изменениям, чем кодифицированная литургическая практика; 4) паломничество укоренено в политической географии. Тёрнеры отмечают также, что религия в современном западном обществе переместилась в сферу отдыха и свободного времени, подтверждая тезис о секуляризации западного общества, но удивительным образом игнорируя научную дискуссию на эту тему. Заметим, что важная для дискуссии о секуляризации книга Питера Бергера «Священный покров. Элементы социологической теории религии» была опубликована уже в 1967 г., за 10 лет до выхода «Image and Pilgrimage…» [Berger 1967].
Нельзя сказать, что до Тёрнеров исследованием паломничества совсем не занимались. Саймон Коулман, один из главных современных специалистов по антропологии паломничества, предлагает считать хронологически первой такой работой большую статью французского антрополога Роберта Херца [Coleman 2002: 355]. Студент Дюркгейма, друг и коллега Марселя Мосса, погибший молодым во время Первой мировой войны, Херц успел написать лишь несколько работ, и в их числе исследование культа св. Бессе в альпийской долине Аоста в северозападной Италии, который он изучал в 1911 и 1912 гг. [Hertz 1983; Barth et al. 2005: 191]. Однако, как это было и с ван Геннепом, чья известность пришла спустя полвека после публикации его «Обрядов перехода», работа Херца не оказала большого влияния на его современников. Эта статья попала в поле зрения антопологов спустя 70 лет, когда была опубликована на английском языке в сборнике «Святые и их культы» (1983). Она стимулировала дебаты об устойчивости ритуала в современном европейском обществе[18]18
То же произошло с другими его работами, см., напр.: [Kwon 2013].
[Закрыть]. Британцы Маккланси и Паркин предприняли исследование паломничества к св. Бессе, чтобы доказать, что ритуалы почитания этого святого не изменились. Они обнаружили, что несмотря на серьезные трансформации региона, произошедшие в социально-экономической и демографической сферах, почитание св. Бессе местными жителями и теми бывшими местными, кто приезжает на историческую родину во время каникул и отпусков, продолжается. Следовательно, пишут Маккланси и Паркин, ритуал служит консервации традиции и сам остается неизменным [MacClancy, Parkin 1997]. Их оппоненты, однако, возражали, что приводимые этнографические данные первой половины 1990-х годов показывают обратное тому, что утверждают авторы, а именно что ритуал как раз трансформировался как в деталях (к святыне, например, больше не идут босыми), так и в сущности: многие молодые люди приезжают скорее ради пикника, чем из соображений благочестия [Boissevain 1999].
Вопрос о том, имеет ли исследователь дело с изобретенной, т. е. прерванной, или же, наоборот, сохраненной традицией, часто не может получить убедительного однозначного ответа. В определенном смысле любая традиция становится изобретенной, как только начинает осознаваться как традиция: категория аутентичности предполагает существование дистанции между человеком в его повседневной жизни и тем местом, обычаем и проч., которые он считает подлинными [Сomaroff John, Comaroff Jean 2009: 26]. То же касается и ритуала как квинтэссенции традиции [Байбурин 1990]. Заявление же самих информантов о преемственности наследуемой традиции и неизменности ритуальных практик, как правило, имеет политические смыслы. К этому вопросу мы еще вернемся в других главах книги.
Британский антрополог Саймон Коулман в своем исследовании современного паломничества в Уолсингем (графство Норфолк, Англия) также пытается использовать понятие ритуала. Он отмечает, что эта святыня, история которой восходит к XI столетию, привлекает паломников самых разных религиозных групп, включая англикан, католиков, православных, евангеликов, а также номинальных христиан и даже неверующих. Для описания всего разнообразия ритуальных форм на этом почитаемом месте (и, вероятно, в других местах массового паломничества) он предлагает использовать термин «ритуальные остатки» (ritual remains). Наряду с ритуалами формальными, профессионально исполняемыми религиозными профессионалами, здесь можно обнаружить то, что осталось от традиционного паломнического ритуала после того, как какой-то его аспект исчез [Coleman 2013: 295], причем эти детали могут быть такими невзрачными и размытыми, что существует риск вообще их не заметить. При этом он, следуя антропологической привычке, предлагает воздерживаться от оценочных суждений о таких остатках, не судить их как несовершенное исполнение некоего «правильного» ритуала. Хотя Коулман пишет о центральных и периферийных (он называет их латеральными) ритуальных практиках, он действительно старается не называть первые правильными, а вторые девиантными. Он пишет о том, что «Уолсингем – это место, где происходит ритуальное действо, но также и место, где ритуал катализируется, возникает, которое намекает на него, превращает в едва различимые метонимические цитаты, становится не только строгой последовательностью стадий ритуального действа, но также цепочками ритуальных ассоциаций, который могут связывать с отдаленными временны́ми и пространственными контекстами» [Ibid.: 303]. Так что паломничество все-таки остается ритуальной деятельностью.
Коулман предлагает сместить исследовательский фокус с рассыпающихся ритуальных форм на ритуальный процесс. Анализ ритуального процесса предполагает, как мы увидим на примере русских православных паломников, обсуждение того, как совершить правильное действие, чтобы достичь желаемого результата (например, сделать из обычной поездки паломническую). В этом заключается основной смысл ритуальной магии: в совершении коллективного правильного действия, соответствующего определенному образцу, признаваемому группой [Байбурин 1990; Engelhardt 2014]. Как мы увидим, именно обучения правильному поведению с указанием на источник легитимации этой правильности (Церковь) ожидают от устроителей паломнических туров их клиенты.