Текст книги "Воспоминания и письма"
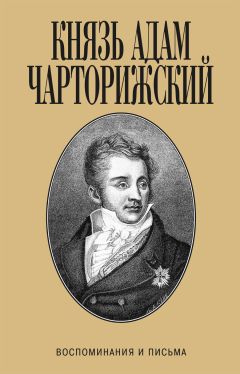
Автор книги: Адам Чарторижский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Мое вынужденное удаление из Польши, от семьи, от места, где находились все мои друзья, положение, которое совершенно не подходило мне и не подавало никаких дальнейших надежд, – все это погрузило меня в состояние какой-то летаргии, которая овладела мной с момента приезда в Петербург, как я уже говорил об этом выше. Самые важные и неожиданные события не могли пробудить меня, вывести из состояния прострации, из этого сонливого безразличия. Это происходило потому, что в течение всей жизни единственным мотивом моих действий всегда было исключительное, преобладающее чувство любви к родине. То, что не служило к благу моей родины или соотечественников, не имело для меня никакой цены. С самых ранних лет я уважал и любил только то, что имело прямое или косвенное отношение к моей стране. Самые ничтожные вещи, когда они касались Польши, возбуждали мой интерес. Я убедился в этом в Варшаве. Там был французский театр, очень порядочный, но для меня – скучный; и наоборот, польский театр, более чем посредственный, сильнее притягивал меня к себе.
Между тем время моего пребывания в Риме было довольно богато событиями. Пий VI, избранный в Венеции, прибыл тогда в священный город, еще содрогавшийся от насилия, учиненного французскими войсками. Помню, как монсеньор Консальви, возведенный в сан кардинала, принимал однажды иностранцев и местных жителей и как русский консул в неумном и неискусном приветствии предсказывал ему тиару. Предсказание, впрочем, никогда не сбылось, и Консальви сам искренно не желал этого. Скажу мимоходом, что в своих официальных донесениях я не щадил французов. Это, по-видимому, очень удивляло Карпова, старшего секретаря посольства, старого русского бюрократа, которому, вероятно, приказали наблюдать за моими поступками. Зная всеобщую привязанность поляков к французам, он почти упрекал меня в суровости моего мнения о них. «Зачем же французы поступают так плохо? – отвечал я. – Они сами виноваты, если о них нельзя сказать ничего хорошего».
Справедливо то, что все люди вообще, будь то французы или нет, много теряют вблизи и сами вредят энтузиазму, который внушается ими издалека. Это применимо даже и к великим людям. К тому же, быть может, из Петербурга все мне казалось слишком уж прекрасным, являлось в слишком блестящих красках, и потому, приблизившись к месту действия, я был сильно обманут в своих ожиданиях.
Вторым событием этого времени была перемена отношений между императором Павлом и Австрией: отношения начали портиться. Причин для этого было несколько. Я назову некоторые, до сих пор малоизвестные. Великая княжна Александра, старшая дочь императора Павла, предназначавшаяся Екатериной в жены шведскому королю, после моего отъезда из Петербурга была выдана замуж за эрцгерцога Иосифа, паладина венгерского. Брак этот был заключен в пору лучших отношений между петербургским и венским дворами, во время военных успехов Суворова. Эрцгерцог тотчас же увез свою прекрасную супругу в столицу Австрии. Отмечу здесь, что великий князь Александр передал мне через эрцгерцога письмо, которое мне вручили в Италии. Это было единственное письмо, полученное мною от него за два года моей миссии при сардинском дворе. В 1812 году мне представился случай вновь увидеться с эрцгерцогом в Офене. Он, по-видимому, вспомнил это обстоятельство и принял меня тогда самым сердечным образом.
Эрцгерцогиня, его супруга, действительно отличалась редкой красотой. Чертами лица она походила на Александра, своего брата, все в ней было изящно; сверх того, она обладала всеми нравственными достоинствами, которые составляют лучшее украшение прекрасного пола. При появлении в Вене она возбудила восхищение, уважение и общий энтузиазм, совершенно не добиваясь этого. Это впечатление, распространившееся во всех классах общества – при дворе и в аристократических салонах, в Пратере, Грабене и на многолюдных улицах Вены, – не нравилось неаполитанке Марии-Терезии, супруге Франца I. Она стала делать своей невестке всякого рода неприятности, и та затосковала по своим родным. Не находя в новой семье ни сочувственного сердца, ни покоя, на каждом шагу перенося притеснения и обиды, эрцгерцогиня в конце концов покинула Вену и уехала с мужем в Офен, где вскоре умерла в полном расцвете лет.
Она была любимой дочерью Павла. Как только он узнал, насколько недостойно обращались с его дочерью в новой семье, то, раздраженный, потребовал дочь обратно и угрожал даже объявлением войны. Смерть эрцгерцогини, устранив войну, погрузила Павла и весь Петербург в глубокий траур. Между тем Австрия, поправив свои дела в Италии, начала относиться к русскому правительству с меньшим уважением. Австрийцы отпустили Суворова, выказав ему очень мало внимания; считая себя уже господами страны, они были рады избавиться от неудобного и гордого союзника. В это же время произошли поражения русских в Голландии и Швейцарии. Все эти обстоятельства охладили отношения Павла с Австрией.
Пользуясь таким положением вещей, Бонапарт поспешил отослать Павлу всех русских военнопленных, заново одев их и щедро снабдив всем необходимым. Это внимание Первого консула растрогало императора. Павел сам объявил своему совету и старался доказать министрам и приближенным, что достаточно уже сделано, достаточно истрачено денег и пролито крови за Австрию, которая отплачивала лишь неблагодарностью. Он восхвалял благородный поступок Бонапарта, видя в нем доказательство того, что тот искренно желает союза с Россией и что к тому же он подавил анархию и демагогию, и, следовательно, нет оснований уклоняться от сближения с ним.
Соглашение с Бонапартом не замедлило осуществиться. Генерал Левашёв был послан в Неаполь в качестве посредника между французским правительством и правительством Обеих Сицилий. Проездом через Рим он вручил мне письмо от графа Растопчина. То было первое письмо, полученное мною от этого министра. Он рекомендовал мне генерала Левашёва и просил быть ему полезным. Я исполнил эту просьбу с сердечным удовольствием, так как генерал не только был хорошим товарищем, но и выказывал по отношению ко мне большую дружбу. Вскоре после этого я получил от графа Растопчина второе послание, в котором он извещал меня, что император, будучи недоволен поведением сардинского двора, желал, чтобы я уехал оттуда под предлогом посещения Неаполя.
Я был в восторге от полученного приказа и немедленно уехал в Неаполь. Двора там не было, царил только кавалер Актон, всемогущий министр, который только что оставил Сицилию, чтобы взять в свои руки управление королевством. Благодаря яркому солнцу и своему местоположению, Неаполь прекрасен всегда, хотя в то время вид его был довольно печален. Дипломатические обязанности исполнял там уже несколько лет Андрей Яковлевич Италинский, посланный потом в Константинополь, а еще позже – в Рим, по происхождению малоросс, бывший врач и хирург. Он был ученым или, по крайней мере, старался стать таковым: изучал археологию и физику (в качестве врача). Умея устраивать собственные дела, он считался человеком, способным вести всякое дело, которое ему могло быть поручено. Надо отдать ему должное, он действительно прекрасно исполнял обыкновенные поручения, но в делах большой важности не проявлял особого таланта, потому ли, что не обладал им, или потому, что счастье ему не улыбалось. Расположением к нему Екатерины он обязан был своему письму о необычайных в то время извержениях Везувия. В конце своих депеш Италинский никогда не упускал случая заметить, что пепел, восемнадцать веков назад поглотивший Помпею, покрывает его бумагу. Кроме того, его карьере помогло и состояние его здоровья; он считал себя умирающим: у него было, кажется, нечто вроде аневризмы, принуждавшей его вести очень правильную и уединенную жизнь, но аневризма эта длилась многие годы.
Неаполитанский двор старался воспользоваться хорошими отношениями, установившимися между Павлом и Бонапартом, и ходатайствовал перед императором, прося его поддержки и посредничества, так как все думали, что после Маренго французы не остановятся, пока не займут весь полуостров. Италинский, поддавшись увещаниям кавалера Актона, отправился во Флоренцию к Мюрату, чтобы выхлопотать некоторые милости для Неаполя, но попытка осталась безуспешной. Это произошло еще до моего отъезда из Рима. Карпов, мой старший секретарь, желая отомстить Италинскому за его насмешки, а также побуждаемый завистью, называл это неудачное путешествие «паломничеством Италинского».
По приезде в Неаполь я попросил Андрея Яковлевича представить меня кавалеру Актону. Мы застали его за столом, покрытым разными старыми исписанными бумагами. Это был худой человек слабого здоровья, со смуглым лицом, впалыми щеками и черными глазами. На всей его фигуре лежали следы разрушительной силы времени: он был сильно сгорблен и постоянно жаловался, что изнемогает под бременем работы и несчастий.
Его считали наиболее любимым фаворитом королевы Каролины, которая неограниченно властвовала над своим мужем и королевством. Все делалось согласно ее желаниям. На официальных бумагах ее подпись ставилась рядом с подписью короля, в доказательство того, что они правят совместно. Она была так же деятельна, как и ее брат, император Иосиф; к тому же ее глаза, осанка, движения – всё, до крикливого, пронзительного голоса включительно, – в достаточной мере доказывали ее предприимчивость. Я видел королеву в Ливорно, когда она высаживалась с парохода, сопровождаемая своими дочерьми. Еще до брака Каролины с Фердинандом Мария-Терезия воспитала в своей дочери любовь к властвованию. Эта любовь впоследствии сделалась страстью Каролины. Была у нее еще и другая страсть – любовники. Рожденная с огненным темпераментом, разожженным климатом Италии, она все же ставила себе в заслугу, что не родила ни одного ребенка, не принадлежавшего Фердинанду. И в самом деле, между детьми и отцом было несчастное сходство, не только в отношении физических качеств, более чем непривлекательных, но также и в отношении характера и качеств моральных. Только одна королева Амалия, по своим редким достоинствам, представляла исключение из этой семьи.
Русское войско, занимавшее тогда Неаполь, находилось под начальством генерала Бороздина, старшего из трех братьев. Был момент, когда возник вопрос о том, чтобы двинуть соединенные силы союзников в Рим и оспаривать у французов победу над Неаполем. Генерал даже сам лично ездил по этому поводу в Рим; но проект этот остался без движения, так как Бороздин не смог столковаться с генералом Роже де Дама, главнокомандующим неаполитанскими войсками, относительно того, кто из них получит командование над соединенными войсками. Это несогласие спасло обоих от неминуемого поражения.
Генерал Бороздин был изящным вельможей Екатерининской эпохи. Он был очень любезен в обществе, но у меня остались некоторые сомнения насчет его военных талантов. Живя в роскошнейшем климате, пользуясь материальными выгодами, доставляемыми правительством, более полагавшимся на русские войска, чем на свои собственные, Бороздин имел в своем распоряжении все то, чего может желать русский, а именно: представительство и удовольствия. Чтобы довершить его радости, судьба послала ему победу, которая была для него приятнее всего.
Простоватый английский консул, только что женившийся на молодой прелестной особе, счел своим долгом бежать из Неаполя, как только узнал о поражении австрийцев при Маренго и победном шествии французов к Флоренции и Неаполю. Чтобы не подвергать свою молодую жену опасностям такого стремительного переезда, он не мог придумать ничего лучшего, как поручить ее заботам русского генерала, с которым близко сошелся. Этот честный англичанин был уверен, что отдал свое сокровище в самые верные руки. Но друг этот не мог победить сильнейшего из искушений и пал под его бременем, быть может, еще раньше, чем принял под свою охрану порученное ему сокровище. По правде сказать, это был поразительно красивый розовый бутон, и Бороздин, с разрешения мужа, для лучшего охранения своей молодой протеже устроил ее в том же доме, где жил сам. Общение было легкое, соблазн был велик. Это злоупотребление доверием, хотя и расцвеченное красивым увлечением, все же оставалось пятном на его совести.
Как только миновала паника, вызванная нашествием французов, консул возвратился, забрал жену и не знал, как благодарить друга за оказанную услугу. Я его видел, это был добродушного вида человек, отнюдь не блиставший умом. Когда я уезжал из Неаполя обратно в Рим, генерал сопровождал меня. Он был очень весел и уже больше не думал о жене консула, которую, вероятно, вскоре и совсем позабыл.
Вдруг, подобно удару грома в летний день, на нас обрушилось известие о смерти Павла. Первым чувством при этой неожиданной вести было удивление, сопровождаемое некоторого рода страхом. Чувства эти скоро сменились радостью. Император Павел никогда не был любим, даже теми, для кого он сделал что-нибудь хорошее. Император был слишком своенравен, и никто не мог на него положиться. Курьер, привезший это известие посольству, имел вид глухонемого: он не отвечал ни на один вопрос и издавал только какие-то непонятные звуки – бедняга находился под впечатлением ужаса и данного ему особого приказа хранить молчание. Он передал мне несколько слов от императора Александра, приказывавшего мне не теряя времени возвратиться в Петербург.
Охотно признаюсь в том, что приказ этот доставил мне великую радость. Италия, без сомнения, прекрасная и во всех отношениях интересная для изучения страна, в особенности для тех, кто приезжает туда, располагая свободным временем. Войны, разорившие тогда эту красивую страну, лишили ее части обаяния, но следы этого разорения сами по себе были интересны для наблюдения. Однако там я был далеко от моей родины, от моей семьи, от всех тех, кого любил; я был одинок и печален. Никогда не умея быстро завязывать знакомства, таким я и остался. Мне всегда требовалось много времени и благоприятные условия, чтобы заставить растаять лед, отделявший меня от известного лица, даже такого, с которым я часто виделся. Насколько дороги мне были мои старые знакомства (правда, малочисленные), настолько мало я чувствовал влечение завязывать новые. Итак, с невыразимым удовольствием я стал готовиться к отъезду, подстрекаемый любопытством. Но я не мог покинуть Неаполь, не побывав на Везувии, в Помпее, Геркулануме, Портичи и т.д. А потому вынужден был наскоро объехать эти места.
Находясь на Везувии, я оступился и стал падать по направлению к кратеру, но прибежал проводник, протянул мне руку, другой рукой уперся в обсыпающийся песок палкой, обитой железом, и сделал след, в который я мог упереться ногой. Этим он спас мне жизнь. Мысль о смерти была в ту минуту очень тяжела для меня. Я возвращался к своим, готовился покончить с вялым существованием и начать действовать, – обстоятельства, казалось, предвещали мне самые счастливые предзнаменования; я сильнее, чем когда бы то ни было, испытывал сладкое чувство любви к жизни. Думаю, у каждого человека бывает подобная минута.
На следующий день после того, как нам было сообщено известие о смерти императора Павла, явился курьер, посланный из Петербурга неаполитанским послом; он привез нам действительное описание трагической катастрофы. Что касается меня, то я не был этим удивлен, так как еще до отъезда из Петербурга знал, что двор замышляет заговор. На самое событие в Неаполе смотрели различно и терялись в предположениях, но общее впечатление сводилось к радости, переходившей даже границы приличия. Через день после прибытия курьера генерал Бороздин устроил бал, на который пригласил все высшее общество. Танцевали всю ночь, и генерал своим примером поощрял эту непристойную веселость. Жена английского консула, одетая в розовое платье, блистала на этом веселом празднике больше, чем когда-либо.
За несколько дней до моего отъезда я был приглашен Италинским к завтраку и встретил у него знаменитого композитора Паизиелло; он играл на фортепиано. Было исполнено несколько чрезвычайно красивых пьес его сочинения. Мои прежние добрые отношения с Александром и вновь полученное от него собственноручное письмо, в котором он приглашал меня как можно скорее вернуться к нему, привлекли ко мне всеобщее усиленное внимание. Таковы люди всегда и всюду, за некоторыми, очень редкими, исключениями.
Настал час отъезда. Я уже сказал, что из Неаполя в Рим ехал в обществе генерала Бороздина. У меня еще сохранилось в памяти то нетерпение, которое он возбуждал во мне, останавливая каждую минуту экипаж, чтобы стрелять птиц, в которых он никогда не попадал.
Вследствие победы при Маренго французская армия продвинулась к южной части Италии. Это доставило мне случай встретить некоторых моих соотечественников и старых знакомых. Генерал Яблоновский, между прочим, приехал навестить меня в Рим; он напомнил мне, как его принимали в Пулавах. Мои теперешние взгляды удивили его: это было не то, что он слышал в Пулавах. Наше положение, какова бы ни была сила наших убеждений, всегда оказывает на нас некоторое влияние; если даже мы в глубине души и остаемся прежними, то по крайней мере внешне кажется, что в нас происходит перемена.
От Рима до Флоренции со мной ехал генерал Левашёв. Это был один из наиболее приятных спутников, неистощимый в рассказывании анекдотов. Он был послан в Неаполь с секретным поручением переговорить о возможности перемирия между воюющими сторонами. Император Павел, отделившийся от коалиции, хотел этим способом избежать всяких упреков. Генерал Левашёв считался как бы путешествующим для своего удовольствия с целью осмотреть Италию. Данные ему инструкции исходили от графа Растопчина, бывшего тогда министром; вскоре после этого, когда Павел не только порвал с Австрией, но еще и объявил войну Англии, думая вступить в самый сердечный союз с Бонапартом, Растопчин удалился в Москву, лишившись своего портфеля. Все это случилось в мое отсутствие; я так и не смог достоверно узнать подробности как миссии Левашёва, так и удаления Растопчина, которое совершилось, несмотря на его дружбу с Кутайсовым.
Как бы там ни было, миссия, возложенная на генерала Левашёва правительством после смерти Павла, не удалась. Французские дипломаты тотчас же догадались, что молодым Александром не так легко будет вертеть, как своенравным Павлом. Надо полагать, что таково было мнение Мюрата. Еще не получив инструкций из Парижа, он уже занял всю Тоскану и все шел вперед; но чем более он сомневался в дружеском сближении Франции и России, тем более показывал вид, что доверяет этой дружбе. Он занял дворец тосканского герцога и угостил там меня и генерала Левашёва превосходным обедом, на который были приглашены все бывшие во Флоренции генералы и известные лица, числом около шестидесяти человек. Нас обоих посадили подле госпожи Мюрат, очень стройной красавицы. Мюрат, сидевший напротив, неустанно заботился о нас и расточал нам любезности за себя и за жену. Он провозгласил тост за русского императора и затем пил за здоровье каждого из нас. Когда во время спектакля генерал вошел в ложу Мюрата, то заметил, что над его головой что-то колышется, – то были концы русских и французских знамен, скрещенных вместе в его честь.
Прежде чем покинуть Италию, я поехал в Ливорно проститься с маршалом Ржевусским и нашел его сильно страдающим. Я встретил там нескольких соотечественников, в том числе Сокольницкого, очень деятельного саперного офицера, с которым я познакомился в Литве во время кампании 1793 года, и Розницкого, с которым мы были вместе в лагере при Голомбе и в стычке при Грани. Оба дружески жали мне руку, с волнением вспоминая прошлое и те события, свидетелями которых мы были. Розницкий сказал мне, что ввел в войсках испробованный при Голомбе прием, который позволял кавалерии наших легионов передвигаться быстрее, чем это могла делать остальная французская кавалерия. Оба они были адъютантами с правами команды, – чин, показывающий, что их считали искусными офицерами.
Со стесненным сердцем оставил я Ржевусского. Знаменитый соотечественник, испытанный друг, достойный гражданин и прекрасный человек, он вскоре умер и был похоронен на Кампо-Санто, в Пизе.
Наконец я уехал. В Вене мне пришлось провести только два дня, я не нашел там никого из моей семьи, кроме двух маленьких сыновей сестры, Владислава и Жана, очень плохо меня принявших. Остановился я только в Пулавах, где обнаружил всю мою семью в сборе, но не мог долго оставаться и там. Мои родители и сестры, против своего желания, сами просили меня поторопиться с отъездом. Нигде не останавливаясь, день и ночь мчался я до самого Петербурга, куда вскоре прибыл и мой брат.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































