Текст книги "Воспоминания и письма"
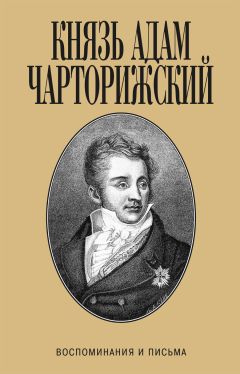
Автор книги: Адам Чарторижский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава II
В Пулавах
В Пулавах для нас началась совершенно новая жизнь. Мы принялись за учение систематически и серьезно. До сих пор наше образование было элементарно и шло с частыми перерывами, но с приездом в Пулавы сделалось почти единственным нашим занятием.
Люиллье, о котором я уже упоминал, преподавал нам математику и всеобщую историю, Цесельский – историю Польши, Княжнин – литературу и латинский. Древние языки вел вначале датчанин по фамилии Шоу, а затем – Гродцек, сделавшийся позже профессором университета в Вильно.
Я теперь точно не помню, в то ли время или позже отец взял нам в гувернеры члена Национального собрания Дюпона де Немура, приобретшего некоторую известность во Франции, где его уважали за характер и нравственные качества.
С ним приехал в качестве секретаря некто де Нуайе, оказавшийся чрезвычайно надоедливым человеком. Он постоянно ухаживал за госпожой Пти, и однажды, когда он постучал к ней в дверь, она, не зная, как от него избавиться, ответила: «Милостивый государь, меня нет дома».
Дюпон оставался у нас недолго, вскоре он возвратился во Францию. Я встретился потом с ним в Париже во время Реставрации. Он явился ко мне в качестве моего бывшего гувернера, но я совершенно его не помнил.
В Пулавах у нас был также учитель фехтования. Каждое утро, как только мы вставали – а вставали мы очень рано, – он давал нам урок в саду, и затем уже мы переходили к другим занятиям.
Кроме занятий, у нас случались и удовольствия, такие как, например, поездки в Конску Волю к Филипповичу, управляющему имениями Пулавы, прогулки верхом, а в особенности – охота по холмам с борзыми собаками. Мы называли эту охоту «идти на холмы» или «идти за холмы в можжевельник». Я страстно любил охотиться, в особенности с борзыми собаками. В лесу подле Яновиц было лисье логовище, и нам доставляло огромное удовольствие выгонять оттуда лисиц гончими собаками.
Мы бывали также у госпожи Пясковской, муж которой, по прозвищу Паралюш, реставрировал дворец Фирлеев в Яновицах и украсил его прекрасной живописью. Я помню его очень хорошо: он был большого роста, говорил присвистывая, славился своей расточительностью и поэтому несколько раз разорялся, но ему всегда удавалось снова разбогатеть. Одной из особенностей его любви к роскоши была страсть к вышитому платью, какое носили в то время; он придумал обшивать платья разными цветами с обеих сторон, чтобы их можно было надевать, выворачивая наизнанку.
Пребывание моего отца в Литве привлекло к нам большое количество уроженцев этой провинции. Между ними были: Тышкевич, Вешгерд, Скуцевич, который впоследствии вел дела моего отца, Гребницкий, Сиген, сопровождавший нас в Подолию, и Сорока, который во время революции 1830 года, несмотря на свои преклонные года, отличился сопротивлением русским и твердостью перед их невероятной жестокостью. Он умер вскоре после этого.
Из Литвы приехало также несколько молодых людей, чтобы получить у нас некоторое воспитание. Их присутствие оживляло Пулавы в свободные от занятий часы. Назову из них Кинбара и Шпинека, которые прожили у нас несколько лет и многому научились.
Вместе с нами учились Франциск Сапега, сын литовского канцлера, порученный моей матери ее сестрой, княгиней Сангушко, и молодой Шимановский. При князе Франциске находился некто Сиплинский, бывший воспитанник кадетского корпуса. Сиплинский походил на Цесельского, но был менее способен. Это был очень добрый и очень религиозный человек. Также в помощь Цесельскому прикомандировали еще одного молодого офицера, только что окончившего кадетский корпус, по фамилии Рембелинский. Это был веселый, остроумный человек, довольно сведущий в математике, он мог бы быть нам очень полезен, если бы мы умели воспользоваться его добрым желанием и готовностью. Но мы пользовались его обществом гораздо больше для развлечений и удовольствий, чем для приобретения необходимых знаний.
Как я уже сказал, мы ежедневно брали уроки фехтования. Летом мы фехтовали в саду. Хотя Рембелинский и привык управлять шпагой еще в кадетском корпусе, все же с ним случилось несчастье: ему повредили глаз. В другой раз, когда он фехтовал со мной, моя шпага пробила его маску на лице и ранила его в рот. Он был ужасно испуган, и первой его мыслью было удостовериться, не пострадал ли и второй глаз. Я не находил слов, чтобы высказать ему свое сожаление по поводу случившегося, чувствовал себя виноватым перед ним и благодарил Бога, что моя неловкость не имела других, более серьезных последствий.
Мы устраивали у себя собрания, вроде сеймов, где обсуждали разные политические вопросы. Я помню, что на одном из таких собраний был поднят вопрос о том, какой образ правления следует признать предпочтительным: свободное ли правление, как этого желали тогда, или централизацию власти. Что касается меня, то я выступил сторонником наибольшей свободы. К моему великому удивлению, Рембелинский высказался в пользу усиления верховной власти. Он говорил так красноречиво, что я не был в состоянии ему ответить, и это было мне очень неприятно. Он меня не убедил, но я был как бы подавлен его доводами.
Не могу обойти молчанием тот факт, что по смерти матери Франциска Сапеги его отец не хотел признать его своим сыном. Княгиня Сангушко на коленях умоляла его не поступать таким образом. Это был прекрасный поступок с ее стороны, но позднее она не получила за него награды.
1786 год. В этом году состоялось мое первое путешествие за границу с Цесельским, которому отец поручил наше воспитание. Цесельскому было предписано лечение карлсбадскими водами. Жена гетмана Огинская, двоюродная сестра моего отца и тетка моей матери, также отправлялась в то время в Карлсбад; ее сопровождала, по тогдашней моде, многочисленная свита. По дороге мы посетили несколько немецких городов, где я встретился со многими выдающимися людьми. Не могу сказать, что «познакомился» с ними, так как мой ум тогда еще был слишком мало развит, но воспоминание о встречах не изгладилось из моей памяти и до сих пор.
Отец пригласил в Пулавы учителя латинского и греческого языков, которого ему порекомендовал знаменитый гетингенский профессор Штейн. Это был молодой датчанин, восхищавшийся, как все те, кто выходит из этого университета, красотами древней литературы. Что касается меня, то, поощряемый Княжниным, преподававшим нам польскую и латинскую литературу, я разделял этот энтузиазм, хотя и немного по-детски, но все же очень искренно. Изо всех сил стараясь понять древних поэтов, я производил впечатление человека, знающего больше, чем на самом деле. Все эти познания я выставлял напоказ перед немецкими учеными, которых встречал во время путешествия. В Праге я познакомился с Мейснером, профессором греческой литературы и автором нескольких произведений на немецком языке. Его известность, в то время очень большая, вероятно, не пережила его. С удовольствием вспоминаю наши беседы с ним, во время которых я, к великому его удивлению, цитировал некоторые отрывки из греческих поэтов.
Проезжая через Готу, благодаря рекомендательному письму отца мы познакомились с бароном Франкенбургом, министром готского герцога. Это был умный, образованный и любезный человек, познакомивший нас с другими знаменитыми и интересными лицами. Снабженные письмом от него, мы отправились в Веймар, на который тогда уже указывали как на Афины Германии. В Веймаре я виделся с Виландом и Гердером, с которыми мой отец состоял в переписке. Меня поразила фигура Виланда, так как в ней не было ничего поэтического: маленького роста, немного толстый, уже пожилой, с лицом, покрытым морщинами, в какой-то похожей на ночной колпак шапочке, которую он редко снимал.
Министр Франкенбург помог нашему знакомству со знаменитым Гете. Мы с Цесельским были даже приглашены на собрание, где Гете, в кругу нескольких друзей, читал только что оконченную им и не появившуюся еще в печати драму «Ифигения в Тавриде». Я с большим восторгом слушал его чтение. Гете был тогда в полном расцвете молодости: высокого роста, с лицом столь же прекрасным, как и величественным, с пронизывающим взглядом, иногда немного презрительным, смотрящий на мир с высоты своего величия, что вызывало улыбку на его красивых губах. Восторг такого молодого человека, как я, он едва заметил: это была дань, к которой он давно привык. Позже Гете сделался министром великого герцога Веймарского и не выказывал такого же презрения к официальным милостям и получению орденов, но он всегда сохранил в выражении своего лица и всей фигуре некоторое величие, что заставляло сравнивать его с Фидиевой статуей Юпитера Олимпийского.
Наконец мы приехали в Карлсбад, где застали Огинскую, присутствие которой очень скрасило наше пребывание в этом городе. Она привезла с собой девиц Седлецких, дочерей ее управляющего, и молодого и очень красивого доктора Киттеля. Ему-то и были поручены заботы о здоровье наших многочисленных дам.
В Карлсбаде было тогда роскошное казино, где собиралось все общество и где почти каждый вечер устраивались танцы. Эти собрания посещала одна очень красивая дама, – имени ее я теперь не припомню. Говорили, что она сумела привлечь внимание императора Леопольда, который был известен своей слабостью к прекрасному полу (он взошел на престол несколько лет спустя). Я был поражен красивыми чертами ее лица и необычайной подвижностью ее фигуры.
Наконец мы возвратились домой и провели зиму 1786– 1787 года частью в Пулавах, частью в Седльце. Занятия в Пулавах шли не очень систематично, но занимались мы с большим рвением. Люиллье давал нам уроки математики и всеобщей истории, Шоу – уроки греческого языка, Княжнин – польского и латыни. Цесельский взял на себя польскую историю и преподавал ее нам по книгам, составленным аббатом Вага; наконец, уроки фехтования мы брали у одного француза. Таким образом были заняты все дни.
Каникулы во время карнавала мы провели в Седльце, где в ту зиму собралось многочисленное и блестящее общество. Не мешает сказать несколько слов о дворе жены гетмана, Огинской, и о ее образе жизни. Она была очень набожна, но между тем ее единственной заботой было занимать и развлекать своих гостей. При ней было много прелестных молодых девушек, принадлежавших к дворянским семьям. К концу ее туалета гости допускались в комнату, где встречались со всеми этими девицами, по очереди приносившими каждая какую-нибудь принадлежность туалета: цветок или ленту, вуаль или чепец. Затем все спускались в залы, где не переставая развлекались.
Огинская очень любила играть в карты, поэтому в Седльце собрались самые известные игроки. Нельзя сказать, чтобы это было похвально, но игра служила нам развлечением на некоторую часть дня. Назову, между прочим, из их числа некоего Дз***, бывшего довольно забавным человеком, а также Влодека, семья которого устроилась в Петербурге. Сын его там выгодно женился и сделался генералом; дочь вышла замуж за весьма известного французского дипломата Ренваля.
По вечерам танцевали и играли в игры с фантами. Летом гуляли в обширном саду, который назывался Александрией, – Огинская устроила его на английский лад; осенью отправлялись на охоту, и хозяйка сама принимала в ней участие.
Короче, в Седльце было очень трудно соскучиться. В результате, конечно, происходила масса романических приключений всякого рода, которых не избежал и я. К примеру, я ночами напролет зачитывался книжками, вскружившими мне голову, тогда как гораздо лучше было бы посвятить это время серьезным занятиям.
Одна из молодых девушек, Мария Незабитовская, сделалась предметом моих воздыханий, о чем я решился дать ей понять, хотя и с большой робостью. Войти в комнату девиц было свыше моих сил, и я часто простаивал у дверей, не смея перешагнуть порога. Наконец мы познакомились ближе, и сундук в комнате девиц сделался обычным местом, на котором я устраивался.
Было очень трудно, будучи в Седльце, избегнуть царившей там моды, и каждый должен был волей-неволей или ухаживать, или влюбиться. У меня было несколько соперников, ибо Незабитовская была одной из самых красивых женщин; природа наделила ее качествами, которыми она выделялась среди других во все время всей своей долгой жизни. В ее честь писали стихи. Мне помнится одно стихотворение, в котором описывали ее характер и которое кончалось словами, изображавшими ее строгое отношение к окружающим. Действительно, трудно было снискать ее расположение, и со своими поклонниками она обращалась с большой суровостью.
Девица Кильчевская также принадлежала к числу красавиц Седльце; неразлучная подруга Незабитовской, она была более представительна, но менее привлекательна.
Несколько случаев заболевания скарлатиной среди девиц заставили мою мать отослать меня из Седльце.
***
Отметим вкратце, что произошло в течение 1787—1795 гг., о которых князь Адам не оставил воспоминаний.
В 1788 г. должны были собраться региональные собрания депутатов, сеймики, для избрания великого сейма, которому приписывали чрезвычайную важность в деле государственных преобразований. Князю Адаму, избранному председателем (маршалом) Подольского сеймика, удалось провести в члены сейма четырех своих кандидатов из числа шести. Остальную часть года он провел в Варшаве, внимательно следя за заседаниями первой сессии сейма.
В 1789 г. князь Адам посетил своих родителей в Пулавах. Он выехал оттуда в сентябре и отправился к сестре, принцессе Вюртембергской, в Бельгард, в Померании, и оттуда вместе с матерью поехал в Англию, где и пробыл несколько недель у лорда-канцлера, маркиза Лендсдоуна, пополняя свое политическое образование изучением английской конституции. В Лондоне ему довелось присутствовать на процессе Варрена-Гастингса. Затем он посетил Шотландию и промышленные города Англии.
Целый год проведя вне родины и возвратясь в Польшу в 1791 г., князь Адам поступил на военную службу под начальство своего зятя, принца Вюртембергского. То был год провозглашения конституции 1791 г., против которой составилась роковая Тарговицкая конфедерация (Конфедерация 3 мая); конституция послужила поводом для нового вторжения русских, приведшего ко второму разделу. В 1792 г., когда русское вторжение уже было объявлено, князь Адам, назначенный на высшую офицерскую должность, принял участие в сражении при Полонне и получил орден из рук короля.
В 1793 г. князь Адам Чарторижский снова приехал в Англию, где завязал многочисленные и важные связи со многими общественными деятелями. Он оставался там и в 1794 г., когда вспыхнуло восстание Костюшко. Получив известие об этом восстании, он тотчас покинул Англию и поспешил на родину, чтобы принять участие в борьбе. На пути в Польшу, при проезде через Брюссель, он был арестован и задержан по распоряжению австрийского правительства. Между тем восстание потопили в крови, и последовал третий раздел Польши.
После этих событий, в которых князь Адам не мог принять участия, он присоединился к родителям в Вене, где при посредстве императора Франца начались переговоры с Екатериной II об отмене конфискации имений Чарторижских: имения были конфискованы ранее по приказанию императрицы. Екатерина поставила условием вступление молодых князей Адама и Константина Чарторижских на русскую службу и их переселение в Петербург. В семье Чарторижских начались обсуждения. Наконец решено было уступить воле императрицы. Два молодых князя отправились в Петербург, и с этого-то момента возобновляются воспоминания князя Адама.
Глава III
Приезд в Петербург
12 мая 1795 года мы с братом приехали в Петербург. Чтобы иметь представление о том, что мы могли чувствовать, переселяясь в эту столицу, нужно знать принципы, в которых мы были воспитаны. Наше воспитание было чисто польским и чисто республиканским. Наши отроческие годы были посвящены изучению истории и литературы, древней и польской. Мы только и грезили, что о греках и римлянах, и мечтали лишь о том, чтобы по примеру наших предков возрождать доблести древних в нашем отечестве.
Что касается свободы, то более близкие к нам примеры, почерпнутые из истории Англии и Франции, дали несколько другое, более правильное направление нашим взглядам на нее, сохранив, однако, всю их внутреннюю силу.
Любовь к отечеству, к его славе, учреждениям и вольностям была привита нам и учением, и всем тем, что мы видели и слышали вокруг себя. К этому надо прибавить непреодолимое отвращение и ненависть ко всем тем, кто способствовал гибели нашего возлюбленного отечества. Я был до такой степени под властью этого двойного чувства любви и ненависти, что при каждой встрече с русским, в Польше или где-либо в другом месте, кровь бросалась мне в голову, я бледнел и краснел, так как каждый русский казался мне виновником несчастий моей родины.
Дела моего отца требовали как можно более быстрого приведения их в порядок. Три четверти его состояния, заключавшегося в поместьях, расположенных в тех провинциях, которые были захвачены русскими, находились под секвестром. Земли эти были заложены; таким же образом пришло в расстройство состояние многих наших соотечественников. Ходатайства австрийского двора за моего отца остались без результата. Екатерина не могла простить моим родителям их патриотизма и их причастности к восстанию Костюшко. «Пусть оба их сына, – заявила она, – явятся ко мне, и тогда мы посмотрим». Она хотела держать нас в качестве заложников.
Итак, наш отъезд в Петербург оказался необходимостью. Отец, такой добрый, такой деликатный, не решался прямо требовать от нас этой жертвы, но именно эта неоценимая доброта взяла верх над всеми нашими соображениями. Можно ли было наших родителей, лишившихся родины, приговаривать еще и к нищете и отнимать у них возможность выполнения своих обязательств перед кредиторами? И мы не колебались ни минуты. Но, разумеется, решение отправиться в Петербург, жить так далеко от всех близких, сделаться в некотором роде пленниками в руках самых ненавистных наших врагов, палачей нашего отечества было в нашем положении самой тяжелой жертвой, которую мы считали себя обязанными принести родительской любви. Ради этого нам приходилось порвать со всеми нашими чувствами, убеждениями, планами, то есть со всем тем, что мы лелеяли в наших заветных мечтах.
Я пылко изливал свое душевное состояние в стихах «Песнь барда», написанных во время пребывания в Гродно. Уезжая из этого города, я отослал рукопись нашему другу Княжнину, и в продолжение многих лет стихи эти перечитывались в моей семье со слезами умиления. Впоследствии я их немного переделал, но затем их время прошло, и они потеряли свою цену.
В декабре месяце 1794 года мы распрощались с родителями, жившими в то время в Вене. Грустно проведя несколько дней в Сеняве, мы пустились в путь, в начале января направившись в Гродно к королю Станиславу-Августу, который находился там под надзором князя Репнина. Там мы до весны ожидали разрешения ехать в Петербург. Императрица отказывала нам в этом разрешении: нам показывали сделанную ее рукой приписку, в которой она объясняла свой отказ тем, что мать наша якобы заставила нас, как некогда Амилькар молодого Аннибала, дать клятву в вечной ненависти к Московскому государству и его государыне.
В те месяцы, что мы провели в Гродно, мы часто бывали у короля и стали свидетелями его скорби и горьких упреков, которые он делал себе в том, что не сумел ни спасти отечество, ни пасть, сражаясь за него. Льстивым речам камергера Вольского не удавалось заглушить этот крик совести. На Пасхе король очень сердечно принял довольно большое количество верных литовцев, явившихся приветствовать его по случаю праздника. Чувства, которые мы переживали в это время, навсегда остались неизменными в глубине нашей души; только внешнее их проявление должно было подвергнуться изменениям, диктовавшимся неизбежной силой событий. Тот же юношеский пыл, который заставлял нас смотреть на жертву, приносимую родительской любви, как на нечто героическое, помогал нам легче переносить справедливо ненавидимое положение, в которое мы были поставлены. О Боже мой, чего не перенесешь, когда молод! Тогда есть сила для борьбы со всеми превратностями судьбы, даже со всеми несчастьями. Новая жизнь, новые впечатления, как бы тяжелы они ни были, именно в силу своей новизны и непривычности, хотя и не меняют ничего в глубине вашей души, в конце концов все же помогают ей развлечься.
Мы были приняты петербургским обществом с большим вниманием и благорасположением. Люди пожилые знали и уважали нашего отца, бывавшего в столице во времена Елизаветы, Петра III и при восшествии на престол Екатерины. Благодаря его рекомендательным письмам мы встретили благосклонный прием. Несправедливость, причиненная нам распоряжениями правительства, вызывала к нам симпатию, которая не должна была оставаться бесплодной, ибо ее проявляли без всяких опасений. Вспоминая теперь предупредительность и внимание, оказанные нам, я нисколько не сомневаюсь, что придворные, которые, собственно говоря, составляли тогда все петербургское общество, были заранее уверены, что хороший прием, оказываемый ими обездоленным полякам, этим питомцам Свободы, совершенно не скомпрометирует их при дворе. Кто знает, быть может, это поведение было им даже предписано.
Через несколько недель мы приобрели много знакомств и ежедневно получали приглашения от представителей высшей аристократии. Обеды, балы, концерты, вечера, любительские спектакли беспрерывно следовали друг за другом. Нас всюду сопровождал Яков Горский, которому отец поручил быть нашим другом и руководителем и помогать своими советами.
Нельзя было выбрать ментора удачнее. Беззаботный, услужливый балагур, веселый, терпимый, любящий пожить и вместе с тем человек испытанной честности, не стеснявшийся сказать в глаза самую горькую правду, – это был именно тот, кто нужен, чтобы держать молодых людей без особенной строгости, но не давая им уклониться от прямого пути. Мы чувствовали себя как нельзя лучше в обществе этого уважаемого человека, и я исполняю только долг совести, выражая ему здесь нашу признательность и нашу скорбь по его неожиданной утрате. При разговоре на французском языке Горский обнаруживал совсем не французский акцент, но это нисколько не смущало его. Все, что он говорил, и все, что делал, носило печать лаконической точности, которая превосходно шла к нему. Всегда с высоко поднятой головой, с гордой походкой и решительной краткостью речи, никогда не выходящей, однако, из границ вежливости, – таков был наш ментор. Хотя многим из тех, кого посещал, Горский выказывал очень мало уважения, он все же пользовался всеобщим расположением, и это, между прочим, ему самому казалось странным и забавным. Любитель хорошо поесть и развлечься, он почти принуждал нас бывать в обществе, от которого нас несколько отдаляли тяжелые переживания, а может быть, отчасти и леность.
Он никогда не терял из виду цели путешествия, самоотверженно предпринятого нами, и никогда не пренебрегал средствами, могущими увенчать его успехом. Побуждал нас делать визиты, предпринимать шаги, удручавшие нас и возбуждавшие в нас отвращение, – одним словом, именно ему главным образом мы обязаны тем, что дело наше удалось и средства, к которым мы прибегали, получили одобрение.
Этот период нашей молодости имел важное и решительное значение для всей последующей жизни, потому что перенесенные внезапно в чужую во всех отношениях среду, противную нашим чувствам, мы видели все наши планы разрушенными, а будущее – измененным или разбитым. Лично мне это время дало глубокие и тяжелые результаты. Несчастья моей родины, моих родных и многих соотечественников, проигрыш правого дела, торжество жестокости и преступления – все это совершенно смешало все мои воззрения. Я начал сомневаться в благости Провидения, везде видел только противоречия, отсутствие смысла; ничто в мире не казалось мне заслуживающим серьезного внимания. Я был охвачен полным скептицизмом и холодным, до отчаяния, равнодушием ко всему. Со мной не один раз и впоследствии повторялись эти припадки отчаяния.
Однако среди этих тяжелых переживаний, когда, не находя ни в чем точки опоры, во всем сомневаясь, я относился ко всему с неизменным презрением, помню, какой-то внутренний голос указывал моему рассудку на добродетель и милосердие как на нечто реальное, в чем невозможно сомневаться, чему присущи реальные достоинства. Эта добросовестная внутренняя борьба спасла меня тогда от пагубного действия беспредельных сомнений. По особой какой-то милости зародыши веры, хотя и очень ослабевшие, все еще коренились в моей душе.
Оказываемое нам внимание и наши развлечения не могли не влиять на умы молодых людей. Развлечения не мешают внутреннему скептицизму, напротив, они могут еще помогать его развитию. Душевные раны не закрывались, но на поверхности нашей духовной жизни кое-что стало изменяться. Мы убедились в справедливости пословицы «не так страшен черт, как его малюют», в особенности тогда, когда он захочет быть любезным; мы поняли, что несправедливо, несмотря на ужасы, проделанные с нами, винить в этом всю нацию, смешивать в одной ненависти всех людей, которые часто не имеют с правительством ничего общего, а суть дела меняется, смотря по положению и условиям, в которых оказываются люди, и, чтобы здраво судить об их поведении в частной жизни, а тем более в жизни общественной, нужно поставить себя на их место и принять во внимание обстоятельства, в которых они находятся. Мало-помалу мы пришли к убеждению, что эти русские, которых мы научились инстинктивно ненавидеть, которых мы причисляли к существам зловредным и кровожадным, с которыми мы избегали всякого общения и не могли даже встречаться без отвращения, – что эти русские более или менее такие же люди, как и все прочие, и между ними есть умные, вежливые, приветливые, а в их кружках можно встретить дам очень любезных и приятных. Оказалось, что можно жить в их обществе, не испытывая чувства отвращения, что даже можно иногда питать к ним дружбу и чувство благодарности.
Все эти мои наблюдения над русскими, не представляющие, конечно, ни для кого ничего нового, я привожу здесь лишь как бы в объяснение того, что мы совершенно не были подготовлены к такому переходу, что, бросаясь так быстро из одной крайности в другую, мы очутились словно в какой-то пропасти, или среди моря, где ввиду невозможности вернуться назад нам приходилось плыть помимо нашей воли; и, будучи молоды, мы заводили опасные знакомства и не избегали сомнительных развлечений.
Петербургское общество было в общем блестяще, оживленно и полно разнообразных оттенков. Во многих домах проводились приемы; иностранных гостей всюду перебивали друг у друга. Дипломатический корпус и французские эмигранты вносили оживление и задавали тон.
Салоны впоследствии хорошо известных в Париже княгини Долгоруковой, жены князя Василия Долгорукова, и княгини Голицыной, жены князя Михаила Голицына, выделялись своей элегантностью. Эти две дамы соперничали умом, красотой и обаятельностью. Ходили слухи, что они обе были предметом страсти князя Потемкина. Несчастным поклонником первой был в это время граф Кобенцель, австрийский посол. Другая держала в своих сетях графа Шуазель-Гуфье, известного в свете по дипломатической миссии в Константинополе и написанной им книге о путешествии в Грецию. Он превратил дом княгини Голицыной в музей изящных искусств, к которым, однако, сама владелица обнаруживала мало вкуса.
Дом Нарышкиных был устроен в совершенно ином роде. Отсутствием порядка и выдержки он походил на старый московско-азиатский дворец. Будучи не под таким строгим надзором, как в других домах, девицы Нарышкины, кажется, принимали ухаживания князя Потемкина. Двери дома были открыты для всех, – бывал кто хотел. Там можно было встретить казаков, татар, черкесов и всякого рода азиатов. Хозяин дома, Лев Нарышкин, веселый, приветливый, добродушный человек, бывший фаворит Петра III, а после того придворный Екатерины, с удовольствием служивший всем ее любимцам и пользовавшийся их расположением, в качестве ее обер-шталмейстера десятки лет разорялся на балы и приемы, но, несмотря на все усилия разориться, никак не мог достигнуть этой цели. Не знаю, удалось ли это его наследникам, у которых были точно такие же наклонности.
Дом Головиных ничем не походил на те, о которых я только что упомянул. У них не было ежедневных вечеров, но вместо этого собирались маленькие кружки избранного общества наподобие тех, которые существовали когда-то в Париже, продолжавшем старые традиции Версаля. Хозяйка дома, дочери которой позже вышли замуж – одна за Фредро, другая за Потоцкого, умная, чуткая, восторженная, была очень талантлива и любила искусства.
Дом Строгановых имел опять-таки свои особенности. Граф, долгое время живший в Париже, усвоил там навыки, которые представляли резкую противоположность его старым московским привычкам. В его доме говорили о Вольтере, Дидро, парижском театре, обсуждали достоинства великих полотен, собранных графом в своем доме. Здесь же накрывался огромный стол, и к обеду являлись без всякого приглашения гости, а прислуживала им целая вереница рабов.
Куракины, Гурьевы и многие другие подражали княгине Долгоруковой; исключение составлял дом княгини Вяземской, который был устроен на собственный образец и принадлежал к особой категории.
Среди видной молодежи особенно выделялись саркастическим умом, который всегда забавляет и привлекает, двое Голицыных, получивших воспитание в Париже. К ним можно еще прибавить и князя Барятинского, воспитывавшегося так же, как и они, за границей. Это трио было ареопагом гостиных. Горе было тому, кто попадал им на зубок: бедный простачок, на которого они обрушивались, скоро становился в глазах всех полным глупцом. К ним иногда присоединялся и граф Татищев, будущий посол в Вене, он был немного старше их.
Я не хочу останавливаться на подробном описании петербургского общества, мне предстоит говорить о более серьезных вещах. Чтобы покончить с этой темой, прибавлю только, что тогдашнее общество, как, вероятно, это продолжается и в настоящее время, представляло не что иное, как отражение двора. Его можно было бы сравнить с преддверием храма, где все присутствующие не слышат и не видят ничего, кроме того божества, перед которым воскуряется фимиам.
Всякий разговор кончался всегда новостями, касающимися двора. Что там сказали? Что там сделали? Что думают делать? Вся жизненная энергия шла только оттуда. Это, конечно, лишало общество его собственной жизни, и все же оно казалось оживленным и радостным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































