Текст книги "Воспоминания и письма"
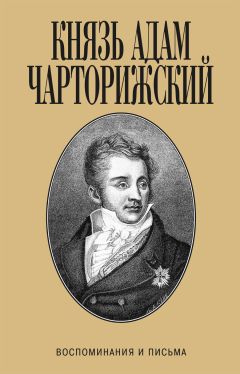
Автор книги: Адам Чарторижский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Коронационные церемонии продолжались несколько дней. Император с семейством остановился на одну ночь за городской заставой, и на следующий день, в сопровождении огромного кортежа, они торжественно въехали в Кремль. Здесь у собора митрополит Московский Платон, считавшийся самым умным и самым ученым иерархом Русской церкви, приветствовал императора текстами из Священного Писания. Затем совершился обряд коронования, после чего все возвратились во дворец с такой же торжественностью; наконец, состоялся царский банкет, во время которого императору, императрице и их семье, находившимся на эстраде под великолепным балдахином, прислуживали высшие сановники.
В течение нескольких дней происходили небольшие торжества, которые я помню не особенно ясно. Император умножал их число: он страстно любил их и думал, что в обстановке торжеств он больше выделяется своей фигурой и хорошими манерами. Как только он появлялся в публике, то начинал идти размеренным шагом, напоминая героя античной трагедии, и старался выпрямлять свою маленькую фигурку, но едва лишь входил в свои апартаменты, как тотчас принимал свою обычную походку, выдавая этим усталость от необходимости казаться величественным и внушительно-изящным.
Публичным церемониям предшествовали генеральные репетиции: каждый должен был знать свое место и предназначенную ему роль. Мы с братом, в качестве адъютантов великих князей, присутствовали при этих репетициях. Император, можно сказать, подобно деятельному, думающему обо всем импресарио, сам занимался постановкой сцен и обнаруживал при этом известное кокетство, желая показать себя перед дамами в более выгодном свете.
Император приказал польскому королю следовать за ним в Москву и потребовал его присутствия на всех торжествах коронования. Королю пришлось следовать за блестящим кортежем, окружавшим императора и его семейство. Когда во время необычайно длинных церковных служб и обрядов, предшествовавших коронованию, измученный за день Станислав-Август сел на предназначенное для него на трибуне место, император, заметив это, послал сказать, что он должен встать и стоять все время, пока они будут в церкви, чему бедный король поспешил повиноваться.
После окончания коронационных торжеств император с семьей переехал из Кремля в другой дворец, более обширный, называвшийся Петровским и находившийся в другой части города. Остальные дни, проведенные в Москве, были посвящены празднествам, парадам и военным упражнениям. Устроены были иллюминации и народное угощение, наподобие того, как это делалось в Петербурге. Дворяне дали в честь императора бал – в обширном помещении, где они собирались постоянно. Праздники эти оказались совсем не веселы и не удовлетворили ни ту, ни другую сторону. Они все время были более утомительны, чем приятны, и все гораздо более радовались их окончанию, чем возможности на них присутствовать.
Многочисленные депутации, присланные от всех губерний империи, получили приказ явиться для представления императору и принесения присяги. Депутаты польских провинций имели при этом очень удрученный и смущенный вид. Всё это были граждане свободной Польши, лица известные в своих воеводствах; многие выдвинулись на последнем сейме или занимали государственные должности. Они видели своего низложенного короля печально сидящим на трибуне и проходили мимо него, чтобы на коленях принести присягу чужеземному государю, властелину их отечества. Я с грустью увидел некоторых своих знакомых и не мог порадоваться нашей встрече, поскольку был поражен происшедшей в них переменой. На них лежал отпечаток смущения, страха, чего-то вроде упадка моральной силы, чувства унижения, постоянно испытываемого ими.
Среди литовских депутатов я встретил Букатого, занимавшего в продолжение нескольких лет в Англии пост посланника короля и республики. Это был простой в обращении человек с большим здравым смыслом, он приобрел уважение англичан и их правительства. Я с матерью часто обедал у него раньше в Лондоне. Тогда он был полным и здоровым, чему немало способствовал портер; настроение у него было всегда веселое. Теперь я нашел его похудевшим, с бледными, впалыми щеками; платье, ранее едва облегавшее его полноту, привезенное им, видимо, еще из Англии или сделанное по тому же покрою, теперь падало складками на его исхудавшем теле. Он шел пошатываясь, с опущенной головой. Это был как бы образ того, во что превратилась Польша. Ни одного слова утешения или радости нельзя было от него услышать. Мы пожали друг другу руки на прощание, и он вскоре по возвращении из Москвы умер в своей провинции, в Минске.
Смерть Екатерины и восшествие на престол императора Павла, приближавшее к трону великого князя Александра, ни в чем до сих пор не изменили его политических взглядов. Напротив, все, что произошло со времени этих событий, казалось, утвердило князя в его мнениях, личных желаниях и решениях, в осуществимость которых он верил. Когда у него оставалось несколько свободных минут после утомительных занятий по военной службе, которым он отдавался с жаром, так как любил их и желал выполнить как можно лучше волю своего отца, внушавшего ему постоянный страх, – он всегда говорил мне о своих планах и о будущем, которое он хотел приготовить России. То причудливый, то пугающий, а иногда и жестокий деспотизм отца, последствия этого деспотизма, как немедленные, так и те, которых надо было бояться в будущем, производили сильное и тяжелое впечатление на благородную душу великого князя, преисполненного мыслями о свободе и справедливости. В то же время его ужасали огромные трудности его положения, которые ему суждено было испытать в ближайшем времени. Предстоявший обряд коронования и все связанные с ним торжества, совершенно противоречившие его тогдашним принципам и природным наклонностям, вызывали в нем усиленный дух протеста.
Мы с братом добились трехмесячного отпуска и собирались уехать из Москвы прямо в Польшу к нашим родителям. Великий князь был опечален и обеспокоен тем, что близ него не останется никого, кто бы его понимал и кому он мог бы довериться. Беспокойство его усиливалось по мере того, как приближалось время нашего отъезда и разлуки на несколько месяцев. Наконец он попросил меня составить ему проект манифеста, которым он желал бы объявить свою волю в тот момент, когда верховная власть перейдет к нему. Напрасно я отказывался от этого: он не оставил меня в покое до тех пор, пока я не согласился изложить на бумаге мысли, беспрестанно его занимавшие.
Итак, я хотя и наскоро, но как только мог лучше составил проект манифеста. Это был ряд рассуждений, в которых я излагал неудобства государственного порядка, существовавшего до сих пор в России, и все преимущества того устройства, которое хотел дать ей Александр; разъяснялись блага свободы и справедливости, которыми она будет наслаждаться после того, как будут удалены преграды, мешающие ее благоденствию; затем провозглашалось решение Александра по выполнении этой великой задачи сложить с себя власть, чтобы явилась возможность призвать к делу того, кто будет признан более достойным пользоваться властью.
Нет надобности говорить, как мало эти прекрасные рассуждения и фразы, которые я старался связать как можно лучше, были применимы к действительному положению вещей. Александр был в восторге от моей работы; она соответствовала его тогдашней фантазии, очень благородной, но в сущности и очень эгоистичной: желая создать счастье своего отечества так, как оно ему тогда представлялось, он хотел в то же время оставить за собой возможность отстраниться от власти и положения, которые его страшили и были ему не по душе, и устроить себе спокойную и приятную уединенную жизнь, откуда он в часы досуга мог бы издали наслаждаться совершенным им добрым делом. Александр, очень довольный, спрятал бумагу в карман и горячо поблагодарил меня за работу. Это успокоило его относительно будущего: ему казалось, что с этой бумагой в кармане он уже подготовлен к событиям, которые судьба могла неожиданно послать ему, – странное и почти невероятное влияние иллюзий и мечтаний, которыми убаюкивает себя молодость, даже когда душа очень рано расхолаживается внушениями опыта. Я не знаю дальнейшей судьбы этой бумаги. Думаю, что Александр никому ее не показывал, со мной же он больше никогда о ней не заговаривал. Думаю, он ее сжег, поняв безрассудство этого документа. Работая над его составлением, я ни на минуту не сомневался в его бесцельности.
В то время как мы занимались этими мечтательными проектами, одно новое обстоятельство придало намерениям великого князя более практический характер. После приезда в Петербург чаще всего я бывал в доме графа Строганова и как бы вошел в их семью. Дружба и любовь, выказанные по отношению ко мне старым графом, оставили во мне воспоминание, которое всегда будет мне дорого и к которому я мысленно возвращаюсь с чувством большой благодарности. Я близко сошелся, как это бывает между молодыми людьми почти одних лет, с его сыном, графом Павлом Строгановым, и с его другом Новосильцовым, воспитанником и любимцем семьи, приходившимся им дальним родственником. Молодая графиня была чрезвычайно изящна, добра, умна и любезна; не будучи очень красивой, она обладала более ценным, чем красота, даром нравиться, очаровывать всех, кто ее знал.
Граф Строганов долго жил в Париже при Людовике XV. Он желал, как и большая часть русских бар, чтобы сына его воспитывал француз, и даже отправил сына во Францию с его наставником Роммом; мне говорили, что это был умный и добрый человек, восторженный поклонник Жан-Жака Руссо; он намеревался сделать из своего ученика Эмиля. Старый граф, человек с благородными наклонностями и любящим сердцем, склонялся на сторону некоторых учений женевского философа и ничего не имел против этого плана. Поэтому граф Павел был предоставлен своему воспитателю, который заставлял его путешествовать пешком и старался дать ему воспитание, по-видимому, чересчур уж точно согласованное с заповедями Руссо. Когда вспыхнула Французская революция, с гордостью объявлявшая себя следствием проповеди того же философа, Ромм отдался ей всей душой и хотел соединить долг гражданина с обязанностями по отношению к своему ученику. Представился ряд случаев на деле показать осуществление тех идей, которые он старался привить ему в теории. Ромм поспешил дать своему воспитаннику возможность принять участие в собраниях и революционных сценах, которые следовали тогда во Франции одна за другой с устрашающей стремительностью. Гувернер и ученик скоро присоединились к клубу якобинцев и регулярно посещали их заседания.
Старый граф был извещен обо всем этом русским посольством, находившимся еще в Париже; думаю, ему писал об этом и сам Ромм, который воображал, что всего лучше завершит взятую на себя задачу, предоставив ученику возможность участвовать в практическом применении своих идей.
Во Францию отправили Новосильцова, с тем чтобы он вырвал своего молодого друга из рук учителя, рвение которого становилось чересчур опасным. Новосильцов справился со своим поручением весьма искусно. Он сумел преодолеть сопротивление Ромма и жалобы последнего на то, что хотят разлучить двух друзей, так хорошо понимающих друг друга. Новосильцов принудил молодого графа отрешиться от привязанности, которую внушил ему к себе гувернер, и привез его обратно к отцу. Вернувшись в Петербург, молодой граф понял, какому риску подвергался. Его взгляды совершенно изменились, хотя он навсегда сохранил в своем характере и нравственных воззрениях некоторые черты, привитые первоначальным воспитанием.
В доме Строгановых всегда господствовал так называемый либеральный и немного фрондирующий тон: там охотно злословили относительно того, что происходило при дворе. Несмотря на это, императрица Екатерина хорошо относилась к старому графу. Она любила в нем человека, посещавшего ее старых друзей, энциклопедистов, и бывшего не чуждым всему тому, что происходило и говорилось в их среде. Это давало ему возможность по временам высказываться откровенно о самой императрице, даже в ее присутствии. Он мне часто рассказывал, что, имея право присутствовать при туалетах императрицы, куда допускались, по старому обычаю, лишь самые знатные придворные вельможи, он находился там и в тот день, когда государыня готовилась принять на аудиенции депутацию Тарговицкой конфедерации. Депутация эта явилась, чтобы выразить ей благодарность за «отменные благодеяния», которые она излила на Польшу (лишив ее Конституции 3 мая, навязав старые анархические порядки и вскоре за тем похитив вторым разделом лучшие польские провинции). Когда о прибытии депутации доложили и императрица собралась выйти в Тронную залу, чтобы благосклонно выслушать приветственные речи, граф Строганов засмеялся и сказал: «Ваше Величество не будете затруднены ответом на красноречивые благодарности этих господ; вы как раз имеете подходящий случай сказать им: “Право, не стоит благодарности”». Шутка эта не понравилась императрице. Она холодно промолчала и вышла принять изъявления почтения и благодарности, нелепость которых, вероятно, чувствовала и сама. Монархи должны были бы избавлять тех, кого они угнетают, от необходимости говорить ложь, которая никого не может обмануть.
Услуга, которую Новосильцов оказал семье Строгановых, привезя в Россию молодого графа, еще больше укрепила чувства отца и сына по отношению к нему. Он был советчиком в семье, почти распорядителем, при всяких обстоятельствах; он гордился тем, что имел независимый характер, поступал сообразно с раз уже принятыми взглядами, никогда им не изменял и не переносил никакого несправедливого принуждения. Был назначен адъютантом к принцу Нассаускому, когда тому было поручено командование русской флотилией против шведов, и состоял при нем также при осаде Варшавы в 1794 году. Он считал, что заслужил Георгиевский крест, и с негодованием отверг орден Владимира, которым наградила его императрица. Он упорно хотел отослать орден обратно, и только с большим трудом удалось успокоить его, представляя все опасности, которым он подвергал себя таким вызывающим поступком. Наконец Новосильцов согласился носить свой Владимирский крест, но только после того, как к нему прибавили еще бант, означавший, что орден получен в награду за военные подвиги.
Новосильцов был умен, проницателен, обладал большой способностью к работе, парализовавшейся только чрезвычайной любовью к чувственным удовольствиям, что не мешало ему много читать, успешно изучать состояние промышленности и приобрести основательные знания в области законоведения и политической экономии. Наряду с изучением этих наук он предавался поверхностному философствованию о многих вещах, стремясь быть свободным от всяких предрассудков, что, однако, нисколько не вредило благородству его характера.
Эти качества его души с еще большей силой отражались, как в зеркале, в молодом Строганове. Их взгляды, чувства носили отпечаток справедливости, искренности, европейского просвещения, неизвестного в то время в России; я не устоял перед этим, и между нами возникли тесная дружба и взаимное доверие, о чем я уже говорил раньше. Они часто расспрашивали меня о великом князе. Я считал себя вправе, соблюдая некоторую осторожность, доверить им часть признаний, сделанных мне великим князем, а также и его благородные намерения. Они поняли чрезвычайно важное значение того, что я им сообщил.
Я рассказал великому князю о моих друзьях. Граф Павел уже раньше привлекал его внимание; я сообщил великому князю, что убеждения этих людей сходятся с его убеждениями, что можно положиться на их чувства и их скромность, что они желали бы видеть его частным образом, предложить свои услуги и выяснить, как действовать в будущем, чтобы пойти навстречу его благородным побуждениям. Великий князь согласился приобщить их к своей тайне и сделать соучастниками своих замыслов. Это сближение началось в Петербурге, после восшествия на престол императора Павла, но завершилось только в Москве, во время коронации. Было условлено собраться в определенный день и час в каком-нибудь малозаметном месте, куда придет и великий князь.
Новосильцов приготовился к совещанию. Он перевел на русский язык отрывок из одного французского сочинения, название которого я не могу вспомнить, где как раз речь шла о советах, данных одному молодому князю, которому предстояло взойти на престол и который желал узнать, как лучше можно было бы осчастливить свое государство.
Записка Новосильцова представляла собой лишь введение, в котором вопрос рассматривался в самой общей форме, без подробного и основательного разбора отдельных отраслей управления. Этот пробел предстояло пополнить в следующей записке, но она так и не была составлена. Между тем этот общий и беглый набросок обязанностей главы государства и тех трудов, которые должны занимать его, был выслушан великим князем с вниманием и удовольствием. Это были хорошо составленные краткие обзоры и общие схемы, могущие лечь в основу благополучия народов, с очерком необходимых для того мероприятий. Автор включил сюда красноречивые обращения к благородному и патриотическому сердцу монарха. Новосильцов писал изящным русским языком; его стиль был ясен и казался мне гармоничным. Великий князь осыпал его похвалами и уверил его, а также и графа Павла, что разделяет принципы, высказанные в этой статье, и что эти принципы вполне соответствуют его собственным убеждениям. Он уговаривал Новосильцова поработать над этим произведением, окончить его и отдать ему, чтобы он мог лучше обдумать его содержание и когда-нибудь осуществить на практике эти теоретические предположения. С этого дня молодой граф и Новосильцов стали делить доверие, оказанное мне великим князем, и были допущены к участию в нашем союзе, долго остававшемся в тайне, что привело впоследствии к серьезным результатам.
Результаты эти и даже само посвящение в проекты великого князя двух ревностных русских патриотов должны были уничтожить одну за другой иллюзии наших первых грез, таких обольстительных: для меня – потому что с ними соединялись надежды на независимость моего отечества, для великого князя – потому что эти грезы навевали на него мечту о возможности устроить для себя уединенное и покойное существование. Мечты эти все же не были покинуты сразу. Они держались вопреки действительности, уничтожавшей их капля за каплей. Великий князь часто возвращался к ним, искал в них утешения от перспектив того близкого будущего, тяжесть которого вполне сознавал.
Двое новых друзей заметили склонность великого князя к спокойной жизни, не обремененной теми заботами, которые должно наложить на него принятие короны. Они не без основания говорили, что это не способствовало бы ни его славе, ни интересам страны, счастье которой ему будет доверено и должно составить его единственную цель. Они при всяком удобном случае восставали против этой эгоистической наклонности, делая вид, что ничего не знают о его намерениях. Я же выслушивал желания великого князя сочувственно, потому что они были для меня понятны. Я не мог порицать их всецело, хотя и не скрывал от него того, что многое в них представлялось мне неосуществимым. Результатом этого было его большее доверие ко мне, долго державшееся, с различными колебаниями, на воспоминании о нашей первой дружбе и прекратившееся только после моего отъезда из Петербурга.
На нашем совещании во время коронации было решено, что Новосильцов, бывший на дурном счету из-за взглядов, в которых его подозревали, и из-за своего слишком свободного поведения, оставит Россию на время царствования Павла или до тех пор, когда его можно будет вызвать обратно, и отправится в Англию. Великий князь достал ему паспорт через Растопчина, который заведовал тогда военными делами и начинал укреплять свое влияние при императоре Павле.
Растопчин был одним из усердных посетителей Гатчины и Павловска до восшествия на престол Павла I. Это был, я думаю, единственный умный человек, привязавшийся к Павлу до его воцарения. Великий князь Александр, преданный отцу в царствование Екатерины, выделил графа Растопчина среди других, почувствовав к нему уважение и дружбу. Придворные интриги потом все это изменили, и между ними установились холодность и несогласие; но в этот момент они еще поддерживали прежние хорошие отношения.
Кроме того, Растопчин был также в прекрасных отношениях и с Новосильцовым, так как оба они принадлежали к числу фрондеров. По просьбе великого князя Растопчин обещал ему достать для Новосильцова паспорт. Между тем, когда перед отъездом из Москвы я пришел от имени великого князя напомнить ему о его обещании, он выразил нетерпение и подозрение относительно важного, как он говорил, политического значения, которое, казалось, придавали этому путешествию. Тем не менее Новосильцов наконец получил свой паспорт и уехал в Петербург, откуда затем отправился в Англию. За время пребывания в этой стране, в течение всего царствования Павла, он усовершенствовался в познаниях, которые приобрел раньше, и, хорошо принятый графом Воронцовым, русским послом в Англии, завязал знакомства, которые вскоре оказались для него полезными.
Получив трехмесячный отпуск, мы с братом и с добрым Горским уехали в Пулавы, где нас нетерпеливо ждали наши родители после двухлетнего отсутствия, стоившего им стольких беспокойств и забот. Сладки были часы, проведенные с ними в местах, где протекла наша счастливая юность. Но перспектива близкого отъезда омрачала наше счастье, а заботы о Петербурге мешали наслаждаться им вполне. Наши головы были полны мыслями о великом князе, о надеждах, которые подавали нам наши взаимные отношения. Родители слушали наши признания и радостные рассказы с удивлением и беспокойством, сомневаясь в основательности столь заманчивых надежд. В Пулавах я получил от великого князя несколько писем, полных выражения дружбы; они были переданы мне при разных удобных случаях, между прочим – через паладина эрцгерцога, только что вступившего в брак с великой княжной Александрой. Это способствовало тому, что значительно позднее, в 1812 году, проезжая через Пешт, я встретил милостивый прием с его стороны.
Отец, слушая наши рассказы, сравнивал теперешний Петербург с тем, каким он был, когда отец приезжал к русскому двору при Елизавете, а Петр III был еще великим князем, или же в первые годы царствования Екатерины II. Мать же больше беспокоилась о нашей безопасности. Она боялась, чтобы на нас не донесли, не открыли цели наших сношений с великим князем, – вокруг этого крутились все разговоры. Во время нашего пребывания в Пулавах несколько раз распространялись благоприятные для Польши слухи, но держались всего по нескольку дней ввиду их невероятности. С жадностью встречаемые каждый раз польским обществом, они порождали затем необычайное уныние и упадок духа.
Губернатор Галиции граф Эрдели приезжал в это время отдать визит моему отцу. Венгр по происхождению, он был увлечен одной мыслью, о которой постоянно твердил. Ему хотелось убедить поляков в том, что для них было бы всего выгоднее присоединиться к Венгрии, потому что австрийский император если и заставил уважать свои притязания на Галицию, то лишь в качестве венгерского короля. Такая речь в устах высшего должностного лица Австрии доказывала, как еще силен был в то время мадьяризм. Присоединение к Венгрии, если бы оно было возможно, принесло бы, без сомнения, Галиции большие материальные выгоды, дало бы ей возможность наслаждаться свободным режимом, а главным образом – предохранило бы от многих бед за последовавшие затем пятьдесят лет, до 1848 года. Что могло дать нам присоединение в то время? Трудно было предвидеть это. Во всяком случае, поляки легко сошлись бы с венграми. Между тем общественное мнение и национальный польский дух, вероятно, восстали бы против этой меры, которая к тому же, как я думаю, никогда не была бы разрешена австрийским правительством.
Пулавы тогда только что перенесли двойной разгром, совершенный над ними во время борьбы с Костюшко: первый – под началом графа Бибикова, отозвавшийся главным образом на жителях деревни, второй – обрушившийся преимущественно на замок, – был произведен авангардом отряда, находившегося под командой графа Валериана Зубова. Замок был совершенно разгромлен. Изломали и разбили все, что украшало его. Драгоценные картины оказались изрезаны в куски, книги из библиотеки расхищены и разбросаны; пощажена была только главная зала замка, потому что роскошные золотые украшения стен и потолка и рисунки Буше над дверями вызвали у казаков предположение, что это часовня. Домашняя провизия – масло, сахар, кофе, спиртные напитки, лимоны, копченое мясо и проч. и проч., – все это было брошено кучей в бассейн, украшавший середину двора, и казаки купались в нем. Когда мы приехали, еще продолжали очистку развалин, возведение новых стен и испорченных заборов, восстановление библиотеки. Наши родители, возвратившись в свое жилище, с трудом могли найти несколько комнат, в которых можно было бы поселиться. Когда мы уехали из Пулав, работы по очистке и починке далеко еще не были закончены.
В то время мы лишились нашего доброго Горского, умершего от апоплексического удара. Я нашел его однажды утром без движения, с затрудненной речью. Позвали хирурга, хорошего врача, сделавшего ему кровопускание, уложили больного в постель. Доктора Гольца не было дома; он прибежал вскоре, но не мог спасти больного. Горский больше не приходил в полное сознание, он бессвязно говорил все время и жаловался только на головную боль. Меня он узнавал и улыбался, и я с благодарностью вспоминаю эту улыбку. Сам я не отходил от него. Он умер в тот же день поздно вечером, испустив дух без страданий, как мех, из которого выпустили воздух.
Я очень горевал о нем. Это был действительно благородный человек, носивший в сердце только справедливость и прямоту. Он часто говорил, что желал бы недолгой, но хорошей жизни, и это желание его было исполнено с совершенной точностью.
Наступил конец трехмесячного отпуска, и мы вынуждены были возвратиться в Петербург. Уезжали с тяжелым сердцем, расставаясь с родителями и родным кровом, но все же нам было интересно вновь встретить великого князя и возобновить наши отношения с ним. Письма, которые я получал от него во время нашего пребывания в Пулавах, доказывали, если только в этом могло быть какое-нибудь сомнение, что он не думал меняться. Действительно, мы нашли его все тем же, и по чувствам, и по взглядам.
В конце 1797 года порывистость и странность мероприятий императора Павла, волновавших жизнь дворца и всего двора, сменились как будто большим спокойствием, которое, казалось, обещало продержаться некоторое время.
Император Павел, еще будучи великим князем, во время своего пребывания в Павловске и Гатчине был влюблен в Нелидову, фрейлину великой княгини, его жены. Это чувство, совершенно платоническое, не прекратилось и после его восшествия на престол. Нелидова, с ее незаурядным умом и добрым сердцем, в конце концов завладела любовью и доверием императрицы, тем более что в наружности этой девицы не было ничего, что могло бы тревожить Марию, которая отличалась высоким ростом, хорошим цветом лица и прекрасной наружностью, тогда как ее предполагаемая соперница была лишена и видной фигуры, и приятного цвета лица, и красивой физиономии. Вся ее привлекательность состояла в смеющемся взгляде и бойкой речи. Эти две женщины протянули друг другу руки и сошлись во всем. Результатом этого было уменьшение неожиданных перемен и беспорядка в поведении и поступках императора, большая осмотрительность при выборе лиц, большее благоразумие, последовательность и устойчивость в политике, чего он ранее не проявлял. К несчастью, император Павел недолго подчинялся этому благотворному влиянию.
По возвращении с коронации двор поселился в Гатчине, где император Павел любил проводить осень. Еще грустнее казались там осенние дни, вообще столь унылые в России, когда небо вечно покрыто тучами, солнце едва показывается в течение трех месяцев, беспрерывно идет дождь, и холод чувствуется острее, пронзительнее и еще неприятнее, чем зимою. Дружба и необычайное доверие, выказываемое нам великим князем Александром, и короткость, которую разрешали нам по отношению к себе оба брата, вознаграждали нас вполне за скуку и грустное пребывание в Гатчине и не позволяли нам жаловаться.
Помню, мне часто приходилось вести с великим князем Константином очень запальчивые споры, в которых я не уступал ему ни в словах, ни в жестах до такой степени, что однажды мы даже подрались и вместе упали наземь. Я думаю, что именно эти воспоминания побуждали великого князя постоянно щадить меня до известной степени, когда он уже всесильно господствовал в Польше и был очень раздражен против меня. То были для него воспоминания школьных лет, какие бывают у всякого, и они-то служили мне защитой от более тяжелых проявлений его гнева. Как я уже упоминал, великий князь Константин, из подражания своему старшему брату, хотел привязать к себе моего брата. У них установились отношения, похожие на мою близость к Александру, но положение моего брата было гораздо менее приятно, нежели мое, по причине невыносимого характера Константина; тем не менее благодаря этому мы получали возможность всегда быть вместе. Кроме того, во время пребывания в Гатчине мы сошлись с бароном Винцингероде, молодым офицером, очень сердечным, любимцем принцев Саксен-Кобургских, – он состоял адъютантом при великом князе Константине. Эта искренняя дружба никогда не нарушалась и продолжалась до смерти барона.
К концу осени двор переехал в Петербург, чтобы провести там зиму 1797—1798 года. За все время моего пребывания в России двор был единственным любопытным зрелищем, доступным моим наблюдениям, и потому мне приходится говорить только о дворе.
Наш король Станислав-Август по возвращении из Москвы был помещен со своей свитой, если не ошибаюсь, во дворце, называвшемся Мраморным, и содержался роскошно на правительственный счет. С ним жила его племянница графиня Мнишек с мужем. У него были свои камергеры, между которыми находился Трембецкий, так прославившийся у нас своими прекрасными стихотворениями. Должность маршала двора временно исполнялась полковником Вицким, верным другом нашей семьи, бывшим перед тем капитаном в Литовской гвардии. Тут был и доктор Беклер, спасший мне жизнь в детстве и состоявший при дворе доктором. Мы часто отправлялись засвидетельствовать свое почтение королю, и он во всякое время с удовольствием принимал нас. Я несколько раз видел его по утрам, когда, еще непричесанный, в халате, он был, как говорили, занят писанием своих мемуаров. Неизвестно, что сталось с этими мемуарами, которые должны были быть очень объемисты. Я достал только описание того времени, когда он был послом в России, при Августе III. Остальные тома, гораздо более интересные, были так хорошо спрятаны или уничтожены, что от них не осталось, сколько мне известно, никаких следов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































