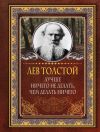Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Возвращение
Неухоженную голову разглядела, а то, что отец горбатым стал – нет. Скорей всего бабушка поработать успела, предупредила. Но ребёнок есть ребёнок, должно было с язычка сорваться… А может, я переоцениваю свой «Эверест» за спиной, слишком мнительный стал, а сторонний человек, быть может, и не замечает?
Всеми правдами и неправдами продержали меня в больнице ещё пятнадцать дней. Если точно – четырнадцать суток и десять с половиной часов.
Покинул больничный городок самостоятельно, без сопровождающего – запропастившегося Грача, пешочком по хрусткому снежку. От обилия солнца и блеска слёзы горохом… На душе, как на улице, ни ветерка, тихо, светло, будто только что родился и вот потопал тихонечко навстречу сплошному добру и благодати, а не к переполненному маршрутному автобусу.
Сперва к маме.
Но первой, кого встретил из знакомых на свободе, была моя пропавшая массажистка. Я огибал палисадник, а она с мужем-футболистом, под стать ей лосем, выходила из подъезда. Из-под собольей башкирской шапки – чёлка стриженая, из-под богатенькой шубки – богатые колени… Модными сапожками хруп-хруп…
Мы не узнали друг друга.
Я-то хотел узнать, поздороваться, просто, по-соседски, и рот открыл было, да вижу, она меня не видит, глаза куда-то вдаль, будто меня и нет вовсе. Разминулись благополучно. Лосю её я вместе с енотовой шапкой своей по плечо. Хлопнула за спиной дверь подъезда. Темно. Глаза после яркой улицы, как в глухой пещере. Лишь бы мама была дома.
По шагам, направляющимся на зов звонка, легко определяю, кто идёт мне дверь открывать. Или они спешные, весело пошлёпывающие задниками тапок, – значит, мама, или медленные, шаркающие – отец. Когда мамы нет, плохо, неуютно, глава семьи со своими болячками, обидами на прошлое, с головой в себе, я – не лучше.
Шаги лёгкие, весело пошлёпывающие…
– Иду, иду! – узнаёт меня мама по короткому, двойному, звонку.
Но на этот раз в глубине души я ждал и надеялся услышать другие шаги – частые, бегущие, будто заколачивающие голыми пятками гвозди в пол.
Перешагиваю порог:
– Где?
Я не говорю – кто. Мама не спрашивает. Понятно. Она суетливо включает свет в прихожей, принимает и потрошит больничную авоську:
– Мать забрала её. Вчера. На машине…
– На такси? – спрашиваю, хотя какая разница.
Мама виновато пожимает плечами:
– Не разглядела, сынок. Знаешь же, какое у меня зрение. Слава богу, тебя вижу сейчас, а в окно вот и не различу уж, хоть и глаз не отрываю.
Что верно, то верно, глаз от окна она не отрывает, всю жизнь меня ждёт: пацана с катка, солдата из армии, поэта с банкета…
Я стыжусь: по-человечески не поздоровался с матерью. Приподнято восклицаю:
– Пироги испекла, да? За версту слышно!
– Внучка не попробует вот! – вздыхает мама.
Я не отвечаю, молчу. Что я могу ответить? И не расспрашиваю – как уехала дочь, плакала ли, обрадовалась ли, вспоминала ли обо мне, что оставила на память – какие фантики, какие рисунки… Через минуту-другую мама сама всё подробно расскажет и покажет, а пока суетится, что куда моё пристроить не знает, волосы свои белоснежные поправляет, точно к ней жених явился.
– Проходи, проходи, с отцом поздоровайся.
Ритуал обыденный. Время обеденное.
Мама быстро накрывает на стол, замечая непременно, как в детстве:
– Помыл руки?
Впервые с незапамятных времён моей болезни – имею в виду не только гиббус – чувствую зверский аппетит, наворачиваю – за ушами трещит.
Отец без интереса озирает меня, что-то спрашивает, я что-то отвечаю. Мама садится за стол как всегда последней, нет, она так и не садится – хозяйка: то молоко вскипит, то ещё что… Она у меня непоседа. Я не видел её, например, вот так просто, ничего не делая, смотрящей телевизор. Если она включает телевизор, то и утюг заодно, или вязание возьмёт, или штопку (теперь уж, правда, не вяжет – зрение)…
Но вот наконец присела и между прочим:
– У вас там умер кто-то на работе.
– Кто? – пирог застревает в горле.
Она просит меня не волноваться, сообщает, что не совсем на работе, что приходил Грач…
– Почему он?
– Не знаю. Записку вот оставил и туда убежал, потому и встретить тебя сегодня не смог. – Она достаёт из серванта бережно сложенную записку. – Тоже, говорит, поэтом был, только непризнанным.
Всё ясно. Записку можно не читать. Но я читаю. Спокойно читаю. Конечно, это он, Коленвал. Выпил в одиночестве, прилёг, закурил, а далее что случилось – то ли пожар, то ли из-под вскипевшего чайника газ пошёл, хотя какой в коленваловской халупе газ? Короче, выпил, закурил, задохнулся. Большего из записки не выудить. Всё прояснится на месте. Но что изменится? Смерть давно витала над Коленвалом и зазывала в свои объятия. Однажды у издательства его сбила милицейская машина. Трезвого. Потому-то и угодил под колёса, острили умники. Больше года по больницам на костылях путешествовал. Потом он как-то загадочно выпал на ходу из электрички. И как-то остался жив. А психушка, а многочисленные «ласточкины гнёзда», ЛТП, КПЗ – это ведь всё тоже хождение по острию… Он всю жизнь висел на тоненькой ниточке хрупкой ёлочной игрушкой и ждал, ждал, ждал, когда же эту ниточку наконец перережут.
– Он признанный, мама, – говорю я, откладывая записку. – Признанный кем надо.
Обжигаю горло горячим чаем:
– Пойду.
Истинный и гордый
– За день до этого умер его кот Цезарь, – говорит Грач.
Возвращаемся с кладбища. Бредём вдвоём закоулками, забаррикадированными горбатыми сугробами. Зима тёплая, снежная. Народу кругом полно, в основном дети, молодёжь. Катаются на санках, бегают на лыжах… Старики вымерли. Или сидят дома, пережидают неурочное для всяческих передвижений время года. Нет, бредёт один навстречу. Вдрызг пьяный. Хоть храм и близко, да ходить склизко, а кабак далёконько, да хожу потихоньку. Ступил на зализанную ребячьими валенками блестящую пролысину льда, шагнул – ничего, ещё шагнул – и не поскользнётся ведь, чёрт старый, не растянется, будто асфальт шершавый под башмаками. Качнуло вот в сторону, сошёл с опасной полосы. Кроличья шапчонка на затылке, взбитый белый клок волос по-суворовски ввысь, и на изрезанном морщинами, худом лице тихая, по-детски светлая улыбка. Посторонитесь, умники тверёзые и многострадальные!
В который раз спрашиваю:
– От чего он умер?
Не спрашиваю – тупо повторяю то про себя, то вслух, всё ещё не в силах поверить в случившееся.
– С перепою, – отвечает Грач. – Перебрал, вот и всё. Много ли надо при его-то мощах.
– Что-то тут нечисто… Все по-разному толкуют.
– Несуразная жизнь – несуразная смерть.
– Зачем так? Думаешь одно, говоришь другое… Есть такая штука – судьба. Слышал – нет?
– У кого она зрячая, у кого слепая, – выдаёт Грач очередной свой афоризм.
– Окулист нашёлся! Бывает, когда ты как при цугцванге: ходишь, куда тебе судьба-противница диктует, делаешь невыгодные ходы.
– Но жизнь – не шахматы.
– Шахматы, конечно, логичней, но жизнь… Вон сколько народу пришло проститься с ним, мог бы подумать? А мы: непризнанный да непризнанный.
Народа у Коленвала в последний день пребывания его бренного тела на земле нашей грешной было удивительно много. И собутыльники собрались, шантрапа разная, и люди солидные, среди них университетские преподаватели, писатели, художники, газетчики, студенты… Композиторов двух видел у гроба, тенора одного из оперного. Вот тебе и полководец без армии, то бишь поэт без своих книг! Не печатался он, что поделать, но стихи его, как лёгкие осенние листья, порхали по свету. Не раз бывало: в компании какой-нибудь доморощенный бард тронет струны гитары и затянет вдруг песню с удивительно знакомыми словами. Запоздало хлопнешь себя по лбу: так это ж коленваловские стихи!
Рукописи не горят. Стихи – тем более. Стихи ведь – не всегда – рукописи и книги.
Смерть делает человека значительнее, серьёзней. Коленвал в гробу, ей-богу, красив был и величествен. Он лежал успокоенный, избавленный от суеты, от мелочных желаний, обид, страхов, свободный от всего того, чем мы все вокруг него были отягощены. Мне даже показалось, что на лице его белом появилось выражение гордости, превосходства над нами: он уже постиг Великую Тайну, которую мы ещё не ведаем, но с трепетом каждый по-своему ожидаем; постиг и хочет сказать будто: вот он я, истинный, мелочь пузатая, и тут я впереди вас.
Но сколько суеты, вместо того, чтобы элементарно закопать лишённое жизни тело в землю, сколько предрассудков, ложной значительности, театральности наконец! Видно, всё-таки есть нечто такое в этом моменте, что заставляет трепетать перед уже, по сути дела, просто-напросто неодушевлённым предметом. Говорят: живых бойся. Нет! Мёртвых боимся. Вернее, смерти. На похоронах все, как один, вспоминают вдруг, что никто не вечен. Ненадолго, правда, вспоминают.
На поминки, которые организовали в кафе невесть откуда взявшиеся родственники и любители его поэзии, мы не пошли. Поминальщиков набралось – тьма. Так что душа Коленвала, зависшая над столом с поминальными гранёными стаканами, приятно удивившись, не заскучает, останется довольной. А если и спохватится кого, то грех на душу Грач взял, это он поступил со мной, как доктор с пациентом, – не пустил и всё. «Почему?» – «Чтоб завтра опять в каталажку не угодил».
– С кем дети-то остались? – спрашиваю на остановке трамвая, где наши пути с Грачом разбегались, наконец, в диаметрально противоположные стороны.
– А увидишь скоро, – загадочно щерится Грач.
– Секреты?
– Секреты.
– Не жениться ли собрался, случаем?
– Собрался!
– Серьёзно?
– Вполне.
– И кто она?
– Приходи вечером, увидишь.
– Приду, если… приду.
Жизнь есть жизнь. Кто-то умирает, кто-то женится, а кто-то ни то ни сё.
Грач запрыгивает в трамвай и грозит мне в окно кулаком: обязательно приходи.
Я тереблю в кармане обрывок бумаги в линеечку с последними стихами Коленвала. Их мне на кладбище Грач дал. Как они ему достались? Сказал, что потом скажет. Так и не сказал. Почерк его, коленваловский, корявый, не перепутаешь. Стихи посвящены Цезарю:
Умер кот,
Он будто бы вздохнул
После трудно сделанной работы…
На земле
В конторе ни души, точно сдуло. Спрашиваю единственного сохранившегося на месте сотрудника – Монашка, категорически не терпевшего застолий и остававшегося на службе дневальным при всех коллективных прогулах:
– Где все?
– Так на поминках же! – удивлённо таращится он на меня. – И Пузо там со своими…
Странно. Таким вдруг любимым и популярным сделался Коленвал! Неужели для этого обязательно помереть надо? Или до чугунных лбов дошло нечто… и они решили в срочном порядке примазаться, не остаться в стороне от неожиданно приобретшего значимость события? Когда жив был, носы воротили, стаканы с вином от него, похмельного и небритого, по тумбочкам своих служебных столов прятали, стороной обходили – не дай бог на кружку пива попросит. Теперь не попросит. Сам угостит на прощание.
Монашек – мой последний из могикан (наверное, единственный, кто ещё не обернулся в Хеопсову веру) – рассказывает мне обо всём самом важном, происшедшем в конторе в моё отсутствие. Главная новость: Дюймовочка получила квартиру… Монашек смотрит на меня выжидающе.
– Знаю, – говорю, хотя и слышу впервые. Монашек хлопает конфузливо большими девичьими глазами, словно от него что-то зависело, хотя он всегда за всех себя виноватым чувствует. Я прошу продолжать дальше.
– Звонил Штабс-Капитан.
– Когда звонил?
– Почти каждый день в последнее время.
Не откладывая, набираю его номер. Удачно – междугородка не подкачала, редактор городской газеты на месте. Я сообщаю сбивчиво о Коленвале. Штабс-Капитан о случившемся уже слышал, расспрашивает подробности, сообщает о том, чего я не знаю: сделка Земели с лысым миллионщиком состоялась, Земеля получил для начала ракетницу.
– Для чего ему ракетница? – спрашивает Штабс-Капитан.
– А я знаю? – отвечаю я вопросом на вопрос.
– Я ведь раньше его уехал, – говорит Штабс-Капитан, – они ещё только договаривались. И он не в себе был. Знаком с ним всего ничего, но видно же. Известий от него нет?
– Нет.
– Но не для фейерверков же ему ракетница?
– В конце концов, он уже взрослый человек, – говорю я раздражённо.
– Это верно…
Разговор наш зависает продолжительной паузой. Я уж думал, связь прервалась, кричу в трубку:
– Алло, слышишь, алло!..
– Чего кричишь? – вздыхает на другом конце провода, в другом городе мой самый близкий друг и спрашивает после новой паузы: – Миллионщик-то кучерявый где у вас там обосновался?
– Обосновался? – удивляюсь я. – Он что, к нам переехал?
– Будто с луны свалился! – в свою очередь удивляется мой друг.
– Нет, из больницы выписался.
– Не обижайся. Задёргался я. И работа, и дом – всё на голых нервах.
Прощаясь, Штабс-Капитан говорит, что скоро пригласит на свадьбу:
– Готовься!
– Да что вы все!.. – цежу сквозь зубы.
– А чего? – не понимает Штабс-Капитан.
Коридор конторы наполняется топотом, гомоном – вернулись с поминок.
Немного выжидаю и поднимаюсь к Пузе. Он принимает радушно, как старого друга, вернувшегося с фронта. Восседает за письменным столом в своём жёлтом вращающемся кресле, развалившись в нём и покручивая задницей. Ворот чёрной – по случаю траура – рубахи расстёгнут, модный галстук приспущен, в руках авторучка, какие-то «затеси» на память делает.
В кабинете он не один. Рядом за большим круглым столом для неофициальных бесед удобно расположились в креслах кучерявый миллионщик со своей персястой женой-графоманкой. Оба тоже приветливо улыбаются мне.
– Проходи, проходи, – указывает Пузо на стул возле круглого стола. – Выписался? А мы вот только с поминок. На кладбище тебя видели, а потом как в воду канул, куда девался-то? Как раз о тебе и говорим, лёгок на помине будешь. – Достаёт из шкафчика бутылку водки. – Помянем, ты ведь с ним как никто дружен был.
– Я на минутку, – говорю я.
– Что так? Полгода отдыхал и не расскажешь? Поправил здоровье? Так и не смог к тебе выбраться, прости, старик. Дела, дела, сам видишь: кого-то хороним, кому-то квартиру выбиваем.
– Мешок стихов, наверно, написаль… – суётся, лыбясь, кучерявый.
Я кладу на стол Пузы вчетверо сложенный лист, в котором моё заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности.
– Потом посмотришь, – говорю я Пузе и выхожу, плотно и неслышно закрыв за собой двойные двери.
Неспешно разбираю свои бумаги – что выкинуть, что взять с собой. Хочу вспомнить лица толпы на кладбище – и не могу. Где там Пузо был, где Дюймовочка? Не знаю, не видел никого. Толпа, на то она и толпа, чтобы безликой быть.
Корзина для бумаг быстро наполняется. Нет ничего приятнее, чем рвать какие-то рукописи, какие-то документы, казавшиеся ещё вчера важными, а теперь вот превратившиеся в не более чем макулатуру. Место переполненной корзины для мусора занимает свободный ящик стола, положенный на пол. Работа кипит. Работа лечит, особенно когда она совершается в одиночестве. Но нет, невозможно быть в одиночестве на территории конторы. Стук в дверь. Заходит, потирая лысину, миллионщик:
– Чё это вдруг увольняться вздумаль?
Я пожимаю плечами. Я не знаю, что ответить. Послать его к чертям собачьим, сказать: не твоё дело – остатки воспитания не позволяют; объяснять ему что-то – смешно. С незваными гостями надо по существу:
– Что хотел?
– О! О! О! – трижды окает кучерявый. – Какими мы гордыми стали! – Опускается в кресло напротив меня, поправляет лацканы своего дорогого двубортного пиджака. – Брось, не переживай. С твоей ли голёвой тебе тут штаны протирать? Правильно деляешь. Приглясили куда-нибудь полючше?
Я не отвечаю. Чего с ним разглагольствовать?
– А хочешь, к себе на работу возьму? – надувается важностью миллионщик.
– Нет, спасибо.
– И не спросишь – кем?
– Представляю себе…
– Правильно, мы с тобой без «б» сработаемся. – Гость поудобнее устраивается в кресле. – Мы же интеллигентные люди и всегда найдём общий язык. Я тебя своим заместителем сделяю, будешь в десять раз больше полючать, чем здесь. А? Я ведь со всей своей конторой сюда переехаль.
– У меня мало времени, извини.
– Наоборот, у тебя теперь должно быть много времени.
Я делаю нетерпеливый жест головой в сторону и уставляю взгляд в окно. В безветрии тихо кружат мелкие, поблёскивающие на солнце снежинки. Похолодало в одночасье. Постоянства и устойчивости нет и в природе.
– Лядно, лядно, уйду сейчас, – не пошевелится в кресле интеллигентный человек. – А может, подумаешь? Я не прошу сегодня же ответить.
– Слушай, – перебиваю я его, – зачем ты Земеле ракетницу дал?
– Аванс, – делает белозубую американскую улыбку Кучерявый.
– За что?
– Ты же знаешь. Он взялься помочь мне немного… Заместителя-то по этим вопросам нет, вот и приходится по разовым договорам работать.
– Насколько я знаю, речь о стрелковом оружии шла.
– Ну, не полючилёсь, – оправдывается благодетель. – Да и зачем оно ему? Ракетница – пожалюйста… Пусть в деревне своей на радость землякам салюты в небо пускает. Боеприпасов я ему завались дал.
– А если что случится, с кого спрашивать, с тебя?
– Что может слючиться? – морщит нос кучерявый.
– Ты заметил, какой Земеля был?
– Какой? Как и все мы, чуток на взводе. – И повторяет вдруг то, что я сказал часом раньше Штабс-Капитану: – В конце концов, он же взрослий челёвек. – И поясняет: – Заключили джентльменское согляшение без бюрократий – подписей там, печатей. На взводе не на взводе. Я заметиль, я разглядель – это прежде всего порядочный челёвек. Он доверие внушает.
– Он-то да, – говорю я и встаю, давая понять, что пора прощаться.
Кучерявый выкарабкивается из кресла и уже в дверях, иезуитски улыбаясь всеми вставными зубами наружу, роняет между прочим:
– А кто-то и за что-то квартиру в новом доме полючиль…
Прости
«Что ж, квартира – это очень важно, – говорю я сам себе, – без мужа прожить можно, а вот без угла своего трудновато. Ясно».
С этой ясностью хорошо бумагу рвать.
Но косяком из ящика стола пошло то, что не порвёшь. Коленваловские стихи – на писчей бумаге, на бумаге в клеточку, в полосочку, отпечатанные на машинке, исписанные, измаранные чернилами. Возникли из небытия две общие тетради. Когда-то они были подарены мне, да так в суете и остались нераскрытыми. Я листаю их. Они отрывают от сиюминутности, напоминают, что кроме измен, предательств, мелких дрязг и интрижек есть на свете Красота и Вечность. Душно. Распахиваю форточку, в комнату залетают блестящие снежинки и мгновенно тают. Я возвращаюсь к столу, хочу взять очередной лист с до боли знакомым, летящим снизу вверх почерком, но он выпархивает из-под моей руки, все бумаги вдруг, как большие белые птицы, взлетают со стола под потолок – сквозняк, кто-то открыл дверь…
Дюймовочка.
Я собираю по полу бумаги.
– Ой, прости, ради бога! – Она помогает мне, пытается складывать листы постранично, я говорю, что это сейчас бесполезно.
Белые птицы успокоились на столе. Мы сидим друг против друга и тягостно молчим.
– Выписался? – спрашивает она.
– Выписался, – отвечаю я.
Она пытается подобрать необходимую ноту разговора. Я ей не помогаю. Нет никакого желания ни объясняться, ни даже языком шевелить.
– Хорошо выглядишь, – делает она новый заход.
– Спасибо, – говорю.
– Честно, честно…
Я кривлю губы:
– Давно не пил, наверно.
Или сговорились все, или только на лицо смотрят? Уж лысый-то не преминул бы прошепелявить какую-нибудь мерзость по поводу горба моего.
– Я квартиру получила, – после очередной паузы сообщает Дюймовочка, не поднимая глаз. Взгляд её всё это время скользит от носочков туфель до бумаг на столе – не выше.
– Знаю.
– И то, что уже переехала, знаешь?
– Нет, этого не знаю, – говорю я уравновешенно, – но от всей души поздравляю. Поздравляю…
Второе «поздравляю» зря сказал. Просквозило в этом что-то ненужное – то ли горечь, то ли обида…
Дюймовочка вспыхивает, вскидывает влажные, полные отчаяния глаза:
– А что мне было делать? Ни жилья, ни тебя. Тебе хорошо…
– Да, очень хорошо, – говорю я и понимаю, что в больницу она ко мне не любовью влекомая, а прощаться приходила.
– Прости. – Она как-то разом сникает, лепечет что-то в своё оправдание.
– Не надо! – вскакиваю я и бегаю из угла в угол. – Я всё понимаю. Не понимаю лишь, как это – ты и он, Дюймовочка и Бреккеке, поэтесса и импотент? Хотя что это я? Какое мне дело?
Она не отрывает от меня, как болельщик от мечущегося туда-сюда мяча, ожидающего взгляда. Мне становится жаль её. Я касаюсь её плохо замаскированного под свитером грубой вязки худенького, острого плеча:
– Не расстраивайся, всё будет хорошо.
Пустые, приличествующие моменту слова. Самому противно.
Она смотрит на меня снизу вверх, опять опускает взгляд на кончики своих туфель, опять поднимает и произносит тихо:
– Я люблю тебя. Люблю. Веришь, нет? Всё равно люблю. Веришь?
– Верю, – отвечаю я и отхожу, сажусь на место, за барьер большого служебного стола.
– Я и в больницу к тебе больше не пошла из-за этого. Не могла. Понимаешь?
– Понимаю, – вторю эхом.
– Ничего ты не понимаешь. Нет, нет, ничегошеньки, конечно… И объяснить не могу.
– Я тоже не могу. Только вот скажу: то, что не получается сразу, не получается никогда. Тьфу! Не то, не то говорю… – Я размахиваю руками, мотаю головой, но выразить своё состояние, своё отношение к маленькой, тоненькой, любящей меня и по-своему виноватой передо мной женщине не могу, гляжу в окно, будто надеюсь там высмотреть подсказку, но подсказать некому, кроме разве что двух гладящих друг друга большими клювами ворон на белом снегу. Хотя вот она, подсказка, простая и мудрая, как этот белоснежный мир, – в любви спасение, в любви, которой у меня нет. Об меня любовь, как об стену горох. И неча на других пенять…
Я думаю одно, а говорю и говорю что-то другое. Она не перебивает, слушает, смотрит. Надеется на что-то? Или это я надеюсь?
Шумно и нагло распахивается дверь.
– Вот они где! – прерывает мою тираду Пузо. – А мы с ног сбились, ищем её, – обращается он к Дюймовочке. За спиной его маячит лысина миллионщика. – Поехали, опаздываем же.
Занавес. Бреккеке с Дюймовочкой откланиваются. К её растерянной улыбке эпитетов нет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?