Читать книгу "Записки княгини Дашковой"
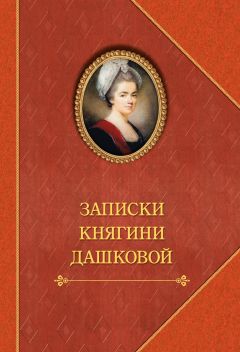
Автор книги: Александр Герцен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ваше величество, простите меня за то, что я хочу сказать; приходит время, в которое правда должна быть изгнана из вашего окружения; предупреждая его, я прошу вас взять назад этот орден; как украшение я не умею его довольно ценить; если это награда, как бы она велика ни была, она не может вознаградить мои услуги, они ничем не могут быть оплачены, потому что они не продаются.
– Но, – заметила императрица, обнимая ее и оставляя ленту, – дружба имеет свои права, разве я и их лишусь теперь?
Дашкова снова довольна, целует ее руку, и восемнадцать лет берут свое, она через полвека не забывает с удовольствием прибавить: «Представьте себе меня в мундире, со шпорой на одном сапоге, с видом пятнадцатилетнего мальчика и с красной Екатерининской лентой через плечо». Новый кавалер скачет опять к Насте – показаться, присутствует при ее ужине и наконец, раздевшись, бросается в постель; но и на этот раз сон бежит от раздраженных нервов или пугает грезами; удивительные картины последних дней, которые она не только прожила, но отчасти сотворила, беспрестанно проходят в ее воображении. Важное участие ее в перевороте не отрицала сама императрица; напротив, когда старый и лукавый Бестужев ей представлялся, она сказала ему: «Кто бы мог подумать, что дочь Романа Воронцова поможет мне сесть на престол».
Весть об убийстве Петра III исполнила Дашкову ужасом и отвращением; она до такой степени была взволнована и возмущена этим пятном «на перевороте, который не стоил ни капли крови», что не могла переломить себя, чтоб ехать на другой день во дворец. Она минует в своих «Записках» все подробности этого гадкого происшествия, когда три офицера, из которых один был гигант, полчаса работали, чтоб удушить салфеткой отравленного арестанта, как будто нельзя было подождать четверти часа. Дашкова полагает, что Екатерина не знала о намерении Алексея Орлова; вернее то, что Дашкова не имела понятия об участии Екатерины, которая тщательно умела скрывать, что хотела; о ее интриге с Григорием Орловым не знали не только Панин и другие заговорщики, но, как мы сейчас видели, и сама Дашкова.
Екатерина поняла, что было на душе у Дашковой, и, увидев ее, стала с ужасом говорить о том, что случилось.
– Да, ваше величество, – отвечала Дашкова, – смерть эта слишком скоро и рано пришла для вашей и для моей славы.
Проходя приемной залой, она громко при всех сказала, что, конечно, Алексей Орлов пощадит ее своим знакомством. С лишком двадцать пять лет они нe кланялись и не говорили друг с другом.
Весьма вероятно, что Екатерина не давала приказания убить Петра III; Александр сделал больше: он решительно требовал не убивать до смерти Павла, отправляя к нему ватагу крамольных олигархов. Мы знаем из Шекспира, как даются эти приказания – взглядом, намеком, молчанием. Зачем Екатерина поручила надзор за малодушным Петром III злейшим врагам его? Пассек и Баскаков хотели его убить за несколько дней до всех событий. Будто она не знала этого? И зачем же убийцы были так нагло награждены?
Дашкова приводит в оправдание Екатерины письмо к ней от Орлова, писанное тотчас после убийства, которое императрица ей показывала. Письмо это, говорит она, носило явные следы внутреннего беспокойства, душевной тревоги, страха и нетрезвого состояния. Письмо это береглось у императрицы в особой шкатулке с другими важными документами. Павел после смерти матери велел при себе разобрать эти бумаги князю Безбородко; дойдя до этого письма, Павел прочел его императрице в присутствии Нелидовой. Потом он велел Ростопчину прочесть его великим князьям.
Я слыхал о содержании этого письма от достоверного человека, который сам его читал; оно в этом роде: «Матушка императрица, как тебе сказать, что мы наделали, такая случилась беда, заехали мы к твоему супругу и выпили с ним вина; ты знаешь, каков он бывает хмельной, слово за слово, он нас так разобидел, что дело дошло до драки. Глядим – а он упал мертвый. Что делать – возьми наши головы, если хочешь, или, милосердая матушка, подумай, что дела не воротишь, и отпусти нашу вину»[78]78
Таков смысл письма, за слова я не отвечаю, я его повторил через долгое время по памяти. – Прим. Герцена.
[Закрыть].
Дашкова, увлеченная любовью к Екатерине, верит или по крайней мере притворяется, что верит, что и Мирович действовал без ее ведома; а о худшей, самой позорной и гнусной истории всего царствования, о похищении Орловым и Рибасом княжны Таракановой, не упоминает вовсе. Оттого-то, между прочим, что она верила и хотела верить в идеальную Екатерину, она и не могла удержаться в милости. А она была бы славным министром. Бесспорно одаренная государственным умом, Дашкова, сверх своей восторженности, имела два больших недостатка, помешавшие ей сделать карьеру: она не умела молчать, ее язык резок, колок и не щадит никого, кроме Екатерины; сверх того, она была слишком горда, не хотела и не умела скрывать своих антипатий, словом, не могла «принижать своей личности», как выражаются московские староверы.
Вообще дружба Екатерины с Дашковой была невозможна. Екатерина хотела править не только властью, но всем на свете – гением, красотой; она хотела одна обращать на себя внимание всех, в ней было ненасытимое желание нравиться. Она была еще в полном блеске своей красоты, но ей уже стукнуло тридцать лет. Женщину слабую, потерянную в лучах ее славы, молящуюся ей, не очень красивую, не очень умную, она, вероятно, умела бы удержать при себе. Но энергическую Дашкову, говорившую о своей собственной славе, с ее умом, с ее огнем и с ее девятнадцатью годами, она не могла вынести возле себя.
Она отдалилась от нее с быстротой истинно царской неблагодарности. В Москве после коронации старый грешник Бестужев предложил написать императрице адрес и просить ее от имени всех подданных снова избрать себе супруга. Григорий Орлов, тогда уже сделанный князем Империи, метил в цари. Это возмутило всех порядочных людей. Канцлер Воронцов попросил аудиенции и предупредил Екатерину, предполагая, что она не знает, что происходит. Екатерина удивилась и решила намылить Бестужеву голову.
Хитрово, один из преданных заговорщиков 28 июня, громко говорил, что скорее убьет Орлова или пойдет на плаху, чем признает его императором. Само собой разумеется, что при этом общем ропоте говорила и Дашкова; это дошло до Екатерины. Вдруг вечером секретарь Екатерины Теплов приезжает к князю Дашкову и велит его вызвать. Императрица пишет ему следующую записку: «Я искренно желаю не быть в необходимости предать забвению услуги княгини Дашковой за ее неосторожное поведение. Припомните ей это, когда она снова позволит себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз».
Дашкова не ответила на это письмо ни слова, держалась в стороне и стала после смерти князя, случившейся в 1764 году, проситься в чужие края. «Я вполне могла ехать без спросу, – говорит она (наверное, не грезившая и во сне, что через восемьдесят лет глупый закон почти совсем лишит Россию права переходить границу и, еще менее того, что правительство станет грабить по большим дорогам, принуждая каждого путешественника платить за себя выкуп), – но мое звание статс-дамы налагало на меня обязанность спросить высочайшего разрешения».
Не получая ответа, она отправилась в Петербург и при первом представлении просила Екатерину отпустить ее за границу для излечения детей. «Мне очень жаль, – отвечала Екатерина, – что такая печальная причина заставляет вас ехать. Но без всякого сомнения, княгиня, вы можете располагать собой как вам угодно».
Где это время, когда они лежали под одним одеялом в постели, и плакали, и обнимались или мечтали на шинели полковника Карра целую ночь о государственных реформах?
В чужих краях Дашкова оживает, становится опять такой же гордой, неугомонной, неукротимой, деятельной, всем интересующейся, всем занимающейся.
В Данциге на стене в гостинице висит большая картина, представляющая какое-то сражение пруссаков с русскими, в котором, разумеется, русские побиты. На первом плане представлена группа наших солдат, стоящих на коленях перед пруссаками и просящих помилования. Дашкова не может этого вынести, она подбивает двух русских пробраться потихоньку ночью с ней в залу, взяв масляные краски и кисти, запирает за ними двери и принимается со своими товарищами перерисовывать мундиры – к утру уже пруссаки стояли на коленях и просили пощады у русских солдат. Окончив картину, Дашкова послала за почтовыми лошадьми и, прежде чем хозяин спохватился, уже катила по дороге в Берлин, от души смеясь при мысли о его удивлении.
В Ганновере она отправляется одна с Каменской в оперу. Так мало они были похожи на добрых немок, что принц Мекленбургский, начальствовавший в городе, послал узнать, кто они такие. Адъютант его без церемонии взошел в ложу, в которой были еще две немки, и спросил наших дам, не иностранки ли они. Дашкова сказала, что да.
– Его светлость, – прибавил он, – желает знать, с кем я имею честь говорить?
– Имя наше, – отвечала Дашкова, – не может быть интересно ни для герцога, ни для вас; как женщины мы имеем право умолчать, кто мы, и не отвечать на ваш вопрос.
Сконфуженный адъютант ушел. Немки, с самого начала почувствовавшие непреодолимое уважение к нашим дамам, смотрели на них с подобострастием, услышав храбрый ответ Дашковой. Видя, что немки считают их за больших барынь, Дашкова, учтиво обращаясь к ним, сказала, что если она не хотела отвечать дерзкому запросу принца, то перед ними не имеет причины утаивать, кто они. «Я оперная певица, а моя подруга – танцовщица; мы обе без места и ищем где-нибудь выгодный контракт». Немки раскрыли глаза, покраснели до ушей и не только оставили свою вежливость, но старались, насколько ложа позволяла, сесть к ним спиною.
В Париже Дашкова окружена всеми знаменитостями, со всеми дружится, кроме Руссо; к нему она не хочет ехать из-за его лицемерной скромности, из-за натянутой оригинальности. Зато Дидро с ней на самой короткой ноге, сидит у нее целые вечера tête-à-tête и рассуждает обо всем на свете. Дашкова доказывает ему, что крепостное состояние не так дурно, как думают, запутывает его в софизмах, и удобовпечатлительный Дидро готов согласиться на минуту.
Входит человек и докладывает, что приехали госпожи Неккер и Жоффрен. «Не принимать! – кричит Дидро, не спрашиваясь Дашковой. – Сказать, что дома нет. Госпожа Жоффрен – превосходнейшая женщина в мире, но первая трещотка в Париже; я решительно не хочу, чтоб она, не имея времени вас хорошенько узнать, пошла пороть всякий вздор. Я не хочу, чтоб кощунствовали над моим идолом». И Дашкова велит сказать, что больна.
Рюльер, писавший о России – и именно в 1762 году, – хочет непременно ее видеть. Дидро не велит принимать и его; он завладел Дашковой для себя.
В Лондоне Дашкова знакомится с Паоли, но ей не нравятся его «итальянские гримасы», не идущие великому человеку. В Женеве она ходит к Вольтеру, удивляется ему, но не может не посмеяться с каким-то доктором над тем, что Вольтер сердится и выходит из себя, проигрывая в шашки, и притом строит самые уморительные рожи. Доктор замечает, что эти рожи корчит не один Вольтер, велит своей собаке задрать морду, и Дашкова катается со смеху от необыкновенного сходства. Из Женевы она едет в Спа; там она живет в большой близости с госпожой Гамильтон и, прощаясь с ней, романтически клянется приехать через пять лет для свидания с нею, если не увидится прежде; и, что еще более романтически, действительно приезжает.
Чувство дружбы, самой пламенной, самой деятельной, было чуть ли не самым преобладающим в этой женщине, гордой и упрямой. Глубоко обиженная поведением Екатерины, она преждевременно состарилась. Дидро говорит, что она выглядела лет на сорок, в то время как ей было тогда двадцать семь лет. Любила ли она кого после смерти мужа, была ли любима – того не видать из «Записок»; но наверное можно сказать, что ни один мужчина не играл никакой значительной роли в ее жизни. После Екатерины она со всем пылом голодного сердца привязалась к Гамильтон, и под старость дружба, материнская, бесконечно нежная, согрела ее жизнь; я говорю о госпоже Уилмот, издательнице ее «Записок».
Из Спа Дашкова возвратилась в Москву, в дом своей сестры Полянской; эта Полянская, со своим скромным, прозаическим именем, есть не кто иная, как знаменитая Романовна, которая легко, если б не была Полянской, могла бы стать российской императрицей.
Тучи, которые заволакивали небо Дашковой, начали было расчищаться. Влияние Орловых слабело. Императрица, узнав о ее приезде, прислала ей 60 000 рублей на покупку имения.
Но Дашкова решительно не могла уживаться с фаворитами, и действительной близости между нею и двором не было. Теперь ее начало сильно занимать воспитание сына; горячая поклонница английских учреждений и Англии, она решается ехать с сыном в Эдинбург. К тому же она видит себя совершенно лишней в Зимнем дворце.
Собираясь снова в путь, она сосватала свою дочь за Щербинина. По дороге в деревню к женихову брату, куда Дашкова ездила целым обществом, чей-то слуга упал с козел и трое саней проехали по нем; он был оглушен и сильно ушиблен; надобно было пустить кровь, но как? У Дашковой есть с собой портфель с хирургическими инструментами, купленный в Лондоне; она достает ланцет, но никто не берется пустить кровь, больной остается без помощи; тогда Дашкова, побеждая сильное чувство отвращения, вскрывает ему вену и, отлично сделав операцию, чуть не падает в обморок сама.
В Эдинбурге Дашкова окружена первыми знаменитостями – Робертсоном, Блэром, Адамом Смитом, Фергюсоном. Она пишет длинные письма Робертсону, излагает ему подробно свой план воспитания: она хочет, чтоб ее сын, которому тогда было четырнадцать лет, окончил свое ученье в два года с половиной и потом ехал на службу, пропутешествовав по всей Европе. Робертсон полагает, что ему нужно четыре года, Дашкова думает, что это слишком много. Для этого она подробно пишет, что сын ее уже знает и что должен знать:
«Языки. Латинский: начальные трудности все побеждены.
Английский: князь очень хорошо понимает прозу и отчасти стихи.
Немецкий: понимает совершенно всё.
Французский: знает как свой собственный язык.
Словесность: знает лучшие классические произведения; его вкус больше образован, чем это обыкновенно бывает в его возрасте. Он имеет излишнюю склонность к критицизму, что, может, составляет естественный недостаток его.
Математика: весьма важная отрасль учения. Он довольно успел в разрешении сложных задач, но я хочу, чтоб он шел дальше в алгебре.
Гражданская и военная архитектура: я хочу, чтоб он подробно изучил их.
История и государственные учреждения: он знает всеобщую историю, в особенности историю Германии, Англии и Франции. Но ему следует еще подробнее пройти историю; он может заниматься ею дома с учителем.
Теперь что я желаю, чтоб он изучил:
1. Логику и философию мышления (ph. of reasoning). 2. Опытную физику. 3. Несколько химии. 4. Философию и натуральную историю. 5. Естественное право, народное право, публичное и частное право в приложении к законодательству европейских народов. 6. Этику. 7. Политику».
Эту обширную программу Дашкова делит на пять семестров и потом, как всегда, исполняет ее в точности. Сын ее в 1779 году выдержал экзамен на магистра (Master of Arts); говорят, она его замучила. Из него действительно ничего не вышло; к тому же он и умер молодым, но виновато ли в этом ученье – мудрено сказать.
После экзамена Дашкова тотчас едет в Ирландию, царит в дублинском обществе, сочиняет церковную музыку, которую поют в часовне Магдалины при огромном стечении народа, желавшего, как она выражается, «послушать, как северные медведи компонируют». Вероятно, опыт удался, потому что вслед за тем она хлопочет, с Дэвидом Гарриком[79]79
Гаррик Дэвид (1717–1779) – английский актер. – Прим. ред.
[Закрыть], об исполнении на сцене ее музыкальных сочинений и пишет своему сыну длинную инструкцию в роде наставлений Полония, о том, как ему следует путешествовать…
Из Англии она отправляется в Голландию; в Харлеме она приезжает к знакомому доктору и там встречает князя Орлова, уже женатого и в немилости. В тот же день Орлов приходит к ней, и притом во время обеда. Его посещение Дашковой «было столько же малоожидаемо, сколько малоприятно».
– Я пришел к вам не как неприятель, а как друг и союзник, – сказал Орлов, садясь в кресло.
Затем молчание с обеих сторон. Он пристально посмотрел на сына Дашковой и заметил:
– Ваш сын записан в кирасиры, а я шеф Кавалергардского полка; если вы желаете, я попрошу императрицу перевести его в мой полк, это ему даст повышение.
Дашкова поблагодарила за доброе намерение, но сказала, что не может воспользоваться предложением, потому что уже писала о его службе к князю Потемкину и не хочет без причины выступать против него.
– Что же тут для него неприятного? – спросил князь, почувствовавший укол. – Впрочем, располагайте мной; ваш сын сделает карьеру, трудно сыскать молодого человека красивее него.
Дашкова вспыхнула от досады, и разговор прекратился. Но при следующей встрече Орлов, обращаясь прямо к молодому Дашкову, сказал:
– Какая жалость, что меня не будет в Петербурге, когда вы приедете; я уверен, что вы замените теперешнего фаворита при первом появлении при дворе. Я с удовольствием занялся бы моей теперешней должностью – утешать отставных.
Вне себя от негодования Дашкова выслала сына из комнаты и сказала Орлову, что находит весьма неприличным, когда он говорит так с семнадцатилетним мальчиком и так компрометирует императрицу, в уважении к которой она его воспитывает; что касается фаворитов, Дашкова просила его вспомнить, что она никогда не признавала ни одного из них.
После этого они разъехались. Орлов отправился в Швейцарию, Дашкова – в Париж. Затем мы встречаем ее осматривающую французские крепости с сыном и с полковником Самойловым по особому дозволению маршала Бирона. Из Франции она едет в Италию и тут совершенно погружается в картины и статуи, занята камеями и антиками, покупает для подарка императрице картину Ангелики Кауфман, ездит к папе, к аббату Гальяни и, наконец, отправляется в Россию через Вену.
В Вене у нее случается горячий спор с Кауницем. Кауниц, у которого она обедала, назвал Петра I «политическим творцом России». Дашкова заметила ему, что это западный предрассудок. Кауниц не сдался. Дашкова – еще меньше. Она соглашалась, что Петр сделал для России чрезвычайно много, но находила, что материал был готов и рядом с гениальным употреблением он его бесчеловечно гнул и ломал.
– Если бы он в самом деле был великим государственным человеком, он сношениями с другими народами, торговлей, не торопясь, достигнул бы того, до чего дошел насилием и жестокостью. Дворянству и крепостным стало хуже от его необузданной страсти к нововведениям; у одних он отнял охраняющий суд, к которому они только и могли прибегать в случае притеснений; у других отнял все привилегии. И для чего всё это? Для того чтоб расчистить дорогу военному деспотизму, то есть самой худшей форме правления из всех существующих. Из одного тщеславия он так торопился обстроить Петербург, что сгубил тысячи работников в болотах. Он не только обязывал помещиков поставлять известное число крестьян, но заставлял их строить себе дома по его собственным планам, не спрашивая, нужны они им или нет. Одно из главнейших зданий – Адмиралтейство и доки, стоившие очень много, – поставлено на берегу реки, которую никакой труд человеческий не сделает судоходной не только для военных кораблей, но и для купеческих.
– Однако ж, – заметил Кауниц, – все же нельзя без умиления видеть монарха, который сам с топором в руке учится на корабельной верфи.
Неумолимая Дашкова и этого не пропустила.
– Ваше превосходительство, – ответила она, – верно, шутите. Кто может лучше вас знать, как дорого время для монарха и есть ли ему досуг заниматься каким-нибудь мастерством? Петр I имел средства выписать не только корабельщиков, но и адмиралов. Мне кажется, что, теряя время в Саардаме, работая топором и учась площадным голландским поговоркам и корабельным терминам, которыми он исказил русский язык, он просто забыл свой долг.
Я предвижу, как возвеселятся православные души московских славян при чтении этого спора; они должны непременно в Родительскую субботу помянуть блинами с постным маслом нашу княгиню!
Иосиф II был болен, он желал, чтоб Дашкова осталась еще несколько дней, но она получила от Фридриха II приглашение для себя и сына присутствовать на его маневрах. Она виделась, впрочем, с Иосифом II запросто в кабинете естественной истории.
Через неделю Дашкова на маневрах, где Фридрих учит 42 000 человек и куда он никогда не пускал женщин; но Дашкову пригласил отдельно. Сама принцесса заезжала за ней, довезла до места, где король хотел встретиться с княгиней, и просила ее выйти из кареты, говоря: «Милая княгиня, король хочет с вами здесь встретиться, но так как я не имею ни малейшего желания видеть этого старого ворчуна, то я поеду дальше». И Дашкова остается в невинном tête-à-tête с Фридрихом II, который берет с собой ее и сына на военную инспекцию провинций.
В июле 1782 года Дашкова возвратилась в Петербург. Императрица назначила ее президентом Академии наук. Дашкова сначала, кажется, в первый раз отроду, смешалась и хотела отказаться. Она написала резкое письмо к императрице и в двенадцать часов ночи поехала с ним к Потемкину. Потемкин был уже в постели, однако принял ее. Он прочитал письмо, изорвал его и бросил на пол, но, видя, что Дашкова сердится, сказал ей: «Тут есть перо и бумага, пишите, пожалуй, опять. Но только всё это вздор, зачем вы отказываетесь, императрица носится второй день с этой мыслью. В этом звании вы будете чаще видеться с ней; а дело-то в том, сказать по правде, что она со скуки пропадает, постоянно окруженная дураками».
Красноречие Потемкина победило Дашкову; она едет в Сенат присягать на новую должность и с той минуты становится президентом consomme[80]80
Самым настоящим (франц.). – Прим. ред.
[Закрыть]. Она просит знаменитого старца Эйлера ввести ее в конференц-залу академии; ей хотелось под эгидой науки явиться перед академиками. Она представилась им не молча, как вообще русские президенты, а с речью, после которой, видя, что первое место возле президента занято Штелином, она обернулась к Эйлеру и сказала: «Сядьте где угодно; каждое место, занятое вами, будет первое».
Потом она с обычной деятельностью своей принимается за искоренение злоупотреблений, то есть краж; увеличивает число воспитанников, улучшает типографию и, наконец, предлагает императрице основание Российской академии. Екатерина назначает ее президентом и в новой академии. Дашкова опять произносит речь. «Вам известны, господа, – говорит она между прочим, – богатство и обилие нашего языка. Переведенное на него мощное красноречие Цицерона, мерное величие Вергилия, увлекательная прелесть Демосфена и легкий язык Овидия не теряют ничего из своих красот… Но нам недостает точных правил, пределы и значения слов не определены, в наш язык взошло много иностранных оборотов». А потому она предлагает работать над грамматикой и над русским академическим словарем. Она сама собирается делить труды академиков и действительно принимается за словарь.
Казалось, императрица была довольна ею. Деятельность Дашковой в это время поразительна. Она предпринимает издание специальных географических карт разных губерний, издает периодическое обозрение «Собеседник любителей российского слова», в котором участвуют сама императрица, Фонвизин, Державин и пр. Ее отношения с императрицей становятся явным образом лучше. Между ними снова завязывается переписка; переписка идет об издаваемом ими обозрении, о разных литературных предметах. Письма эти, имеющие мало общего интереса, чрезвычайно резко показывают, насколько хороший тон, образованность, человечность понизились в Зимнем дворце. Дашкова не отдает приказы, не командует записками, не держится в условных формах, не боится шутки; она уверена в себе, и императрица часто уступает умной женщине. Прусско-гатчинский тон, приведенный Николаем в канцелярскую форму, заменил грубой безграмотностью мягкость образованного языка.
Всё было бы хорошо, если б только Дашкова могла ужиться с фаворитами; она еще всех лучше ладила с Потемкиным, может, потому, что Потемкин был умнее их всех; но с Ланским, а потом с Мамоновым она была на ножах. Зубов ябедничал на нее и много вредил ей.
Летом 1783 года Дашкова побывала в Финляндии с императрицей, имевшей там свидание со шведским королем. Ланской пристал к Дашковой с вопросом, почему в ведомостях, издававшихся при академии, из лиц, бывших при императрице, упомянута она одна. Дашкова объяснила ему, что это вовсе не ее вина, что статьи о дворе присылаются готовыми и печатаются без изменений. Ланской продолжал дуться и ворчать, это надоело Дашковой.
– Послушайте, – сказала она ему, – вы должны знать, что хотя для меня всегда честь и счастье обедать с императрицей, но я, право, не могу этому до того дивиться, чтоб печатать в газетах. Я слишком привыкла к этому; ребенком я обедывала на коленях у императрицы Елизаветы, девочкой – за ее столом. Для меня это слишком натурально, чтоб хвастаться.
Ланской разгорячился, но Дашкова, видя, что зала начинает наполняться, подняла голос и громко сказала:
– Милостивый государь, люди, которых вся жизнь была посвящена общественному благу, не всегда имеют особенную силу и счастье, но всегда вправе требовать, чтоб с ними обращались без дерзости. Тихо продолжая свой путь, они переживают все эти метеоры одного дня, которые лопаются и пропадают бесследно.
Растворились двери и вошла императрица. Ее появление окончило разговор. Как же Ланскому было ее не ненавидеть? Хорошо еще, что он скоро умер.
Возвратившись из Финляндии, Дашкова принимает у себя своего друга, госпожу Гамильтон; она везет ее с собою в новую деревню, там она устраивает сельский праздник, встречает с хлебом и солью переселенных мужиков, представляет их англичанке и объявляет им, что отселе новая деревня будет называться Гамильтоново. После этого Дашкова ездит с ней по другим имениям в Калужской, Смоленской, Киевской и Тамбовской губерниях.
На следующий год Дашкову поразило семейное несчастье. Сын ее служил в армии у Румянцева, мать была довольна, что его нет в Петербурге. Под конец и Потемкин имел на него виды; он прислал раз за ним поздно вечером. Самойлова и Самойлов намекали матери о проекте. Дашкова отказалась участвовать в нем и сказала, что если это случится, она воспользуется силой своего сына, чтоб выхлопотать себе многолетний заграничный отпуск. Поэтому-то она и была довольна, что сын ее уехал в Киев. Но в Киеве его ждала другая стрела любви, не сверху, а снизу.
Однажды, выходя из спальни императрицы, Дашкова встретилась с Ребиндером; тот добродушно поздравил ее с вступлением ее сына в законный брак. Дашкова остолбенела. Ребиндер смешался, он не имел понятия, что сын Дашковой обвенчался тайно. Она была обижена как мать и как гордая женщина; с одной стороны, mesalliance, с другой – недоверие. Удар с силой пал на ее грудь, она занемогла.
Через два месяца сын написал ей письмо, в котором просил дозволения жениться; новый удар – ложь, трусость, обман. К тому же он так мало знал нрав своей матери, что вместе со своим письмом прислал письмо фельдмаршала Румянцева, явным образом написанное по его просьбе. Румянцев убеждал Дашкову разрешить сыну брак, говорил о предрассудках аристократического происхождения и непрочности богатств и дошел, по словам Дашковой, до такой нелепости, что, не имея по своим отношениям никакого на то права, давал совет в деле такой важности между матерью и сыном.
Уязвленная с двух сторон, Дашкова написала саркастическое письмо к Румянцеву, в котором объясняла ему, что «между разными глупостями, которыми полна ее голова, по счастью, нет особенно преувеличенного уважения к аристократическому происхождению; но что если б она была одарена таким замечательным красноречием, как граф, то употребила бы его на то, чтоб показать превосходство хорошего воспитания над дурным».
К сыну письмо ее поразительно просто, вот оно: «Когда твой отец вознамерился жениться на графине Воронцовой, он на почтовых поехал в Москву испросить позволение своей матери. Ты женат; я это знала прежде, да знаю и то, что моя свекровь не больше меня заслуживала иметь друга в своем сыне».
Должно быть, и после этого объяснения семейные дела ее много огорчали. Ее дочь рассталась с мужем. Госпожа Уилмот пропустила несколько страниц в «Записках», после которых Дашкова продолжает так: «Всё было черно в будущем и в настоящем… Я так исстрадалась, что иной раз приходила мне в голову мысль о самоубийстве».
Итак, демон семейных неприятностей сломил и ее так, как сломил многих сильных. Семейные несчастья оттого так глубоко подтачивают, что они подкрадываются в тиши и что борьба с ними почти невозможна; в них победа бывает худшее. Они вообще похожи на яды, о присутствии которых узнаешь тогда, когда болью обличается их действие, то есть когда человек уже отравлен…
Между тем пришла и Французская революция. Екатерина, состарившаяся, износившаяся в разврате, бросилась в реакцию. Это уж не заговорщица 28 июня, говорившая Бецкому: «Я царствую по воле Божией и по избранию народному», не петербургский корреспондент Вольтера, не переводчик Беккариа и Филанжери, разглагольствующий в «Наказе» о вреде цензуры и о пользе собрания депутатов со всего Царства Русского[81]81
«Наказ» Екатерины II Комиссии нового уложения, открытой в 1767 году. Большинство пунктов «Наказа» составляли выписки из книги Монтескье «О духе законов» и из труда итальянского юриста Беккариа «О преступлениях и наказаниях». – Прим. ред.
[Закрыть]. В 1792 году мы в ней находим старуху, боящуюся мысли, достойную мать Павла… И как бы в залог того, что дикая реакция еще надолго побьет все ростки вольного развития на Руси, перед ее смертью родился Николай; умирающая рука Екатерины могла еще ласкать того, кому было суждено скомандовать «баста» петровской эпохе и тридцать лет задерживать путь России!
Дашкова, аристократка и поклонница английских учреждений, не могла сочувствовать революции; но еще менее могла она разделять лихорадочную боязнь слова. Екатерина испугана брошюркой Радищева; она видит в ней «набат революции». Радищев схвачен и сослан без суда в Сибирь. Брат Дашковой Александр Воронцов, любивший и покровительствовавший Радищеву, вышел в отставку и уехал в Москву.
Черед Дашковой. Вдова Княжнина просила ее издать на счет академии, в пользу детей, последнюю трагедию ее мужа. Сюжет был взят из истории покорения Новгорода. Княгиня велела ее напечатать. Фельдмаршал Салтыков, которого, говорит Дашкова, «нельзя было обвинить, чтоб он когда-либо прочел какую-нибудь книгу», прочел именно эту и натолковал Зубову о ее вредном направлении. Зубов сказал императрице. На другой день петербургский полицмейстер приехал в библиотеку академии отбирать экземпляры зажигательной трагедии якобинца Княжнина; а вечером сам генерал-прокурор Самойлов приехал к Дашковой объявить о неудовольствии императрицы за издание опасной пьесы. Дашкова холодно отвечала ему, что, верно, никто не читал эту трагедию и что она, без сомнения, меньше вредна, чем французские пьесы, которые дают в Эрмитаже.









































