Читать книгу "Записки княгини Дашковой"
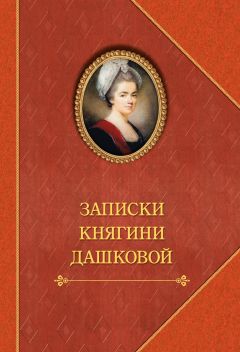
Автор книги: Александр Герцен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сборник
Записки княгини Дашковой
© «Захаров», 2016
Предисловие
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, дочь графа Романа Илларионовича Воронцова и жены его, урожденной Сурминой, родилась 17 марта 1744 года, умерла 4 января 1810 года. Ее записки, называющиеся в рукописи «Mon histoire», написаны приблизительно в 1804–1806 годах и обнимают время до 1803 года. В основе записок лежат, вероятно, какие-нибудь заметки и записи, сделанные в течение длинного ряда лет, современно событиям: этим только и может быть объясняема полная хронологическая точность в описании мельчайших событий, происходивших за 30–35 лет до времени написания записок.
Записки Дашковой впервые были напечатаны на английском языке, в 1840 году; затем – на немецком, в 1857 году, на английском снова – в 1858 году, на французском и на русском – в Лондоне в 1859 году. В 1881 году они были напечатаны по подлинной рукописи, на французском языке, в Москве, в XXI книге «Архива князя Воронцова»; в 1906 году перевод их появился на страницах «Русской старины». Для настоящего издания перевод сделан по тексту, напечатанному в «Архиве князя Воронцова».
Когда Дашкова рассказывает о событиях, непосредственно ее не затрагивавших, безразличных для ее честолюбия, – она сообщает весьма ценные сведения; она умела в таких случаях верно подметить всё существенное, выдвинуть главное, умела правильно оценивать события и лица. Ее рассказы о царствовании Петра Федоровича блестящим образом свидетельствуют о даре наблюдательности и рисуют живую и верную картину этого странного времени, а многие отдельные эпизоды, ею передаваемые, почти до мелочей подтверждаются показаниями других очевидцев, например Болотова, донесениями иностранных представителей в Петербурге и даже письмами самого Петра Федоровича к Фридриху Великому. Любопытные штрихи дает Дашкова и в своих замечаниях о московском быте, с которым она познакомилась в сравнительно кратковременное свое пребывание в Москве вскоре после свадьбы.
Осторожнее надо относиться к тем страницам, где Дашкова говорит о своем непосредственном участии в том или другом событии, вообще – о чем-либо живо и непосредственно ее затрагивающем. Некоторые особые черты характера княгини Дашковой вызывают в таких случаях необходимость старательно проверять ее рассказы.
«С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собою моих близких», – говорит Дашкова в самом начале своих «Записок». Эта черта сохранилась навсегда в характере княгини и даже с течением времени развилась в высшей степени: княгиня Дашкова не только все более и более хотела интересовать собою своих близких, но привыкла считать себя чем-то совершенно особенным, центром всех совершающихся на ее глазах событий; были ли это события крупные или второстепенные, – княгине всегда представлялось, что она тот центр, к которому направлены все самые разнообразные чувства других свидетелей и участников, которые только группируются около нее как величины далеко меньшего значения. Если что-нибудь делалось не так, как бы она желала, – по ее убеждению, это было непременно результатом особенных усилий и интриг, специально против нее направленных, вследствие зависти к ней; если ей оказывали внимание, любезно принимали ее при каком-нибудь дворе, – ей всегда представлялось, что никому другому никогда такого внимания не оказывалось; всякий, самый обычный комплимент она принимала непременно за чистую монету, за невольное выражение чувств, которые, быть может, иногда хотелось бы даже и скрыть и т. д.; во всех таких случаях необходима тщательная проверка рассказов княгини, и нередко открывается, что княгиня Дашкова в лучшем случае сильно заблуждалась.
Такую чрезмерно субъективную окраску дает она, прежде всего, описанию того эпизода, которому сама же отводит исключительное место в своем повествовании, именно перевороту 1762 года; Дашкова чрезмерно преувеличивает свою роль и значение в нем. Императрица Екатерина в первые же дни по воцарении писала Станиславу Понятовскому между прочим: «…шесть месяцев я была в сношениях со всеми вождями заговора, прежде чем Дашкова узнала хоть одно имя». Но если даже усомниться, лучше ли знала Екатерина о связях заговорщиков, чем Дашкова, – хотя, конечно, дело неизмеримо ближе касалось императрицы, – то в рассказах самой Дашковой можно найти доказательства, что она неверно оценивает свое участие в заговоре. Прежде всего, Дашкова ни разу не сообщает достаточно и определенно, где, когда и как сговаривалась она с офицерами, хотя рядом же передает с большою обстоятельностью совершенно незначительные разговоры; вероятно, надо представлять себе дело так, что Дашкова заговаривала со многими на щекотливую тему о перевороте, и, не встречая возражений, частью потому, что большинство думало так же, частью – по весьма естественной осторожности собеседников, она сейчас решала, что это она именно первая, и внушила людям такие мысли. Соловьев совершенно правдоподобно истолковал появление у Дашковой вечером 27 июня двух братьев Орловых одного за другим как наблюдение, что делает эта молодая женщина, к тому же сестра фаворитки императора. Рассказ самой Дашковой, что она улеглась спать около полуночи 27 июня и явилась уже во дворец в седьмом часу утра, когда всё было кончено, слишком ясно свидетельствует, можно ли считать ее руководительницею заговора; а когда сама же Дашкова признается, что лишь после переворота она поняла, какие отношения существуют между Екатериною и Григорием Орловым, то можно ли сомневаться, что у императрицы с нею далеко не было такой близости, как стремится представить это Дашкова.
Допускала Дашкова очевидные неточности и в передаче других эпизодов, близко ее интересовавших: так, например, она говорит, что последние 10–12 дней своего пребывания в Париже она была почти неразлучна с Дидро, но его беседы почти не передает, зато сообщает, что после ее речи о крепостном праве в России, которую она текстуально и приводит, философ воскликнул, в сильнейшем душевном движении: «Quelle femme vous êtes! Vous bouleversez des ideés que j'ai chéries et nourries pendant 20 ans!» Дидро в своей заметке, посвященной знакомству с Дашковой, говорит, что был у нее четыре раза, и ничем не дает понять, чтобы она произвела на него сколько-нибудь глубокое впечатление, а очевидно, что в этом отношении Дидро бесспорно лучший судья, чем его собеседница.
По поводу пожалования имения Круглое Дашкова говорит, что она, конечно, не напоминала и не просила о прибавке, на которую, по ее мнению, имела полное право, – но сохранилось документальное доказательство, что она и напоминала, и просила. Дашкова постоянно говорит, что испытывала стеснение в средствах, рассказывает, что она многое раздавала родным, по ее словам, конечно, без процентов и даже без отдачи, но после ее смерти осталось наличными деньгами до 70 000 рублей – сумма по тому времени громадная, и остались письма к родным, где она не только напоминает о долгах, но очень аккуратно высчитывает и проценты.
При всей субъективности «Записки» княгини Дашковой представляют тем не менее весьма ценный исторический памятник – и потому, что содержат интересные истории, и особенно как произведение, рисующее портрет весьма выдающейся женщины. Деятельность княгини Дашковой в академии была действительно замечательна и полезна для русского просвещения. И в этом случае мы почитаем нелишним представить некоторые фактические дополнения к тому, что говорит о своем президентстве княгиня Дашкова, посвящающая этому периоду своей жизни гораздо меньше внимания, чем он заслуживает сравнительно с участием ее в перевороте 1762 года и с заграничным путешествием, очень подробно и обстоятельно изложенным в ее записках.
Двадцать четвертого января 1783 года последовал именной указ Сенату: «Дирекция над С.-Петербургскою Академиею наук препоручается статс-даме княгине Дашковой».
За двенадцать лет своего управления Академиею наук Дашкова упорядочила ее хозяйство, уплатила долги академии и даже собрала некоторый капитал: довольно значительную сумму доставила продажа академических изданий, которые получили значительное распространение, когда, по решению Дашковой, понижена была их цена. Небывалым до того времени успехом пользовались и два учено-литературных периодических издания, основанные Дашковой при академии: «Собеседник любителей российского слова» и «Новые ежемесячные сочинения», к сотрудничеству в которых Дашкова привлекла все лучшие литературные силы своего времени; в «Собеседнике» участвовала и сама императрица. Княгиня Дашкова возобновила при академии общедоступные курсы, которые читались раньше, но прекратились при ее предшественнике, Домашневе; ежегодно, в течение четырех летних месяцев, академики Озерецковский, Котельников, Северин и другие читали лекции по естественной истории, математике, минералогии и т. п. В управлении академиею Дашкова руководствовалась по преимуществу советами И.И.Лепехина, и выбор этого достойнейшего человека и отличного ученого делает большую честь уму и такту княгини.
Тридцатого сентября 1783 года по мысли Дашковой учреждена была и вверена ей же в управление Российская академия. Дашкова весьма энергично повела это новое дело. Почти все члены Российской академии были избираемы по ее рекомендации, и в академии соединился, без преувеличения, весь цвет тогдашней русской интеллигенции – писатели, духовные иерархи, государственные деятели. Из 364 заседаний академии, происходивших за время управления ею Дашковой, 263 происходили под ее личным председательством и часто у нее на дому. Первым делом академики приступили к составлению словаря. Дашкова принимала в этом деле весьма активное участие. По отзыву Сухомлинова, этот «Словарь Российской академии, расположенный по словопроизводному порядку» составлял в свое время гордость и славу академии: позднейшие поколения ученых и писателей отзываются о нем также с большим уважением, находя, что академия верно поняла свое призвание и принесла существенную пользу тогдашней нашей литературе.
В 1794 году, после нового охлаждения отношений с императрицей, Дашкова уехала в продолжительный отпуск и более не видалась с Екатериной. В декабре 1796 года по повелению Павла Петровича она должна была уехать из Москвы и до весны 1798 года, когда получила разрешение вернуться в подмосковную, провела в отдаленной своей деревне Коротово. При Александре I она жила в столицах и в своем Троицком. Последние годы ее были печальны и унылы. Отношения с дочерью и сыном были совершенно порваны. Сын княгини Дашковой умер в 1807 году, женатым, но бездетным; дочь свою, Щербинину, она лишила наследства и передала его, вместе с фамилией Дашкова, своему двоюродному племяннику, графу Ивану Илларионовичу Воронцову, получившему фамилию Воронцова-Дашкова.
Княгиня Дашкова представляет весьма заметную и весьма оригинальную фигуру среди деятелей екатерининского царствования. Едва ли можно указать другую женщину, которая бы в 18 лет принимала участие в заговоре, а в 38 лет была президентом двух академий. Всем, что прославило Дашкову, она обязана своему характеру, своей энергии и решительности: характер господствовал у нее и над умом, во всяком случае тоже недюжинным.
Николай Чечулин
Записки княгини Дашковой
Часть первая. 1744–1782
Я родилась в 1744 году в Петербурге. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей честью я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже – великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах и нуждалась в деньгах на содержание дома и на наряды, которые очень любила.
Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии узнала от ее друзей и людей, хорошо знавших ее и вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, насколько она была добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это несчастье, я находилась у своей бабушки с материнской стороны в одном из ее богатых имений и оставалась там до четырехлетнего возраста, когда ее с трудом удалось убедить привезти меня в Петербург с целью дать мне надлежащее воспитание, а не то, какое я могла получить из рук добродушной старушки бабушки. Спустя несколько месяцев канцлер, старший брат моего отца, вовсе изъял меня из теплых объятий моей доброй бабушки и стал воспитывать меня со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи – всё должно было сделать из нас совершенно одинаковых существ; между тем трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни (обращаю на это внимание тех людей, которые мнят себя сведущими в воспитании и измышляют собственные теории относительно столь важного предмета, имеющего решающее значение для дальнейшей жизни и для счастья людей и вместе с тем столь мало ими исследованного, может быть, вследствие того, что все его многочисленные разветвления не могут быть восприняты во всем своем объеме одним умом).
Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода.
Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя, из дружбы к нему и из чувства благодарности к моей покойной матери, взялся за мое воспитание. Мои две старшие сестры[1]1
Мария, в замужестве Бутурлина, и Елизавета, впоследствии Полянская. – Прим. авт. (Здесь и далее, если не указано иное.)
[Закрыть] находились под покровительством императрицы и, будучи еще в детском возрасте назначены фрейлинами, жили при дворе. В родительском доме оставался только мой старший брат Александр, и я только его одного знала с детства; мы с ним часто виделись, и между нами с раннего возраста возникла привязанность, которая с годами превратилась в неослабное взаимное доверие и верную дружбу. Мой младший брат жил у дедушки в деревне, и по возвращении его в город я его редко видела, так же как и моих сестер. Я останавливаюсь на этом, потому что эти обстоятельства оказали влияние на мой характер.
Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы – по своему времени – получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать; некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев; у нас были изысканные и любезные манеры, и потому немудрено, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего. Дядя был слишком занят, и у него не хватало на это времени, а у тетки не было к тому ни способностей, ни призвания: ее характер представлял из себя странное сочетание гордости с необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца. Только благодаря случайности – кори, которою я заболела, – мое воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из меня ту женщину, которою я стала впоследствии.
С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собой моих близких, но когда, в возрасте тринадцати лет, мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества. К тому времени был издан указ, в силу которого воспрещались всякие сношения с двором тем семействам, в среде которых появлялись прилипчивые болезни вроде оспы, кори и т. п. из опасения, чтобы великий князь Павел, впоследствии император Павел I, ими не заразился. При первых же признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга. Кроме моих горничных меня сопровождали одна немка и жена одного майора; но я их не любила и общение с ними не удовлетворяло моего чувствительного любящего сердца и тех понятий о счастье, которые я соединяла с присутствием родных и нежных друзей. Болезнь моя пала главным образом на глаза и лишила меня возможности заниматься чтением, к которому я пристрастилась.
Глубокая меланхолия, размышления над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум. Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно. Когда мои глаза выздоровели, я отдалась чтению. Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескьё, Вольтер и Буало. Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно, и силилась приобрести все преимущества, даруемые мужеством, твердостью и душевным спокойствием. Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружавшим меня равнодушием. Я была довольна и покойна, только когда погружалась в чтение или занималась музыкой, развлекавшей и умилявшей меня; когда же я выходила из своей комнаты, всегда грустила; иногда я просиживала за чтением целые ночи напролет, что в связи с моим настроением придавало мне болезненный вид, беспокоивший не только моего почтенного дядюшку, но и императрицу Елизавету. По ее приказанию меня стал лечить ее лейб-медик Бургав. Внимательно осмотрев меня, он объявил, что физическое мое состояние не оставляет желать ничего лучшего, а что болезненные явления, встревожившие моих друзей, вызваны какой-нибудь сердечной заботой, вследствие чего меня стали осаждать вопросами, не коренившимися, однако, в любви или действительной заботе обо мне. Потому-то я и не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно, – может быть, то что я сказала бы, было бы принято за упрек. Я и решила не открывать поглощавшей меня тайны и объявила, что мой болезненный вид происходит исключительно от головных болей и расстроенных нервов.
Тем временем ум мой зрел и укреплялся. На следующий год, перечитывая книгу «О разуме» Гельвеция, я пришла к заключению, что если бы не было второго тома этой книги, более приспособленного к пониманию большинства людей, и если бы ее теория не была приноровлена к состоянию вещей и человеческого ума, свойственному массам, то она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующую все столь разнородные части, составляющие государственность. Я потому останавливаюсь на этих мыслях, что они доставили мне впоследствии немало истинных наслаждений.
Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы, желая прослыть меценатом, выписывал из Франции все вновь появлявшиеся книги. Он оказывал особенное внимание иностранцам; от них он узнал о моей любви к чтению; ему были переданы и некоторые высказанные мною мысли и замечания, которые ему так понравились, что он предложил снабжать меня всеми литературными новинками. Я особенно оценила его любезность на следующий год, когда вышла замуж и мы переехали в Москву, где в книжных лавках можно было найти только старые, известные сочинения, к тому же уже входившие в состав моей библиотеки, заключавшей в себе к тому времени 900 томов. В этом году я купила энциклопедию и словарь Морери. Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги; все мои карманные деньги уходили на покупку книг.
Иностранные артисты, литераторы и министры всевозможных иностранных дворов, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего дядю, должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления; я сравнивала их страны с моей родиной, и во мне пробудилось горячее желание путешествовать; но я думала, что у меня никогда не хватит на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность не вынесут бремени болезненных ощущений, уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца. Я думала, что достигла уже всего, и если бы кто-нибудь мог тогда предсказать страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию: у меня уже появлялось предчувствие, подсказывавшее мне, что я буду несчастна.
Нежность, которую я питала к брату моему, графу Александру, побуждала меня писать ему часто и аккуратно. Я писала ему два раза в месяц и сообщала городские, дворцовые и военные новости. Этой переписке я обязана сжатым и образным слогом. Мне хотелось заинтересовать его и сделать ему удовольствие, и худо ли, хорошо ли я пишу, своим слогом я обязана этим дневникам, которые я писала для горячо любимого брата.
В ту же зиму великий князь, впоследствии император Петр III, и великая княгиня, справедливо названная Екатериной Великой, приехали к нам провести вечер и поужинать. Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием; она была убеждена, что я всё свое время посвящаю чтению и занятиям, что и привлекло мне ее уважение, оказавшее столь большое влияние на всю мою жизнь и вознесшее меня на такой пьедестал, о котором я никогда не смела и мечтать. Я смело могу утверждать, что, кроме меня и великой княгини, в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце; однако она имела в нем сильного соперника в лице князя Дашкова, с которым я была обручена; но вскоре и он проникся моим образом мыслей, и между ними исчезло всякое соперничество. Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила меня своим разговором. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня как одна минута. Он и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь будет ниже.
Однако мне надо в своем повествовании вернуться к июлю и августу, предшествовавшим этому вечеру. Мой дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и в Царском Селе; легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе; я изредка ездила в Итальянскую оперу и бывала только в двух домах: у княгини Голицыной, которая очень любила меня, также как и ее муж, шестидесятипятилетний старик, человек очень интересный, и у госпожи Самариной, муж которой принадлежал к числу приближенных моего дяди и бывал у нас почти каждый день. Госпожа Самарина была как-то больна, и я пошла провести с нею вечер и поужинать у нее, вследствие чего я отправила свою карету, приказав кучеру приехать за мной к одиннадцати часам вместе с моей горничной. Вечер был чудесный, и сестра госпожи Самариной предложила мне отправить мою карету вперед и пройтись с ней пешком до конца мало людной улицы. Я согласилась, тем более что мне необходим был моцион. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном. Меня это поразило, и когда он был в двух шагах от нас, я спросила свою спутницу, кто это такой. Она назвала князя Дашкова. Я его никогда еще не видала. Будучи знаком с Самариными, он вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне. Впоследствии я не прочь была приписать эту встречу и благоприятное впечатление, которое мы произвели друг на друга, особому соизволению Промысла Божия, которого мы не могли избегнуть; так как если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди, куда он не имел доступа, мне пришлось бы одновременно услышать и неблагоприятные для него отзывы и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы всякие помыслы о браке с ним. Я не знала, что он слышал и что ему было известно обо мне до этой встречи; но несомненно, его связь с очень близкой моей родственницей, которую я не могу назвать, и его виновность перед ней должны были отнять у него всякую мысль, всякое желание и всякую надежду на соединение со мной.
Словом, мы не были знакомы друг с другом, и, казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться; но Небо решило иначе. Не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца, и наша семья не поставила никаких препятствий нашему браку, а его мать, очень желавшая женить сына и тщетно и непрестанно умолявшая его выбрать жену, была вне себя от радости, когда узнала о принятом им решении вступить в брак. Хотя он и отверг невесту, намеченную ею для него, она осталась довольна его выбором и тем, что он породнится с нашей семьей. Как только князь убедился, что может найти счастье только в браке со мной, он, заручившись от меня согласием поговорить об этом с моими родителями, попросил князя Голицына просить руки у моего отца и дяди в первый же раз, как он будет в Петергофе, и просить их держать это обстоятельство в тайне до возвращения его из Москвы, куда он отправился, чтобы испросить разрешение и благословение своей матери на наш брак.
До отъезда князя ее величество приехала однажды в Итальянскую оперу в свою закрытую ложу, находившуюся рядом с нашей. Ее сопровождали только мой дядя и Шувалов, и так как она намеревалась ужинать после оперы у моего дяди, я осталась дома, чтобы принять ее; князь был со мной. Императрица отнеслась с большой добротой ко мне и к моему жениху и, как настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила, что знает нашу тайну, похвалила сыновнее почтение и повиновение князя своей матери, пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет всегда принимать участие в нашей судьбе, и в заключение сказала князю, что велит Бутурлину дать ему шестимесячный отпуск для его путешествия. Доброта и очаровательная нежность, которыми ее величество нас осчастливила, до того умилили меня, что мое волнение стало очевидным и своей интенсивностью не могло не отразиться вредно на мне. Императрица ласково потрепала меня по плечу и сказала:
– Успокойтесь, дитя мое, а то, пожалуй, подумают, что я вас бранила.
Я никогда не забыла этой сцены, еще сильнее привязавшей меня к государыне, обнаружившей такое доброе сердце.
По возвращении своем из Москвы князь представился всей моей семье, но свадьба наша была отложена до февраля вследствие тяжелой и опасной болезни моей тетки, жены канцлера; но и к этому новому сроку моя тетка еще лежала в постели вследствие рецидива; поэтому наша свадьба была отпразднована без малейшего блеска и нам удалось уехать в Москву только в начале мая, когда здоровье моей тетки не внушало уже никаких опасений. Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала тем более, что она ничем не походила на всё то, к чему я привыкла. Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня состояла вся из стариков и старушек, которые относились ко мне очень снисходительно вследствие того, что мой муж был их общим любимцем и все они сильно желали, чтобы он женился, так как он был последний князь Дашков; но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи, вызвавшие единодушное одобрение со стороны моих почтенных родных, в отношении которых я проявила до конца их жизни нежную и почтительную заботливость, завоевавшую их искреннюю дружбу, не ослабевшую даже после смерти моего мужа, когда всякая другая женщина двадцати лет могла бы считать соединявшие нас родственные узы расторгнутыми.
На следующий год, 21 февраля, я родила дочь; в мае мы уехали со свекровью в Троицкое. В обществе моего клавесина и моей библиотеки время для меня летело быстро. В июле мы с мужем посетили его орловские поместья. Я была снова беременна, но доро́гой князь окружил меня таким заботливым попечением, что это путешествие не принесло мне никакого вреда. Когда мы вернулись в Москву, отпуск моего мужа подходил к концу и мы написали моему отцу, чтобы он испросил нам разрешение его продлить.
Императрица Елизавета была слаба и часто болела, и ее приближенные стали ухаживать за наследником; кажется, это и доставило великому князю более прямое командование лейб-гвардии Преображенским полком, в котором он числился подполковником; мой муж был штабс-капитаном в том же полку, так что пришлось испрашивать у великого князя продление отпуска еще на пять месяцев, дабы я могла оправиться после родов. Великий князь, может быть, думая сделать любезность, объявил, что не разрешит отпуска, если князь не приедет на две недели в Петербург. Мой отец настаивал на том, чтобы мой муж приехал, уверяя его, что великий князь настроен очень дружественно. Я была безутешна, и мысль о разлуке с мужем меня так печалила, что я не могла даже наслаждаться его присутствием, пока он был еще со мной, и с грустью думала о горестной разлуке и печальном прощании. Такое состояние духа отразилось на моем здоровье, и когда, наконец, мой муж уехал 8 января, я была так огорчена, что у меня сделался жар, который скорей гнездился в моих нервах и моем мозгу, чем в крови; кажется, благодаря тому, что я упорно отказывалась принимать лекарства, предписанные мне докторами, через несколько дней у меня всё прошло. Я много плакала и этим облегчила свое стесненное сердце и натянутые нервы и благодаря наступившей большой слабости и нежным попечениям моей младшей золовки я отложила в сторону свое перо, которым собиралась писать день и ночь своему мужу.
Не надо забывать, что мне было всего семнадцать лет и что я страстно любила его. Их императорские высочества были очень милостивы к нему и приглашали его принимать участие в катании на санях в Ораниенбауме, вследствие которого он простудился и схватил ангину. Но, зная, что его мать и жена будут сильно беспокоиться, если он не приедет в назначенный день, он выехал из Петербурга с больным горлом. Во время путешествия он выходил из экипажа только для того, чтобы смочить горло чаем. Подъезжая к московской заставе, он почувствовал, что потерял голос и не может выговорить ни слова; зная, что его появление в таком виде среди нас может повлечь за собой тяжелые последствия, так как его мать и жена теряли головы при малейшем его нездоровье, он знаком объяснил своему лакею, что желает сперва поехать к своей тетке Новосильцевой, чтобы прополоскать горло, дабы иметь возможность сказать хоть несколько слов по приезде к нам; но тетка, видя его совершенно больным, заставила его лечь в постель и послала за доктором. Решили задержать почтовых лошадей, чтобы не возбуждать наших подозрений, и на следующий день приехать к нам как бы прямо из Петербурга; доктор нашел, что князь начинает потеть, и велел ему оставаться в постели до утра. Это было 1 февраля, и хотя мороз не был велик, но безопаснее было не подвергать больного риску новой простуды.









































