Читать книгу "Записки княгини Дашковой"
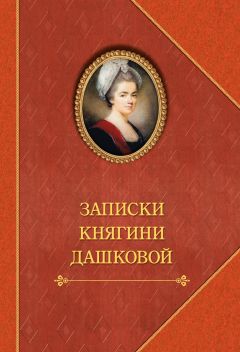
Автор книги: Александр Герцен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Екатерина, со своей стороны, посылает ей свои статьи и с большой настойчивостью требует, чтоб она их никому не показывала. «При тех обстоятельствах, при которых я обязана жить, всякий самый ничтожный повод послужит к самым неприятным вымыслам». Она до того боится, что просит Дашкову адресовать письма на имя ее горничной Катерины Ивановны и жжет их, прочитав. Что она называет «ничтожными поводами», можно догадаться по одному письму, где она опять говорит о своей рукописи; Дашкова возвратила ее с большими похвалами, удостоверяя, что она не выходила из ее рук. О содержании рукописи нигде не сказано ни слова; но что это не были «правильные и поэтические стихи», это видно из следующих слов: «Вы снимаете с меня мои обязанности относительно моего сына, я вижу в этом новое доказательство доброты вашего сердца. Я была глубоко потрясена знаками преданности, которыми меня встретил народ в тот день. Никогда не была я так счастлива». Это письмо писано вскоре после смерти императрицы Елизаветы, но мы еще не дошли до ее кончины.
В конце декабря 1761 года разнесся слух, что Елизавета очень больна. Дашкова, распростуженная, лежала в постели, когда до нее дошла эта весть. Мысль об опасности, угрожавшей великой княгине, поразила ее, она с нею так же мало могла улежаться, как с мыслью о болезни мужа; а потому, закутавшись в шубу, морозной ночью 20 декабря отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила царская фамилия. Не желая, чтоб ее видели, Дашкова оставила карету на некотором расстоянии от дворца и пошла пешком на маленькое крыльцо с той стороны, где были комнаты великой княгини, не зная вовсе к ним дороги. По счастью, она встретилась с Катериной Ивановной, известной горничной Екатерины; та сказала ей, что великая княгиня в постели, но Дашкова требовала, чтоб доложили, говоря, что ей непременно надобно видеться с ней сейчас. Горничная, знавшая ее и ее преданность великой княгине, повиновалась. Екатерина, знавшая, что Дашкова серьезно больна и, следственно, без особенно важных причин не явилась бы ночью в мороз, велела ее принять. Сначала она осыпала ее упреками за то, что та не бережется, и, видя, что она озябла, сказала ей: «Милая княгиня, прежде всего вас надобно согреть, подите сюда ко мне в постель, под одеяло». Укутав ее, она спросила наконец, в чем дело.
– В теперешнем положении дел, – отвечала Дашкова, – когда императрице остается жить только несколько дней, может, несколько часов, надобно, не теряя времени, принять меры и отвратить от вас грозящую опасность. Бога ради, доверьтесь мне, я докажу вам, что достойна этого. Если вы уже имеете определенный план, употребите меня, распоряжайтесь мной, я готова.
Великая княгиня залилась слезами и, прижимая руку Дашковой к сердцу, сказала ей:
– Уверяю вас, что у меня никакого плана нет, я не могу ничего предпринять и думаю, что мне остается одно – ожидать с твердостью, что случится. Я отдаюсь на волю Божию и на Него одного полагаю мои надежды.
– В таком случае ваши друзья должны действовать за вас. Что касается до меня, я чувствую в себе довольно силы и усердия, чтоб их всех увлечь, и поверьте мне, что нет жертвы, которая бы меня остановила.
– Ради Бога, – перебила Екатерина, – не подвергайте себя опасности в надежде противодействовать злу, которое, в сущности, кажется неотвратимым. Если вы погубите себя из-за меня, вы только прибавите к моей несчастной судьбе вечное мучение.
– Всё, что я могу вам сказать, – это что я не сделаю шага, который мог бы вас запутать или быть опасен вам. Что бы ни было, пусть падет на меня, и если моя слепая преданность к вам поведет меня на эшафот, вы никогда не будете ее жертвой[75]75
Дидро в чрезвычайно интересной статье своей о знакомстве с Дашковой, говоря об этом происшествии, прибавляет, что Екатерина сказала ей: «Вы или ангел, или демон». «Ни то ни другое, – отвечала Дашкова, – но императрица умирает, и вас надобно спасти». – Прим. Герцена.
[Закрыть].
Великая княгиня хотела возражать, но Дашкова, прерывая ее речь, взяла ее руку, прижала к губам и, сказав, что боится продолжать беседу, просила ее отпустить. Глубоко тронутые, они оставались несколько минут в объятиях друг друга, и Дашкова осторожно покинула до высшей степени взволнованную Екатерину.
Добавим к этой чувствительной сцене, что Екатерина все-таки обманула Дашкову; она поручала свою судьбу в это время не одному Богу, но и Григорию Орлову, с которым обдумывала свой план, и Орлов уже секретно старался вербовать офицеров.
В Рождество императрица скончалась. Петербург мрачно принял эту новость, и сама Дашкова видела, как Семеновский и Измайловский полки проходили угрюмо и с глухим ропотом мимо ее дома. Петр III, провозглашенный императором, не хранил никакого декорума, попойки продолжались. Через несколько дней после смерти Елизаветы он посетил отца Дашковой и через ее сестру изъявил свое неудовольствие, что не видит ее при дворе. Нечего было делать, Дашкова отправилась; Петр, понизив голос, стал ей говорить о том, что она не умеет себя держать относительно своей сестры, что она, наконец, навлечет на себя ее негодование и может потом очень горько раскаяться в том, «потому что легко может прийти время, в которое Романовна (так называл он свою любовницу) будет на месте той».
Дашкова сделала вид, что не понимает, и поторопилась занять свое место в любимой игре Петра III. В этой игре (campis) каждый играющий имеет несколько марок; у кого остается последняя, тот выигрывает. В игру каждый клал десять империалов, что по тогдашним доходам Дашковой составляло немалую сумму, особенно потому, что, когда проигрывал Петр, он вынимал марку из кармана и клал ее в пулю, таким образом почти всегда выигрывая.
Как только игра кончилась, государь предложил другую. Дашкова отказалась; он до того пристал к ней, чтоб она играла, что, пользуясь «правами избалованного ребенка», она сказала, что недостаточно богата, чтобы проигрывать наверное, что если б его величество играл как все, то по крайней мере были бы шансы выигрыша. Петр III отвечал своими «привычными буффонствами», и Дашкова откланялась.
Когда она проходила соседний зал, наполненный придворными и разными чинами, то подумала, что попала на маскарад, – никого нельзя было узнать. Она не могла смотреть спокойно на семидесятилетнего князя Трубецкого, одетого в первый раз отроду в военный мундир, затянутого, в сапогах со шпорами, словом, готового на самый отчаянный бой. «Этот жалкий старичишка, – прибавляет она, – представлявшийся больным и страждущим, как это делают нищие, лежал в постели, пока Елизавета кончалась; ему стало лучше, когда был провозглашен Петр III; но, узнав, что всё обошлось хорошо, он тотчас вскочил, вооружился с ног до головы и явился героем в Измайловский полк, по которому числился».
Кстати о мундирах, этой пагубной страсти, которая перешла от Петра III к Павлу, от Павла ко всем его детям, ко всем генералам, штаб– и обер-офицерам. Панин, заведовавший воспитанием Павла, сетовал на то, что Петр III ни разу не присутствовал при его испытаниях. Голштинские принцы, его дяди, уговорили его наконец; он остался очень доволен и произвел Панина в генералы от инфантерии. Чтоб понять всю нелепость этого, надобно себе представить бледную, болезненную фигуру Панина, любившего чопорно одеваться, тщательно чесавшегося, пудрившегося и напоминавшего царедворцев Людо вика XIV. Панин ненавидел капральский тон Петра III, мундиры и весь этот вздор. Когда Мельгунов привез ему радостную весть о генеральстве, Панин хотел лучше бежать в Швецию на житье, чем надеть мундир. Это дошло до Петра III; он переименовал назначение в соответствующий статский чин, но не мог надивиться Панину. «А я, право, – говорил он, – всегда считал Панина умным человеком!»
Пока Петр III рядил в героев своих придворных, шли обычные церемонии похорон. Императрица не выходила из своих комнат и являлась только на панихиды. Изредка приходил и Петр III и всегда держал себя неприлично, шептался с дамами, хохотал с адъютантами, насмехался над духовенством, бранил офицеров и даже рядовых за какие-нибудь пуговицы. «Неосторожно, – говорил английский посол Кейт князю Голицыну, – начинает новый император свое царствование, этим путем он дойдет до презрения народного, а потом и до ненависти».
Петр III как будто нарочно делал всё, чтоб возбудить эту ненависть. Раз вечером, при Дашковой, император разглагольствовал, по обыкновению, о своем поклонении Фридриху II и вдруг, обращаясь к статс-секретарю Волкову, который был при Елизавете главным секретарем Верховного совета, спросил его, помнит ли он, как они хохотали над постоянной неудачей тайных повелений, посылаемых в действующую армию. Волков, заодно с великим князем сообщавший прусскому королю все распоряжения и таким образом уничтожавший их действие, до того растерялся от слов Петра III, что чуть не упал в обморок. Но император продолжал шуточным тоном рассказывать, как они во время войны предавали неприятелю страну, в которой он был наследником престола.
При заключении мира с прусским королем, в котором он постыдно уступил всё купленное русской кровью, не было меры радости и ликованию. Праздник следовал за праздником. Между прочим Петр III дал большой обед, на который были приглашены все послы и три первых класса. После обеда государь предложил три тоста, которые пили при пушечной пальбе, – за здоровье императорской фамилии, за здоровье прусского короля, за продолжение заключенного мира. Когда императрица пила тост за царскую фамилию, Петр III послал своего адъютанта Гудовича, который стоял возле его стула, спросить ее, почему она не встала. Екатерина отвечала, что так как императорская фамилия состоит только из ее супруга, ее сына и ее самой, то она не думала, чтоб его величеству угодно было, чтоб она встала. Когда Гудович передал ее ответ, император велел ему возвратиться и сказать императрице, что она дура и должна знать, что его дяди, голштинские принцы, также принадлежат к императорской фамилии. Этого мало: боясь, что Гудович смягчит грубое выражение, он сам повторил сказанное через стол, так что слышала бо́льшая часть гостей. Императрица в первую минуту не могла удержаться и залилась слезами, но, желая как можно скорее окончить эту историю, обратилась к камергеру Строганову, стоящему за ее стулом, и просила его начать какой-нибудь разговор. Строганов, сам глубоко потрясенный происшествием, начал с притворно веселым видом что-то болтать. Выходя из дворца, он получил приказание ехать в свою деревню и не оставлять ее без особого разрешения.
Происшествие это необыкновенно повредило Петру III; все жалели несчастную женщину, грубо оскорбленную пьяным капралом. Этим расположением, естественно, должна была воспользоваться Дашкова. Она становится отчаянным заговорщиком, вербует, уговаривает, зондирует – и притом ездит на балы, танцует, чтоб не вызывать подозрения. Князь Дашков, обиженный Петром III, что-то отвечал ему перед фрунтом. Княгиня, боясь последствий, выхлопотала ему какое-то поручение в Константинополь и с тем вместе дала совет «торопиться медленно». Удалив его, она окружает себя офицерами, которые вверяются восемнадцатилетнему шефу с полным доверием.
Около Петра III находились и другие недовольные, но заговорщиками они не были и по летам, и по положению; они были рады воспользоваться переменой, но совершать ее, подвергая голову плахе, было трудно какому-нибудь Разумовскому или Панину. Настоящие заговорщики были Дашкова со своими офицерами и Орлов со своими приверженцами. О Разумовском Дашкова говорит: «Он любил Отечество настолько, насколько вообще мог любить этот апатический человек. Погрязший в богатстве, окруженный почетом, хорошо принятый при новом дворе и любимый офицерами, он впал в равнодушие и обленился». Панин был государственный человек и глядел дальше других; его цель состояла в том, чтоб провозгласить Павла императором, а Екатерину правительницей. При этом он надеялся ограничить самодержавную власть. Он, сверх того, думал достигнуть переворота какими-то законными средствами через Сенат.
Всё это далеко не нравилось Дашковой. К тому же ропот и недовольство солдат росло. Позорный мир и безумная война с Данией, которую Петр III хотел начать из-за Голштинии, без всякой серьезной причины, раздражали умы. Война эта сделалась у него пунктом помешательства; сам Фридрих II письменно уговаривал его отложить ее.
Говорят, что молодая заговорщица употребила особые орудия красноречия, чтоб убедить упорного Панина действовать с ней заодно. Панин до того увлекся ее умом, ее энергией и, сверх того, красотой, что на старости лет страстно влюбился в нее. Дашкова со смехом отвергала его любовь, но, не находя других средств сладить с ним, решилась склонить его собою. После этого Панин был в ее руках. Справедливость требует сказать, что княгиня в двух местах своих «Записок» с негодованием опровергает этот слух.
Несмотря на то, что заговорщики могли рассчитывать на Разумовского, на Панина и, сверх того, на новгородского архиепископа; несмотря на то, что множество офицеров было завербовано, – определенного плана действия у них не было. Связанные общей целью, они не могли согласиться в образе действия. Дашкова, снедаемая жгучей деятельностью, сердится на медленность, не знает, что делать, и едет наконец на свою дачу за Красным Кабаком. Дача эта была первой личной собственностью Дашковой, она тотчас принялась за обустройство, роет каналы, разбивает сады. «Несмотря, – говорит она, – на привязанность, которую я имела к этому первому клочку земли, который был мой, я не хотела дать имени моей даче, желая посвятить ее имени того святого, который будет праздноваться в день, когда успех венчает наше великое предприятие». «Дайте скорее название моей даче!» – пишет она императрице, больная, в лихорадке, которую схватила в болоте, заехав в него верхом. Императрица ничего не понимает и думает, что у ее друга в самом деле горячка.
Но белая горячка была у Петра III; пока Дашкова сажает акации и расчищает дорожки, Петр III быстро летит под гору; одна глупость сменяется другою, одна безобразная пошлость – другой, вдвое безобразнейшей. Пророчество Кейта сбывалось, общественное мнение переходило от презрения к ненависти.
Гонения Австрии на греческую церковь в Сербии заставило многих сербов обратиться к императрице Елизавете с просьбой отвести им земли на юге России. Елизавета сверх земель велела отпустить им значительную сумму на подъем и переселение. Один из поверенных, Хорват, хитрый интриган, завладел землей и деньгами и, вместо исполнения условий, на которых была дана земля, стал распоряжаться переселенцами как своими крестьянами. Сербы принесли жалобу, Елизавета велела разобрать дело, но умерла прежде, чем оно кончилось. Хорват, услышав о ее смерти, явился в Петербург и начал с того, что дал по две тысячи червонцев трем лицам, приближенным к Петру III, – Льву Нарышкину, который был кем-то вроде придворного шута, генералу Мельгунову и генерал-прокурору Глебову. Два последних отправились к императору и прямо рассказали ему о взятке. Петр III был очень доволен их откровенностью, расхвалил их и прибавил, что если они дадут ему половину, то он сам пойдет в Сенат и велит решить дело в пользу Хорвата. Они поделились, император сдержал слово и за две тысячи червонцев потерял сотни тысяч новых переселенцев: видя, что их товарищи обмануты правительством, они не рискнули переселяться.
По окончании дела Петр III услышал о том, что Нарышкин скрыл от него свою взятку, и, чтобы наказать его за такой недостаток дружеского доверия, отнял у него всю сумму и потом долгое время поддразнивал, спрашивая, что он делает с хорватскими червонцами.
Вот еще милый анекдот о Петре III. Раз после парада император, очень довольный Измайловским полком, возвращался с Разумовским домой; вдруг он услышал издалека шум: его любимый арап дрался с профосом. Сначала зрелище это понравилось Петру III, но вдруг он сделал серьезное лицо и сказал: «Нарцисс не существует больше для нас». Разумовский, который ничего не мог понять, спросил, что так вдруг опечалило его величество. «Разве вы не видите, – вскричал он, – что я не могу больше держать при себе человека, дравшегося с профосом?! Он обесчещен, навсегда обесчещен». Фельдмаршал, делая вид, что совершенно входит в его глубокие соображения, заметил, что честь Нарцисса можно восстановить, проведя его под знаменами полка. Мысль эта привела Петра III в восторг, он сейчас позвал негра, велел ему пройти под знаменами и, находя это не совсем достаточным, велел оцарапать его пикой знамени, чтоб он мог кровью смыть обиду. Бедный арап чуть не умер от страха, генералы и офицеры едва-едва могли удержаться от негодования и смеха. Один Петр III совершил с величайшей торжественностью весь обряд очищения Нарцисса.
И этот шут царствовал?.. Зато недолго!
Вечером 27 июня Григорий Орлов пришел к Дашковой сказать, что капитан Пассек, один из самых отчаянных заговорщиков, арестован. Орлов застал у нее Панина; терять время, откладывать было теперь невозможно. Один медленный и осторожный Панин советовал ждать завтрашнего дня, узнать прежде, как и за что арестован Пассек. Орлову и Дашковой это было не по сердцу. Первый сказал, что пойдет узнать о Пассеке, Дашкова просила Панина оставить ее, ссылаясь на чрезвычайную усталь. Лишь только Панин уехал, Дашкова набросила на себя серую мужскую шинель и пешком отправилась к Рославлеву, одному из заговорщиков.
Недалеко от дома Дашкова встретила всадника, скакавшего во весь опор. Несмотря на то, что никогда не видала братьев Орлова, княгиня догадалась, что это один из них. Поравнявшись с всадником, она назвала его; он остановил лошадь, Дашкова назвала ему себя.
– Я к вам, – сказал он. – Пассек схвачен как государственный преступник, четыре часовых у дверей и два у окна. Брат пошел к Панину, а я был у Рославлева.
– Что, он очень встревожен?
– Есть-таки…
– Дайте знать Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтоб они собирались сейчас в Измайловский полк и готовились принять императрицу. Потом скажите, что я советую вашему брату или вам как можно скорее ехать в Петергоф за императрицей; скажите ей, что карета уж мной приготовлена, скажите, что я умоляю ее не мешкать и скакать в Петербург.
Накануне Дашкова, узнав от Пассека о сильном ропоте солдат и боясь, чтоб чего не вышло, написала на всякий случай к Шкуриной, жене императрицына камердинера, чтоб она послала карету с четырьмя почтовыми лошадьми к своему мужу в Петергоф, и велела карете дожидаться у него на дворе. Панин смеялся над этими ненужными хлопотами, полагая, что переворот еще не близок; обстоятельства показали, насколько предусмотрительность Дашковой была необходима.
Расставшись с Орловым, княгиня возвратилась домой. К вечеру портной должен был принести ей мужское платье и не принес, а в женском она была слишком связана. Чтоб не вызвать подозрения, она отпустила горничную и легла в постель, но не прошло получаса, как услышала стук в наружную дверь. Это был младший Орлов, которого старшие братья прислали спросить ее, не рано ли тревожить императрицу. Дашкова вышла из себя, осыпала упреками его и всех его братьев. «Какая тут речь, – говорила она, – о том, потревожится императрица или нет! Лучше ее без памяти, в обмороке привезти в Петербург, чем подвергнуть заключению или эшафоту вместе с нами. Скажите братьям, чтоб сейчас же кто-нибудь ехал в Петергоф».
Орлов согласился с нею.
Тут наступили для Дашковой мучительные часы одиночества и ожидания, она трепещет за свою Екатерину, представляет ее себе бледной, изнуренной, в тюрьме, идущей на казнь, и «всё это по нашей вине». Измученная и в лихорадке, ждет она вести из Петергофа; в четыре часа весть пришла: императрица выехала в Петербург. Как Алексей Орлов ночью вошел в павильон к Екатерине, которая спокойно спала и так же в глаза не знала Орлова, как и Дашкова, но тотчас решилась ехать в карете, приготовленной у Шкурина; как Орлов сел кучером и загнал лошадей так, что императрица была вынуждена со своей горничной идти пешком; как они потом встретили порожнюю телегу, как Орлов нанял ее и демократически в ней повез Екатерину в Петербург, – всё это известно.
Измайловские солдаты приняли Екатерину с восторгом; их уверили, что Петр III хотел в эту ночь убить ее и ее сына. Из казарм солдаты с шумом и криком проводили ее в Зимний дворец, провозглашая на улицах царствующей императрицей; препятствий не было никаких. Народ бежал толпами к дворцу, сановники собирались, архиепископ, окруженный духовенством, со святою водой ждал в соборе новую государыню.
Когда Дашкова с чрезвычайными усилиями пробралась до Екатерины, они бросились друг к другу в объятия и могли только выговорить: «Ну, слава Богу, слава Богу!» Потом Екатерина рассказала ей, как они ехали из Петергофа. Потом они опять бросились обнимать друг друга. «Я не знаю, – говорит Дашкова, – был ли когда смертный больше счастлив, как я в эти минуты!.. И когда я думаю, какими несоразмерно малыми средствами сделался этот переворот, без обдуманного плана, людьми, вовсе не согласными между собою, имевшими разные цели, нисколько не похожими ни образованием, ни характером, то участие перста Божия мне становится ясно».
Переворот, конечно, был необходим, но если перст Божий так прямо участвовал в нем, то в этот день руки у Бога все же не совсем были чисты.
Нацеловавшись досыта, Дашкова заметила, что на Екатерине Екатерининская лента, а не Андреевская; она тотчас побежала к Панину, сняла с него ленту, надела ее на императрицу, а Екатерининскую ленту и звезду положила себе в карман.
Императрица изъявила желание стать во главе войска и идти в Петергоф. С тем вместе она велела Дашковой сопровождать ее. Императрица взяла мундир у капитана Талызина, Дашкова – у сержанта Пушкина. Оба мундира были от прежней формы, Преображенского полка. Как только императрица приехала в Петербург, солдаты без всякого приказа сбросили с себя новые мундиры и надели петровские.
Пока Дашкова переодевалась, собрался чрезвычайный совет под предводительством Екатерины, составленный из высших сановников, бывших под рукой. Часовые, поставленные у дверей залы, пропустили в нее молодого офицера со смелой поступью и отважным видом. Никто, кроме императрицы, не узнал в нем Дашковой; она подошла к Екатерине и сказала, что караул очень плох, что так, пожалуй, пропустят и Петра III, если он вдруг явится (как мало знала этого шута сама Дашкова!). Караул немедленно был усилен, между тем императрица, прерывая диктовку манифеста Теплову, сказала членам совета, кто этот молодой офицер, так sans facon[76]76
Бесцеремонно (франц.). – Прим. ред.
[Закрыть] взошедший и начавший шептаться с ней. Все сенаторы встали, чтоб приветствовать Дашкову. «Я покраснела до ушей от такого почета, – прибавляет милый сержант, – и даже несколько смешалась».
«Вслед за тем, приняв нужные меры для спокойствия столицы, сели мы на лошадей и по дороге в Петергоф сделали смотр двенадцати тысячам человек, принявшим императрицу с восторгом».
В Красном Кабаке инсуррекционная армия сделала привал – надобно было дать отдых людям, бывшим на ногах двенадцать часов. Императрица и Дашкова, которые совсем не спали последние ночи, были сильно утомлены. Дашкова взяла у полковника Карра шинель, расстелила ее на единственном диване, бывшем в небольшой комнате занятой ими гостиницы, расставила часовых и бросилась на диван вместе с Екатериной, не скидывая мундира, с твердым намерением немного поспать. Но спать было невозможно, и они проболтали все время, строя планы и вовсе забывая об опасности.
Нельзя не признаться, что есть что-то необыкновенно увлекательное в этой отваге двух женщин, переменяющих судьбу империи, в этой революции, совершаемой красивой, умной женщиной, окруженной молодыми людьми, влюбленными в нее, между которыми на первом плане красавица восемнадцати лет, верхом, в мундире Преображенского полка и с саблей в руках.
Несчастный Петр III в это время ездил из Ораниенбаума в Петергоф и из Петергофа в Ораниенбаум, не умея ничего придумать и ни на что решиться. Он искал Екатерину по комнатам павильона, за шкафами и дверями, как будто она с ним играла в жмурки, и не без самодовольства повторял Романовне: «Вот видишь, я прав, я был уверен, что она сделает что-нибудь, я всегда говорил, что эта женщина способна на всё».
Еще возле него стоял престарелый вождь Миних, еще вся Россия и часть Петербурга были не против него, но он уже совсем растерялся. Показав пример невероятной трусости под Кронштадтом, он велел императорской яхте грести не к флоту, а снова к Ораниенбауму: дамы боялись качки и моря, он сам боялся всего. Ночь была тихая, месячная; жалкий император спрятался в каюте со своими куртизанами, а на палубе сидели в мрачной задумчивости, с досадой, стыдом и грустью на сердце два героя – Миних и Гудович; они теперь увидели, что нельзя спасать людей против воли. В четыре часа утра пристали они снова к Ораниенбауму и с понурыми головами тайком взошли во дворец. Петр III принялся писать письмо к Екатерине.
В те же четыре часа седлали двух лихих коней, одного – для императрицы, другого – для Дашковой; и вот они снова, веселые и исполненные энергии, перед войском, выступившим в пять часов в поход и остановившимся отдохнуть у Троицкого монастыря. Тут начали являться один за другим гонцы Петра III, привозя одно предложение глупее другого; он отказывался от престола, просился в Голштинию, признавал себя виноватым, недостойным царствовать. Екатерина требовала, чтоб он безусловно сдался, во избежание бо́льших зол, и обещала за это устроить ему наивозможно лучшую жизнь в одном из загородных дворцов, по его выбору.
Войско Екатерины спокойно заняло Петергоф; Орлов, ездивший на рекогносцировку, не нашел никого. Голштинцы, окружавшие Петра в Ораниенбауме и преданные ему, были готовы умереть за него, но он приказал им не защищаться; он хотел бежать, велел приготовить лошадь, но сел не на нее, а в коляску с Романовной и Гудовичем и печально сам повез свою повинную голову виновной жене своей. Его провели потихоньку в дальнюю комнату дворца. Романовну и Гудовича, который и тут себя вел с необыкновенным благородством, арестовали; Петра III накормили, напоили и свезли в Ропшу под охраной Алексея Орлова, Пассека, Барятинского и Баскакова. Ропшу Петр избрал сам, она ему принадлежала, когда он еще был великим князем. Другие, впрочем, говорят, что он был вовсе не в Ропше, а в имении Разумовского.
Дашкова видела его письма к императрице. В одном он говорит о своем отречении, в другом о лицах, которых желал бы оставить при себе, исчисляет всё, что ему нужно для житья, причем именно упоминает о запасе бургундского и табаку. Он еще требовал, говорят, скрипку, Библию и разные романы, причем прибавлял, что хочет сделаться философом.
Вечером, в день занятия Петергофа, Дашкова, возвращаясь от принцессы Голштинской на половину императрицы, наткнулась на Орлова, который во внутренних комнатах лежал врастяжку на диване, извиняясь тем, что ушиб себе ногу. Он распечатывал какой-то большой пакет; подобные пакеты Дашкова видела у своего дяди – вице-канцлера; их употребляли для самых важнейших государственных дел, сообщаемых государям от Верховного совета.
– Что это вы делаете? – спросила его Дашкова с изумлением.
– Мне императрица приказала.
– Не может быть, – отвечала Дашкова, – вы не имеете официального звания для этого.
В это время пришли доложить, что солдаты вломились в дворцовые погреба и пьют венгерское касками, принимая его за мед. Орлов не двинулся. Дашкова сейчас отправилась вниз, приняла грозный вид и своим тоненьким голосом восстановила порядок. Довольная успехом, она отдала солдатам все деньги, бывшие с ней, и потом, выворотив кошелек, сказала, что средств у нее меньше, нежели желания, но что по возвращении в Петербург им позволят пить на казенный счет; после этого она возвратилась.
К дивану, на котором лежал Орлов, был придвинут стол, накрытый на три куверта. Вошла императрица, заняла место и пригласила Дашкову сесть. Всё это так поразило княгиню, что она не могла скрыть своего волнения. Императрица заметила это и спросила, что с ней.
– Ничего, – отвечала Дашкова, – вероятно, устала от бессонных ночей и от волнения.
Екатерина, желая вызвать Дашкову на любезности Орлову, сообщила ей, что, несмотря на все ее просьбы, он оставляет военную службу, и просила помочь его уговорить. «Меня, – говорила она, – обвинят в страшной неблагодарности, если он оставит службу». Но Дашкова, оскорбленная своим открытием, ответила, что ее величество имеет столько средств награждать за услуги, что ей вовсе не нужно прибегать к насилию.
«Я только тогда, – прибавляет она, – убедилась, что между ними une liaison[77]77
Связь (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть]».
Думали, что Дашкова обиделась этим из ревности, и не ошиблись. Только она ревновала не Орлова; ни его, ни его братьев она никогда не любила и не уважала; она ревновала императрицу. Ей не нравился ни выбор, ни тон; а сверх того, ее мечты об исключительной доверенности, о мечтательной дружбе, о всемогущем влиянии бледнели, исчезали перед ее открытием. И действительно, с этого вечера у Дашковой появился соперник и враг; она это почувствовала на другой день после переворота.
Слова юродивого Петра III об апельсинной корке стали сбываться с чрезвычайной быстротой. Императрица на другой день после своего воцарения начинает ценить и награждать услуги Дашковой, начинает быть благодарной, то есть перестает быть другом.
Дашкова после торжественного въезда в Петербург отправилась к отцу, к дяде и, главное, взглянуть на своего малютку. Не надобно забывать, что у нашего преображенского сержанта есть дочь Настя, которую он горячо любит и с которой ему хочется поиграть, наигравшись досыта императорской короной. Дом ее отца был полон солдат, поставленных долею в охранение его и долею потому, что Романовна была привезена к нему в дом. Вадковский присылал спросить ординарца, нужен ли весь караул; Дашкова, поговорив с ним по-французски, сказала дежурному офицеру, что половина солдат не нужна и она их отпускает.
Когда она воротилась во дворец, Екатерина приняла ее с недовольным видом; караульный офицер был налицо и говорил с Орловым. Императрица сделала Дашковой выговор за самовольное распоряжение и заметила даже, что она при солдатах говорила по-французски. Дашкова, глубоко огорченная, выслушала выговор, ничего не отвечала и, чтоб переменить разговор, подала Екатерине ленту и орден, которые положила вчера в карман.
«Потише, потише, – сказала императрица, – я должна была вам сделать выговор за вашу поспешность, вы не имели права сами сменять солдат, но я также должна наградить вас за ваши услуги». И она надела Дашковой на шею возвращенную ленту. Вместо того чтоб стать, как это делается в таких случаях, на колени перед императрицей, Дашкова печально сказала ей:









































