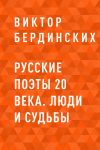Текст книги "О поэтах и поэзии. Статьи и стихи"

Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Необыкновенная рифма виновата в особой, впрочем, прелестной пестроте даже таких редких для Пастернака трагических стихов, как стихи из цикла «Разрыв». Рифмой зацеплены и взяты в стихи «ртуть в пустоте Торичелли», «охота в Калидоне», «Аталанта и Актей», «игра на губах Себастьяна», «Вертер» – все это сохраняет оттенок случайности, но какой счастливой случайности! Воистину «И чем случайней, тем вернее…»
Грандиозные препятствия, в данном случае в виде небывалой рифмовки, поставленные самим поэтом на пути поэтического движения, сторицей одаривают стихи, и на этих окольных путях нас поджидает самое замечательное открытие, самое большое совпадение. Оказывается, что слово «смерть» истосковалось по слову «Вертер», что они созданы друг для друга, – и уже трудно поверить, что стихи:
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью… —
(«Рояль дрожащий пену с губ оближет…»)
могли быть не написаны.
Не потому ли белый стих, за редким исключением, так скучен, что поэтическая мысль в нем не встречает сопротивления, ломится в открытые двери? Отказ от рифмы – это отказ от счастливой встречи, а в конечном счете – отказ от поэзии, измена ей.
Два поэта – две системы
Строка Пастернака наклонена вправо, к рифме, все бежит и скатывается к ней. Рифма берет на себя основную нагрузку в стремлении к обновлению стиха, именно она ведет поэта, диктуя и перестраивая поэтический смысл, метафорический ряд, образную систему.
Другое дело, например, поэтика Мандельштама. У его строки – ровное натяжение, она не наклонена вправо, к рифме. Слово, приходящееся на рифму, ничем не отличается от остальных слов в строке, оно не выделено.
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда, – воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.
(«На страшной высоте блуждающий огонь…»)
Потому и сходит Мандельштаму такая рифма, что не она приводит в действие тончайший механизм его стиха. В поэзии Мандельштама, ориентированной на традицию Батюшкова, Пушкина, Тютчева, новизна достигается иными средствами. Она не столь очевидна, находится не на поверхности стиха, убрана в его глубину.
Виртуозная рифма Пастернака связана с причудливо возникающими ассоциативными связями в его стихах. Они располагаются не линейно, не по прямой, а разнонаправленно. Пастернаковская стая летит хаотично, так летают голуби.
Например, в стихотворении «Елене» возникает не только античный (Троя, Спарта), но и гетевский, шекспировский план.
Луг дружил с замашкой
Фауста что ли, Гамлета ли.
Обегал ромашкой.
Стебли по ногам летали…
Виртуозная рифма: арум – даром, утра виднеться – праведница, овеивая – Офелиином, плавала как – наволока, фартук – Спарты – ведет к образной, метафорической и лексической пестроте, беспорядочному движению. Так у ноздревского повара в ход шло все, что попадало под руку: «Стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал капусту».
Не то у Мандельштама. Ассоциативная цепочка выстраивается у него в один культурно-исторический ряд. При этом логическая связь может быть нарушена, как это происходит, например, в стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать…», где автор, упрекающий себя в слабости и любовной измене, почему-то оказывается в стане троянцев, похитивших Елену. Важно другое: что все подробности берутся из одного кармана, из античного, гомеровского эпоса. Ассоциации выстраиваются в цепочку – так летят гуси.
Темные места в стихах Мандельштама иногда объясняются тем, что одно из звеньев в этой цепочке оказывается пропущенным: птица сбита метким стрелком, вместо нее взор упирается в пропуск, зияние.
Облегченный эпитет
Повторю: ни один элемент стиха нельзя рассматривать изолированно, вне связи со всей поэтической системой. Но связь эта сложная, гипертрофия одного из элементов стиха не всегда идет на «пользу» другому, иногда он развивается за чужой счет.
Удельный вес неожиданной рифмы в поэтике раннего Пастернака столь велик, что некоторые другие элементы стиха оказываются освобожденными от нагрузки, живут облегченной жизнью. Таков, например, пастернаковский эпитет – редкий гость в его стихах. Обычно это даже не качественные, а относительные прилагательные, определяющие предмет по основному признаку, таким образом речь идет не столько об эпитете, сколько об определении. На все стихотворение их обычно два-три, не больше: «красный померанец», «обоев цвет, как дуб, коричнев», «чудная челка» («Из суеверья»), «сиреневая ветвь», «синие слезы», «сырая прогорклость», «день теперешний» («Ты в ветре, веткой пробующем…»), «винная пробка», «извозчичье хозяйство» («Имелось») и т. п.
И очень редки неожиданные эпитеты, вроде «гипнотической отчизны», «глыбастых цветов» или «пыльного термина».
Другое дело – эпитет в системе Мандельштама – несущая, конструктивная деталь во всей постройке, он обретает вес, плотность, объемность, материальность предмета, из прилагательных, кажется, переходит в разряд существительных.
А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер, друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Налетом истины сияющих сквозь воск…
(«Меня преследуют две-три случайных фразы…»)
Нередко на эпитет приходится половина слов в строфе, она начинает казаться застывающим сгустком поэтической влаги, переходящим в вещество.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес…
(«Ветер нам утешенье принес…»)
С эпитетом нередко связано у Мандельштама затемнение смысла, эпитеты задают загадку нашему воображению: «кривая вода», «ягненок гневный», «рукопашной лазури шальной»…
Как верно заметила Л. Гинзбург, определение в стихах Мандельштама «часто относится именно к контексту, а не к предмету, к которому оно прикреплено формально-грамматическими связями»[32]32
Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982. С. 269.
[Закрыть].
Смена установки
Рифма – один из самых ответственных и красноречивых элементов стиха, всякая перемена в поэтической ориентации, переход на другие пути влечет к неизбежной смене рифмовки.
Поэзия Пастернака дает возможность убедиться в этом с особой наглядностью. Ранний Пастернак, связанный с левым искусством, музыкой Скрябина, выставками «Бубнового валета», поэзией футуристов, потрясенный и захваченный, как и большинство его сверстников, революционной волной, создал свою, новую поэтику, отразившую новизну, которая захлестнула тогдашнюю жизнь.
У позднего Пастернака и рифма другая: полвека – калека, тетрадь – понять, занятий – проклятье, секрет – нет, откровений – растений, богатырей – зверей, откровеньем – поколеньем, судеб – хлеб, пшенице – страницу, молотьбе – тебе, слово – земного, почин – кончин («Хлеб»), герои – скрою, городов – слов, краюху – духу, полям – флигелям, умелой – дела, хвалы – стволы, миру – командиру, живым – боевым («Смелость»), Это почти ничем не отличается от рифм Твардовского, Суркова, Щипачева и других поэтов 40– 50-х годов.
Взглянув только на эти рифмы, закрыв всю левую часть стихотворения, мы могли бы сказать, что стих должен переродиться и в синтаксическом, и в образном, и в интонационном плане.
На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
(«Единственные дни»)
Перечислительная интонация, ее однообразие, предложения, вводимые по цепочке повторяющимся союзом «и», – все это приближает стих к повествованию в стихах – к тому, что так процветало в поэзии 40—50-х годов. Целые поколения поэтов выросли на повествовательном стихе – рассказчики, они и сегодня не представляют себе другой, неповествовательной интонации.
Поэт попадает под общее движение или идет против него. Пастернак 30-х захотел «впасть в неслыханную простоту», стать понятным первому встречному. Это желание настолько возобладало, что он и в самом деле забыл, как писались ранние его стихи. Теперь он смотрел на них со смущением, пытался кое-что исправить, причесать – ничего хорошего из этих переделок не вышло.
Впрочем, и среди стихов позднего Пастернака есть волшебные («В больнице», «Вакханалия», «Август» и другие), в которых он прорывался к действительно новому стилю, где утраты прежнего обаяния и своеобразия возмещены подлинными открытиями.
Мы говорим: время потребовало перемен. Время и в самом деле накладывает печать общности на поэтов, живущих в одну эпоху. Не надо только думать, что оно всегда право в своих требованиях.
Пример иного, противоборствующего общей направленности движения являет позднее творчество Баратынского, оставшегося не понятым современниками и оцененного лишь потомками, уже в XX веке.
Есть поэты, идущие от сложного к простому: Пастернак, Заболоцкий. Но были и такие, кто прошел свой путь в противоположном направлении: Баратынский, Мандельштам.
Синоним поэзии
Рифма – один из самых значащих элементов русского стиха. Недаром для Пушкина она была синонимом поэзии: «Рифма – звучная подруга / Вдохновенного досуга, / Вдохновенного труда, / Ты умолкла, онемела; / Ах, ужель ты улетела, / Изменила навсегда!»
Нельзя ее рассматривать отдельно от стиха, одна и та же рифма в разных поэтических стилях значит разное. «Любовь» и «кровь» у Тютчева («Последняя любовь») совсем не то, что «любовь» и «кровь» у Цветаевой («Вчера еще в глаза глядел…») – так связана рифма с интонацией, ритмикой, синтаксисом, всей структурой стиха. Вот почему в книгах и статьях, посвященных рифме, всегда представляется насильственным сближение, объединение в одну рубрику разных поэтов на основе совпадения рифмующихся у них слов. Тогда Цветаева может оказаться в одной графе с X, тогда Ахматова ничем не отличается от Y, и получается, что они сообща создают русскую поэзию, между тем как ее создают лишь подлинные поэты, а опыт огромной массы пишущих стихи в данную эпоху людей, числящихся по недоразумению поэтами, не имеет значения.
1981
«Разве можно после Пастернака…»
* * *
Разве можно после Пастернака
Написать о елке новогодней?
Можно, можно! – звезды мне из мрака
Говорят, – вот именно сегодня.
Он писал при Ироде: верблюды
Из картона, – клей и позолота, —
В тех стихах евангельское чудо
Превращали в комнатное что-то.
И волхвы, возможные напасти
Обманув, на валенки сапожки
Обменяв, как бы советской власти
Противостояли на порожке.
А сегодня елка – это елка,
И ее нам, маленькую, жалко.
Веточка, колючая, как челка,
Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка!
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта.
1993
Душа искусства
Поэзия – душа искусства. На Дрезденской выставке в Эрмитаже самыми привлекательными были не Рубенс, не Тинторетто, не Пуссен с их огромными полотнами на мифологические, античные, библейские и рыцарские темы, а маленький рембрандтовский портрет юной Саскии в бархатной шляпе, Саскии, похожей сразу и на девочку, и на старушку. Как не побоялся художник так далеко заглянуть в будущее? Даже узоры на платье, даже драгоценная ниточка на шляпе, кажущиеся столь непрочными, написаны с такой любовью и волшебством, что, мнится, и они призваны в свидетели этой подточенной прелести, раннего увядания.
И еще – вермееровская «Девушка, читающая письмо». Как давно хотелось ее увидеть, сколько было бесчисленных репродукций! Но где им передать этот теплый, влажный свет, льющийся из раскрытого окна, эту изумительную неровность ослепленного солнцем подоконника, этот погнувшийся, откинувшийся назад, покрытый солнечной позолотой листок бумаги и склоненное над ним лицо!
Нет, живопись, как музыка, как поэзия, не поддается пересказу.
На что так похожи эти небольшие картины? На два лирических стихотворения в окружении длинных, эпических, высокопарных и велеречивых поэм. И роскошный пьяный Геркулес в обрамлении своей раскрасневшейся свиты, и рыцарь в блестящих латах, спасающий обнаженную пленницу, и младенец Моисей среди библейских дам в одеждах итальянской придворной знати – все это отступает и бледнеет перед чудом человеческой искренности, живой любви.
История мирового искусства кажется иногда историей кропотливого накопления драгоценных крупиц поэзии. Они-то и составляют ядро искусства.
Прежде чем перейти к разговору о литературе, приведу высказывание исследователя итальянского Возрождения М. В. Алпатова. Сравнивая знаменитые монументальные фрески сиенского мастера Амброджо Лоренцетти «Доброе и дурное правление» с его же маленькими картинами, «пределлами», он пишет: «В одной из них представлен скалистый берег моря, редкие деревья, клочочки полей, домики и трогательная одинокая лодочка на причале… Современному зрителю приходится удерживать себя, чтобы не вложить слишком много лиризма в эти картины… Возможно, сам художник считал эти пейзажи пустячками по сравнению с “гражданскими циклами” (Петрарка больше всего гордился своей ныне забытой поэмой “Африка”). И все-таки в этих «пустячках» бездна тончайшей поэзии…»
Но то же переосмысление ценностей происходит и в литературе. Не только Петрарка, упомянутый Алпатовым, остался для нас великим лириком и забыт как автор грандиозных поэм. То же произошло и с многими другими. Кто же перечитывает сегодня байроновского «Манфреда» или «Каина», драматические произведения Шиллера? Эти грандиозные создания в стихах сегодня выглядят музейными раритетами вроде того доисторического мамонта, что выставлен в зале Зоологического музея. Помню свой детский трепет перед ним, так же как обмирание в студенческие годы перед гигантскими созданиями классиков. Насколько более жизнеспособной оказалась их лирика!
Нисколько не умаляя значения пушкинской «Полтавы», лермонтовского «Демона», все же рискну заметить, что и они в нашем сознании потеснены неувядаемой лирикой. Удельному весу стихотворной лирики предстояло расти в русской поэзии от поэта к поэту, и уже Баратынский для нас прежде всего автор прекрасных стихотворений, а не «Эды», «Бала», «Наложницы».
Невозможно представить Тютчева пишущим поэмы, и Фету поэмы явно не удались. Лирическое начало возобладало в поэзии Блока, Анненского, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой…
Разумеется, были эпические поэмы Некрасова, Хлебникова, Маяковского. Речь идет о тенденции, которая, конечно, время от времени нарушается великими исключениями. И время это, отметим, обычно совпадает с возрождением эпического сознания в годы революции (поэмы Хлебникова, Маяковского, «Двенадцать» Блока), в годы войны («Василий Теркин» Твардовского).
Сама же тенденция не случайна. Зарождение, расцвет и падение литературных жанров связаны с перестройкой жизни, сменами исторических формаций, переменами, происходящими в человеческом сознании. Канули в прошлое не только древний эпос и античная трагедия, классическая драма и романтическая поэма: последней стихотворной комедией была, по-видимому, «Горе от ума». Попытка Грибоедова написать трагедию в стихах закончилась неудачей. Все попытки возобновления их в наши дни оказались несостоятельными. Зато такое значение приобрела лирическая поэзия. Общую картину времени, мне кажется, нам рисует теперь полнее, чем поэма, книга стихов, которую впору назвать новым жанром. Первая такая книга создана в нашей поэзии Баратынским в 1841 году – это книга «Сумерки».
Нет, не против поэмы я здесь выступаю. Хочется лишь напомнить, что поэтическое слово – напряженное, многозначное, ассоциативное слово. Гигантомания размагничивает его. Возникает впечатление, что некоторые авторы современных поэм перешли на крупноблочный метод, слово в их работе слишком мало значит, они работают не со словом, а сразу с периодом, страницей стихотворного текста: поэмы как будто смонтированы из фабричных панелей.
Оглянемся еще раз на смежное искусство. Сегодня трудно поверить, что когда-то в европейской живописи не было пейзажа и натюрморта, что периферия прежних эпических полотен лишь в XVI–XVII веках в Голландии зажила обособленной жизнью, отвоевала себе право на независимое существование, подобно самой Голландии, освободившейся от испанского владычества. Яблоки на подносе или лимон со свисающей кожурой засверкали, заискрились, приковали взгляд, из статистов перешли на положение равноправных участников великого спектакля.
Оказалось, что нет в мире незначащих, проходных вещей, не заслуживающих любовного отношения предметов, домашних интерьеров, ландшафтов, пейзажей. Все, что связано с человеком, его будничной, счастливой и трагической жизнью, требующей ежедневной борьбы за обретение в ней смысла, получило признание, оказалось исполненным высокой ценности и значения.
Но лирическая поэзия знала это всегда, еще со времен Катулла и древних китайских поэтов. Она-то знала, но каждая вновь зарождающаяся культура проходит долгий путь и так же, как природа у Тютчева, «знать не знает о былом». В каждой культуре прирост лирической поэзии происходит постепенно: фольклорная песня со временем превращается в индивидуальную лирику; кроме того, лирика медленно вызревает в недрах того же эпоса, драмы, откалываясь от них, укрупняя детали, привлекая внимание к подробностям, повышая ценность единичных явлений, каждой человеческой мысли, чувства, самой человеческой жизни. Но должны пройти века, прежде чем ей удастся потеснить большие жанры – происходит это вместе с ростом индивидуального сознания.
Лирический дар – редкий дар. Что такое лирика? Это особое, горячее внимание к человеку, к любому предмету, любой вещи на земле, а не только стихи о любви. Лирика – это особое отношение к миру, его явлениям, взгляд на вещи и людей, окрашенный в личные, сердечные тона. Лирика – это лица необщее выраженье, способное привлечь внимание многих. Это субъективный, индивидуальный взгляд, имеющий общее значение. Лирика живет лишь там, где есть уважение к человеку. Она умирает, когда его достоинство попирается, когда давление на него превышает более или менее устоявшуюся норму. Тоталитарные режимы и не заинтересованы в ней, они поощряют тяжелоатлетический, вагнеровский эпос.
Лирика играет на повышение всех ценностей, разглядывает, как драгоценность, каждую крупицу жизни.
Сиреневый куст, ночная бабочка, газетная новость, печальное воспоминание, вибрирующая каморка лифта, чужая строчка, настольный календарь, пароходный гудок…
Справочник щедрот, каталог привязанностей, картотека счастья!
В каком подробном, фантастическом, баснословном мире мы живем! Что волшебная пещера Али-Бабы и все его сокровища по сравнению с этой комнатой, где пьют вечерний чай, обсуждают международные события, говорят по телефону…
Лирика требует всех сил, всего сердца, ума, таланта. Нельзя писать стихи в состоянии опустошенности, с опущенными руками.
Не потому ли даже самые печальные строки дарят нас прибавлением жизни, ощущением ее полноты и осмысленности. И какой бы «подстреленной птицей» ни представала она в стихах, как бы ни «прижималась к праху», дрожа «от боли и бессилья», сама таинственная, неразложимая смысло-звуковая прелесть стиха внушает нам желание «жить и бедствовать», «мыслить и страдать».
Самые трагические стихи написаны в самозабвенные минуты творческого взлета, преодоления скорбей, освобождения от пут.
Если же поэт в каждом стихотворении уверяет нас в бессмысленности и ущербности бытия, сбивая шкалу ценностей, приравнивая все к шелухе и праху, его поэзия выдыхается, остается голая техника, работающая на холостом ходу.
Есть, конечно, и противоположная опасность: неумеренный, «телячий» восторг, дешевое жизнелюбие, не оплаченное ни страданием, ни болью, ни отчаянием. Лермонтов сказал о поэте, что он «покупает неба звуки, он даром славы не берет».
И все-таки жизнь поэта наполнена смыслом, который дан ему вместе с поэтическим даром. Вот почему он так мучается, когда стихи не пишутся: жизнь тогда обезвоживается, обессмысливается, высыхает и мертвеет. Что, собственно, такое уж страшное произошло? Он оказался всего лишь в положении человека не пишущего, «не рисующего», «не водящего смычком черноголосым». Вот кто герой, вот кто совершает ежедневный подвиг, то есть добывает смысл ежедневно на куда более трудных путях!
Романтическое деление мира на поэтов и толпу выглядит в XX веке с его опытом революций, войн, нечеловеческих испытаний, захвативших всех и каждого, отжившим, глубоко архаическим.
И «сосед Сергей Иваныч», которого поэт заставлял в стихах прерывать колку дров, дабы слышней была небесная музыка, «неслышная симфония», вызывает в нас не снисходительную жалость, а сердечное уважение. Посмотрели бы мы на тебя, поэта, с твоими «виолончелями» и «арфами» на его месте, как бы ты справился с жизнью?
Лирика призвана обнадежить человека, способного услышать надежду, выраженную в стихах.
Лирика – самая живая, непосредственная человеческая речь, с блестящими глазами, прямым обращением к неведомому собеседнику. Лирика добивается понимания с полуслова, полунамека; хочется сказать о вечно настоящем времени лирической поэзии.
Она останавливает мгновение (не важно, счастливое или ужасное). И это мгновение живет в веках, так и не отодвигаясь в прошлое. Сколько существует замечательных лирических стихов – столько навсегда остановленных мгновений готовы впустить нас под свои гостеприимные своды и сени. В отличие от прозы, где глаголы употребляются в прошедшем времени, в отличие от эпической поэзии, от поэмы, лирика лелеет и пестует настоящее время глагола: «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Белеет парус одинокий…». А если поэт и начинает в прошедшем времени: «Я слово позабыл, что я хотел сказать», то обычно через несколько строк незаметно для себя срывается на настоящее: «Не слышно птиц. Бессмертник не цветет». Даже глагол иногда кажется лишним, шаткий мостик через пропасть отвергается; совершается прыжок: «Кавказ подо мною…», «…я с улицы, где тополь удивлен…».
Может быть, поэтому лирическая поэзия не стареет. Может быть, поэтому такое ошеломительное впечатление в «Медном всаднике» производит на нас переход на настоящее время глагола: мы узнаем в нем лирику со всеми ее свойствами: «…Когда я в комнате моей / Пишу, читаю без лампады, / И ясны спящие громады / Пустынных улиц, и светла / Адмиралтейская игла…».
Архилох, сказавший: «Пью, опершись на копье», делает это и сегодня. Лирическая поэзия живет сегодняшним днем, принадлежащим вечности.
Лирический поэт не знает, что он напишет завтра. Садясь писать стихи, он всякий раз должен начинать все сначала: нет ни героев, ни сложившихся между ними отношений, ни поставленного на рельсы сюжета, ни готовой строфики, ни ритмики… ничего. Более того, от стихотворения к стихотворению поэт успевает забыть, что он поэт. Да и можно ли жить с иным ощущением? «Божественный глагол» касается слуха далеко не каждый день. Не потому ли такого сердечного накала, такой огромной энергетической затраты требуют эти полтора-два часа счастливого труда?
«В наш век стихи живут два-три мгновенья, / Родились утром, к вечеру умрут…» – словно о бабочке, сказал Тютчев. Но – странное дело – это капризное существо с его как будто мотыльковым веком оказывается самым долговечным, нестареющим созданием человеческого духа.
Не надо приглашать лирического поэта на другую, более солидную стезю. О, этот неизменный и вечный вопрос к поэту благодарного и растроганного читателя: «А прозы вы не пишете?» И заботливый, отеческий совет благожелательного критика: «Не пора ли вам уже написать поэму?»
И то сказать, сколько поэтов на наших глазах перешли на прозу, нередко мало чем отличающуюся от их стихов. Стихи были повествованием в стихах, фельетоном, и переход произошел почти безболезненно: тот же рассказ, а что без рифмы и не четырехстопным ямбом писано – так оно еще и лучше.
А лирика несовместима с пересказом, фрагментарна, непредсказуема, «моментальна навек». И прочесть ее могут лишь те, кто не ищет в стихах сюжета и нравоучения, кто наделен от природы даром тайнослышанья, для кого не закрыт сокровенный, поэтический смысл вещей.
1985
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?