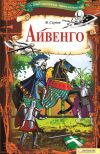Текст книги "Сказания о Русской земле. Книга 4"

Автор книги: Александр Нечволодов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В 1601 году Московское государство постигло страшное бедствие: вследствие полного неурожая наступил неслыханный голод, продолжавшийся целых 3 года.
«В сии три года, – говорит Маржерет, – случались злодейства, почти невероятные… я сам видел ужасное дело: 4 женщины… быв оставлены мужьями, решились на следующий поступок: одна пошла на рынок и, сторговавши воз дров, зазвала крестьянина на свой двор, обещая отдать ему деньги, но лишь только он сложил дрова и явился в избу для получения платы, женщины удавили его и спрятали тело в погреб, чтобы не повредилось: сперва хотели съесть лошадь убитого, а потом приняться за труп. Когда же преступление обнаружилось, они признались, что умерщвленный крестьянин был уже третьею жертвою».
От недостатка пищи люди щипали траву и ели сено как скот; случалось, что дети поедали своих родителей, а родители – детей; от голода помирало великое множество народа, причем иногда у мертвых во рту находили навоз. Скоро наступило и моровое поветрие – холера, от которой в одной Москве погибло, как говорят, до 500 000 человек.
Борис старался помочь голоду самой щедрой раздачей денег бедным; но это только усилило бедствие: знав про милостыню, раздаваемую царем, толпы народа хлынули со всех сторон в Москву; сюда шли и те, которые смогли бы прокормиться на местах. От этого, разумеется, нужда в столице еще усилилась, а Борис, видя, что вследствие предпринятой им раздачи денег народ со всего государства стремится на явную смерть в Москву, решил прекратить эту раздачу, что повело к еще большим бедствиям.
Наступившей страшной нуждой старались воспользоваться некоторые алчные и жестокосердные люди, обладавшие большими запасами хлеба в зерне; они тщательно берегли его, ожидая еще большего повышения цен. «Лаже сам патриарх, – рассказывает Исаак Масса про Иова, – имея большой запас хлеба, говорил, что он не хочет еще продавать его в ожидании цен».
Но, к счастью, наряду с такого рода лютыми корыстолюбцами в эти бедственные времена были и люди, стяжавшие себе память высокими подвигами милосердия. К числу их принадлежала Ульяна Устиновна Осорьина, вдова зажиточного дворянина, причтенная нашей церковью к лику святых под именем праведной Юлиании Лазаревской (по месту погребения в с. Лазареве, близ Мурома). «Это была простая обыкновенная добрая женщина древней Руси, – говорит про нее известный русский историк В. Ключевский, – боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому – чувство, с которым русская женщина на свет родится, – в ней было тоньше и глубже, обнаруживалось напряженнее, чем во многих других… Еще до замужества, живя у тетки по смерти матери, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице». Таким же милосердием отличалась Ульяна Устиновна и во все время своего супружества. «Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань, года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам…».
Овдовев и поставив сыновей своих на государеву службу, Ульяна Устиновна отдалась еще больше добрым делам. «Нищелюбие не позволяло ей быть запасливой хозяйкой. Ломовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасытным скопидомством все прятала да прятала – все свои сбережения и излишки. Порой у нее в дому не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы».
 Страшный голод, наступивший в 1601 году, застал Ульяну Устиновну совершенно неприготовленной. Сама она не сжала ни одного зерна со своих полей. Но это нисколько не повлияло на нее. Она распродала все, что могла, и на деньги эти покупала хлеб для раздачи нищим.
Страшный голод, наступивший в 1601 году, застал Ульяну Устиновну совершенно неприготовленной. Сама она не сжала ни одного зерна со своих полей. Но это нисколько не повлияло на нее. Она распродала все, что могла, и на деньги эти покупала хлеб для раздачи нищим.
«Тогда многие расчетливые господа, – рассказывает В. Ключевский, – просто прогоняли со дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, люди эти принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядников и удерживала их при себе, сколько было у нее силы.
Наконец, она дошла до последней степени нищеты; обобрала себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее она больше не может, кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением. Но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась из этого печь хлеб, которым кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими… Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: "Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду". – "А мы вот что скажем, – говорили нищие: – Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы – как бишь ее?" Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом; отведав его, они находили, что нищие были правы…».
Голод стал стихать к 1604 году, когда Борис догадался предпринять соответствующие меры: послали скупать хлеб в отдаленные местности, где он сохранился в большом количестве, и продавать его затем за половинную цену в Москве и других городах. «Бедным же вдовам, сиротам и особенно немцам, – говорит С. Соловьев, – отпущено было большое количество хлеба даром».
Вместе с тем, чтобы дать работу собравшимся в Москве людям, Борис предпринял большие постройки: он велел сломать деревянные палаты Иоанна Грозного в Кремле и возвел каменные. Наконец обильный урожай 1604 года положил конец бедствию. Но последствия его были крайне тяжелы: кроме общего обеднения, нравственность народа, и без того подорванная доносами и другими мероприятиями Годунова, пала от ужасной нужды и сопровождавших ее безурядиц до крайней степени. Страшные разбои стали обычным явлением. Разбойничьи шайки составлялись преимущественно из холопов, отпущенных своими господами во время голода; немало было также голодных и бесприютных холопов из бывших слуг опальных бояр – Романовых и других пострадавших с ними; холопы эти, как мы помним, не взводили поклепов на своих господ, и мстительный Борис запретил всем принимать их к себе. Вынужденные крайней нуждой, они или прямо поступали в шайки разбойников, или двигались большими толпами в смежную с Литвою область, в Северскую Украину, которая и без того была наполнена беспокойными и ненадежными для государства людьми, так называемыми севрюками: еще Грозный царь позволил уходить сюда всем преступникам, осужденным на смерть, с тем чтобы заселить эту пограничную полосу воинственным населением, способным выдержать первое нападение татар или поляков.
В этой «прежепогибшей Украине», как ее именовали современники, собрались огромные шайки разбойников; они не замедлили соединиться вместе, выбрав себе в атаманы отважного Хлопку Косолапа, а затем решили двинуться к Москве; скоро, внося всюду ужас и разоренье, разбойничьи отряды стали уже появляться у ее стен. Обеспокоенный таким необычным нашествием, Борис выслал против них сильное войско под начальством воеводы Ивана Басманова; последнему после упорного боя удалось разбить разбойные полчища; при этом, однако, сам Басманов был убит, чуть же живой Хлопка был захвачен царскими войсками в плен и затем повешен со многими товарищами. Это было в 1604 году.
В том же 1604 году стали появляться все более и более настойчивые слухи, шедшие через ту же «прежепогибшую Украину», что считавшийся убитым в Угличе царевич Димитрий жив и скоро явится добывать московский престол из рук его похитителя и своего злодея – Бориса Годунова.
 Перед тем чтобы продолжать наш рассказ о новых, необычайных событиях, наставших в жизни Московского государства, нам необходимо сделать краткий очерк положения дел в Польско-Литовском королевстве к этому времени.
Перед тем чтобы продолжать наш рассказ о новых, необычайных событиях, наставших в жизни Московского государства, нам необходимо сделать краткий очерк положения дел в Польско-Литовском королевстве к этому времени.
Попавший всецело в руки иезуитов, король Сигизмунд наделал ряд крупных промахов: мы видели, что вследствие своей религиозной нетерпимости он лишился отцовского престола в Швеции, которым овладел его дядя Карл IX, причем возникшая между ними война затянулась на долгое время и была несчастлива для поляков, не сумевших помешать шведам утвердиться в значительной части Ливонии.
Также под влиянием иезуитов Сигизмунд заключил тайный договор с Австрией на условиях, явно невыгодных для Польши; это вызвало крупную ссору между ним и польскими сенаторами, призвавшими его на сейм в 1592 году, на котором он был подвергнут настоящему следственному допросу и должен был выслушать крайне оскорбительные упреки от Яна Замойского, Радзивилла, примаса епископа Карнковского и других.
Во время своей коронации в Кракове Сигизмунд торжественно присягнул охранять свободу вероисповедания «диссидентов», то есть некатоликов – православных и лютеран, но эта присяга нисколько не помешала ему теснить всеми мерами тех и других; при этом, руководимый отцами иезуитами, с Петром Скаргою и Антонием Поссевиным во главе, он с особым рвением стал принимать все меры, чтобы в корне подорвать православие в своих владениях с русским населением.
Мы говорили уже о сильном падении нравов среди высшего православного духовенства Западной Руси, избиравшегося польским правительством из лиц, ему угодных, а также об успешном ополчении западнорусской знати и дворянства; при этом даже старший сын знаменитого ревнителя православия Константина Константиновича Острожского, Януш, был совращен иезуитами в латинство.
Лишь в сердцах низших слоев населения, сельских жителей и мещан, уцелела крепкая привязанность к вере отцов, что выразилось, между прочим, в образовании православных братств в Вильне, Львове и других городах.
Видя это, Сигизмунд, не довольствуясь совращением в латинство православной знати, задумал со своими советниками-иезуитами обратить в католичество и всех остальных своих подданных при посредстве церковной унии, к которой, как мы видели, давно уже стремились папы. При этом иезуиты, окружавшие Сигизмунда, повели вопрос об унии настолько хитро и ловко, что многие православные встретили мысль о ней благодушно, в том числе и князь Константин Константинович Острожский; это был по существу своему благородный мечтатель, который искренно думал, что предполагаемая уния будет настоящим соединением церквей, и рассчитывал, что при ее посредстве поднимется крайне упавшая нравственность высшего духовенства западнорусской церкви. Митрополитом Киевским был в это время некий двоеженец Оницифор Левочка, а несколько православных архиереев ввиду проповеди лютеран о браке духовенства позволили себе завести законных и незаконных жен; особенно же зазорным поведением отличался Кирилл Терлецкии – епископ Луцкий, который был даже привлечен к гражданскому суду за совершенное им насилие над одной девушкой.
В 1589 году Западную Русь посетил Константинопольский патриарх Иеремия. Ввиду многочисленных жалоб со стороны членов православных братств на митрополита Киевского Оницифора Левочку, он возвел на его место по указаниям короля Сигизмунда, дававшего эти указания, конечно, не без ведома иезуитов, Минского архиепископа Михаила Рагозу, человека двуличного и слабовольного.
При этом, будучи в полном неведении относительно местных обстоятельств в Польше и Литве и никого там не зная, патриарх Иеремия, вслед за поставлением Михаила Рагозы, сделал и другой крупный промах: он назначил ему в наместники, или экзархи, «лукавого, как бес», Кирилла Терлецкого. Кирилл Терлецкии не замедлил войти в тайные сношения с иезуитами и начал деятельно подготовлять с ними дело об унии. Затем в 1593 году Сигизмунд возвел на Брестскую православную епископию сенатора Поцея, постригшегося с именем Ипатия, человека совершенно разоренного, но ловкого, умного и без всяких нравственных убеждений, уже несколько раз менявшего веру.

Церковный фонарь
Ипатий Поцей и Кирилл Терлецкий немедленно стали действовать заодно; они обманом склонили на свою сторону других епископов и составили в 1595 году «грамоту на унию», притянув на свою сторону и Михаила Рагозу. Затем эту грамоту они повезли в Рим на утверждение папы.
 Несмотря на тайну, окружавшую все это дело недостойных представителей западнорусского высшего духовенства, православные жители Польско-Литовского государства скоро поняли, что сулит им уния. Двое епископов, подписавших грамоту на нее, поспешили заявить о своем отказе; у князя Константина Острожского тоже открылись глаза, и он предполагал собрать даже войско на случай насильного ее введения. Во многих городах готово было уже вспыхнуть восстание.
Несмотря на тайну, окружавшую все это дело недостойных представителей западнорусского высшего духовенства, православные жители Польско-Литовского государства скоро поняли, что сулит им уния. Двое епископов, подписавших грамоту на нее, поспешили заявить о своем отказе; у князя Константина Острожского тоже открылись глаза, и он предполагал собрать даже войско на случай насильного ее введения. Во многих городах готово было уже вспыхнуть восстание.
Между тем в 1596 году король созвал в Бресте духовный собор для окончательного решения вопроса об унии; на него, наряду с православным духовенством, прибыло и латинское, вместе со многими иезуитами, среди которых был, конечно, и Петр Скарга. Заседания собора шли при самой возмутительной для православных обстановке; наконец латиняне и русские епископы-отщепенцы «посредством обмана тайно, безо всякого совещания с православными, – говорит известный русский ученый М.О. Коялович, – приняли унию и объявили ее поконченною. Этим же путем они следовали и тогда, когда взялись распространять унию, прибавляя к обману и интригам (козням) самые разнообразные насилия».
Конечно, православные, как могли, старались противодействовать унии. Для этого, между прочим, они составили в 1599 году съезд в Вильне совместно с протестантами, также подвергавшимися гонению. Члены съезда решили бороться с латинянами на жизнь и на смерть и постановили, что каждый сильный православный или протестант должен при всех обстоятельствах защищать всякого страждущего православного же или протестанта. К сожалению, однако, некоторые члены Виленского съезда не ограничились этим и пошли еще дальше. Они задумали соединить православие и протестантство, отчего возникли страшные недоразумения и раздоры, бывшие, конечно, очень на руку латинянам и давшие пищу для усиления ересей, свивших себе прочное гнездо в Польско-Литовском государстве, – арианам, антитринитариям и другим.
Вообще, Брестская уния вызвала, по словам польского историка Лелевеля, «сильные волнения, насилия и даже кровопролитные восстания, которые легли темным пятном на царствование Сигизмунда».
Что же касается внутреннего управления и законодательства Польско-Литовского государства в начале XVII столетия, то, по словам того же Лелевеля, здесь царила полнейшая безурядица, «крестьяне оставались в самом забитом положении, а большие паны делались все более и более своевольными».
В 1599 году скончался униатский митрополит Михаил Рагоза. Король назначил ему преемником Ипатия Поцея, сохранив за последним и богатейшую Владимир о-Волынскую епархию, что сосредоточило в его руках огромные средства для успешной борьбы с православием. «Помните, я вам не Рагоза, – писал он в своих грозных грамотах слуцкому духовенству, не желавшему присоединиться к унии». Чтобы подорвать Виленское братство, Ипатий Поцей отнял у него Троицкий монастырь, но овладеть Киево-Печерской лаврой, благодаря заступничеству киевской православной шляхты, ему не удалось.
Ярым противником унии выступил, конечно, князь Константин Константинович Острожский; но это был среди больших панов последний столп западнорусского православия – «последний западнорусский дуб», по словам М.О. Кояловича, «кругом которого падали другие русские дубы, и у которого даже самого быстро увядали и засыхали в полонизме и латинстве его собственные молодые ветви – родные дети… Западнорусское шляхетство быстро сливалось с шляхетством польским и находило себе в этом слиянии смерть, воображая, что поддерживает жизнь».
Несколько лет спустя после Брестского собора духовный писатель Мелентий Смотрицкий превосходно изобразил это угасание западнорусской шляхты в написанном им от лица Православной церкви «Плаче»: «Где теперь тот неоцененный камень, который я (церковь) носила вместе с другими бриллиантами на моей голове, в венце, как солнце среди звезд, где теперь дом князей Острожских, который превосходил всех ярким блеском своей древней (Православной) веры? Где и другие также неоцененные камни моего венца, славные роды Русских князей, мои сапфиры и алмазы: князья Слуцкие, Заславские, Збаражские, Вишневецкие, Сангушки, Чарторыйские, Пронские, Рожинские, Соломерецкие, Головчицкие, Коширские, Масальские, Горские, Соколинские, Лукомские, Пузыны и другие без числа? Где вместе с ними и другие роды – древние, именитые, сильные роды славного по всему миру силою и могуществом народа Русского: Ходкевичи, Глебовичи, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Воины, Воловичи, Зеновичи, Пацы, Халецкие, Тышкевичи, Корсаки, Хребтовичи, Тризны, Горностаи, Бокеи, Мышковские, Гурки, Семашки, Гулевичи, Ярмолинские, Челненские, Калиновские, Кирдеи, Заборовские, Мелешки. Боговитыны, Павловичи, Сосновские, Скумины, Поцеи и другие?.. Вы, злые люди (своею изменою), обнажили меня от этой дорогой моей ризы и теперь насмехаетесь над немощным моим телом, из которого, однако, вы все вышли – но помните: проклят всяк, открывающий наготу своей матери, прокляты будете и вы все, насмехающиеся над моей наготой, радующиеся ей. Настанет время, когда вы будете стыдиться своих действий».
Создавшиеся в Польско-Литовском государстве особо тяжелые условия для православного населения заставляли это население уходить во множестве за рубеж – в степь, чтобы пополнять ряды вольного казачества по Днепру и его притокам, точно так же, как тяжкие времена, наступившие в Московской Руси, усилили движение ее обездоленных и озлобленных людей в Северскую Украину и на Дон.
Слухи о существовании истинного или ложного царевича Димитрия стали бродить в Московском государстве тотчас же вслед за смертью царя Феодора Иоанновича. Уже Лев Сапега, в бытность свою послом в Москве в 1600–1601 годах, сообщал в Польшу очень путаный и изобилующий явными несообразностями рассказ о том, что в Московском государстве существует некто – очень похожий на покойного царевича Димитрия.
Вслед за тем в 1601 году появился в пределах Польско-Литовского государства молодой человек, на вид несколько старше 20 лет, смуглый лицом, с заметной бородавкой или пятном около глаз и с одной рукой короче, чем другая; скоро этот молодой человек стал открыто заявлять, что он истинный царевич Димитрий, чудесно спасшийся в Угличе от убийц, подосланных Борисом Годуновым.
Появление названного Димитрия в жизни Русской земли окутано до настоящего времени большой темнотой. И ответить с безусловной достоверностью на вопрос, кто именно он был, не представляется никакой возможности. Однако с большою уверенностью можно сказать, что он самозвано носил имя того, чьи святые мощи, прославленные многими чудесами, покоятся и поныне в Архангельском соборе Московского Кремля.
Вместе с тем, несмотря на весьма несхожие мнения, высказываемые об истинной личности этого Лжедимитрия различными исследователями, из коих иные принимали его то за побочного сына Стефана Батория, то за уроженца Западной Руси, наиболее вероятно предположение, что он был подданный Московского государства и принадлежал к семье небогатого служилого рода Отрепьевых-Нелидовых.
Один из этих Отрепьевых, галицкий боярский сын Богдан, был убит каким-то литовцем в Немецкой слободе в Москве и оставил после себя вдову Варвару и сына Юрия; этот Юрий, по всей вероятности, и был тем лицом, которое выступило затем под именем убиенного царевича Димитрия; по некоторым известиям, Богдан и Варвара Отрепьевы только усыновили Юрия, который в действительности был побочным сыном какого-то очень знатного лица и получил при крещении имя Леонида; при этом он, по-видимому, рано узнал о своем высоком происхождении, но знал ли он точно, кто были его родители, или только строил об этом различные предположения – к сожалению, совершенно неизвестно.

Л. Килиан. Портрет Лжедмитрия I Самозванца
Юрий с детства был обучен грамоте и обнаружил хорошие умственные способности; затем он служил некоторое время в холопах у бояр Романовых и у князя Бориса Черкасского. Очень вероятно, что сходство в наружности молодого холопа с покойным царевичем Димитрием, у которого, по-видимому, была тоже бородавка на лице и одна рука короче другой, обращало на него внимание многих лиц, посещавших Романовых и Черкасских, причем об этом не раз говорилось и самому Юрию Отрепьеву; разумеется, разговоры эти производили на него весьма глубокое впечатление, особенно если он действительно знал о своем происхождении от какого-то очень именитого лица и тяготился бедным и зависимым положением, связанным с незначительным именем Отрепьева.
Будучи около 14 лет от роду, Юрий под влиянием каких-то опасностей со стороны подозрительного Бориса Годунова, может быть, и вследствие излишних разговоров о сходстве с царевичем Димитрием, исчезает из Москвы и начинает скитаться по разным монастырям, причем игумен Трифон, основатель Успенского монастыря в городе Хлынове (ныне Вятке) постригает его в 1595 году с именем Григория. После этого юный инок Григорий пробыл около года в суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре, где был под началом какого-то старца. Затем он переменил еще несколько обителей и возвратился в Москву, где в это время дед его, Замятия Отрепьев, был пострижен в Чудовом монастыре; ввиду бедности внука он взял его себе в келью. Здесь Григорий пробыл более года и был посвящен в это время в дьяконы; скоро он обратил на себя внимание своею грамотностью и сочинением канонов чудотворцам самого патриарха Иова, который взял его к себе, а потом брал даже с собою ко двору – в Царскую думу, где Григорий мог ознакомиться с придворными порядками Московского государства. Честолюбивые замыслы молодого инока, по-видимому, в это время окончательно созрели; он, разумеется, должен был неоднократно слышать рассказы о том, как неправдой и преступлением достиг Годунов престола, а также о той ненависти, которую питали к нему весьма многие.
Пребывание Отрепьева при патриаршем дворе совпало с приездом в 1600–1601 году посольства Льва Сапеги в Москву; вероятно, тогда в его свиту и проникли разговоры о сходстве какого-то инока с покойным Димитрием.
Вместе с тем к этому времени можно, по-видимому, отнести и имеющиеся известия о том, что Григорий особенно пристрастился к занятиям астрологией и принимал многих звездочетов и гадателей, которые уверяли его, что он сядет на Москве государем и будет царствовать 34 года.
Вскоре Григория постигла беда, кажется, именно вследствие излишней его болтливости о том, что царевич Димитрий спасся и не замедлит появиться; многочисленные доносчики царя Бориса обратили внимание на молодого Отрепьева и донесли на него патриарху; когда же Иов не дал этому веры, то донос был сделан уже самому Борису. Борис всполошился и приказал дьяку Смирнову-Васильеву сослать Григория Отрепьева на Соловки, выставив предлогом этой ссылки его занятия чернокнижием. Но дьяка Смирнова-Васильева упросил другой дьяк, Семейка Ефимиев, бывший в свойстве с Отрепьевым, повременить с исполнением приказа о ссылке.
 Тогда Григорий, проведав о грозившей ему опасности, решил бежать в Литву.
Тогда Григорий, проведав о грозившей ему опасности, решил бежать в Литву.
«…В Великий пост, на другой неделе в понедельник, иду, государь, я Варварским крестцом, и сзади меня пришел чернец молод, сотворив молитву и поклонився мне, и учал меня спрашивати: старец, которые честные обители? И сказал я ему, что постригся в немощи, а начало имею Рожества Пречистой Пафнотиева монастыря (Боровского)… И он мне сказал, что жил в Чудове монастыре, а чин имею дьяконский, а зовут меня Григорием, а по прозвищу Отрепьев. – И яз ему говорил: что тобе Замятия да Смирной Отрепьевы? И он мне сказал, что Замятия ему дед, а Смирной дядя. – Да ему же я говорил: которое тебе дело до меня? И он сказал:… У патриарха Иева жил-де я, и патриарх-де, видя мое досужество, и учал на царскую думу вверх с собой меня имати; и в славу-де вшел в великую; и мне-де славы и богатства земного не хочетца не токмо видети, но и слышати, и хочю с Москвы съехати в дальней монастырь; и есть монастырь в Чернигове, и мы пойдем в тот монастырь». Так рассказывает некий старец Варлаам в своем «Извете», составленном при царе Василии Ивановиче Шуйском.
По этому рассказу, на предложение, сделанное на улице старцу молодым иноком, Варлаам отвечал ему, что после жизни в Москве пребывание в глухом Черниговском монастыре покажется Григорию очень тягостным. Но Григорий на это сказал: «Хочю-де в Киев в Печерской монастырь… пойдем до святого града Иерусалима…» – «И я ему говорил, – продолжает Варлаам, – что Печерский монастырь за рубежом в Литве, и за рубеж ехати не смети. И он мне сказал: государь-де Московской с королем взял мир на 22 года, и ныне-де просто, и застав нет». Тогда Варлаам согласился. Они дали друг другу обещание сойтись назавтра в Иконном ряду и, действительно, сошлись там на другой день, причем Григорий привел и третьего спутника – инока Мисаила, в миру Михаила Повадина.
«И шед мы за Москву-реку, – рассказывает Варлаам, – и наняли подводы до Волхова, а из Волхова до Карачева, и с Карачева до Новогородка Сиверского. И в Новегородке принялся в Преображенской монастырь, и строитель Захарей Лихарев поставил нас на крылосе; а тот дьякон Гришка на Благовещениев день с попами служил обедню и за Пречистою ходил. И на третией недели после Велика дни в понедельник вожа добыли Ивашка Семенова, отставленного старца, да пошли на Стародуб и на Стародубскии уезд; и Ивашко вож за рубеж провел в Литовскую землю; и первый город Литовской нам Лоева замка, а другой Любец, а третий Киев. И в Киеве в Печерском монастыри архимарит Елисей нас принял, и в Киеве всего жили 3 недели, и он, Гришка, похоте ехати к воеводе Киевскому ко князю Василию (Константину) Острожскому и у архимарита Елисея Плетенецкого и у братии отпросился».

М. Нестеров. Соловки
По рассказу Варлаама, он предупреждал Елисея Плетенецкого, что Григорий «ныне идет в мир до князя Василия (Константина) Острожского и хочет платие иноческое скинути; и ему будет воровати, а Богу и Пречистой солгал», на что архимандрит отвечал, что в Литве земля вольная, в коей кто вере хочет, в той и пребывает, и затем будто бы отказал в просьбе Варлаама разрешить ему остаться в Печерскои обители, сказав ему: «Четыре-де вас пришло, четверо и подите», почему все четверо – Григорий, Варлаам, Михаил и Ивашко Семенов – и пошли в Острог к князю Василию (Константину) Константиновичу Острожскому.
В этом рассказе старца Варлаама, несомненно, есть крупные недомолвки и неточности. Его неожиданная встреча с незнакомым иноком на Варварском крестце и данное тотчас же согласие ехать с ним за Литовский рубеж является, очевидно, вымыслом. Согласно данным так называемого «Нового летописца», Варлаам и Мисаил Повадин были еще до путешествия вполне посвящены в истинные замыслы Григория и являлись его ближайшими сообщниками. Об этом прямо говорит известный современник князь И.М. Катырев-Ростовский, а именно, что Григорий «отоиде во сторону Сиверских городов со двема некоима иноки, единомысленных ему и оттоле дошед Литовские земли града Киева». То же повторяет в своей «Повести», составленной не позднее середины XVII века, и князь СИ. Шаховской.
За свое трехнедельное пребывание в Киеве Григорий успел, по-видимому, завязать сношения с запорожскими казаками, которые во второй половине XVI века занимались поддержкой нескольких самозванцев в Молдавии; кроме упомянутого нами в предыдущей главе Ивана Подковы, в 1592 году при их содействии в Яссах утвердился на некоторое время, выдавая себя за сына покойного князя Александра Молдавского, какой-то Петр казак, а ранее Подковы запорожцы помогли овладеть молдавским престолом греку Якову Василику; ввиду этого для прекращения подобного казацкого своевольства Сигизмунд III наложил на них обязательство не принимать к себе разных «господарчиков».
В Остроге Григорий с Варлаамом и Мисаилом прожили все лето, «а на осень меня да Мисаила Повадина, – рассказывает Варлаам, – князь Василей послал во свое богомолие, к Живоначальной Троицы в Дерманский монастырь. А он, Гришка, съехал в Гощею город к пану к Госкому, да в Гощее иноческое платие с себя скинул и учинился мирянином, иучал в Гощее учиться в школе по-латынски и по-польски и люторской грамоте…». По-видимому, Григорий пытался открыть свои замыслы князю Константину Острожскому и привлечь его на свою сторону, но неудачно. Сам Константин Острожскии, спрошенный об этом впоследствии королем Сигизмундом, отрицал свои сношения с Гришкой и даже отвечал, что совершенно не знает, о ком идет речь. Однако в Загоровском монастыре Волынской епархии сохранилась книга «Василий Великий» со следующей весьма любопытной надписью: «Лета от сотворения миру 7110 (1602) месяца августа в 14-й день, сию книгу великого Василия дал нам Григорию с братию с Варлаамом, да Мисаилом Константин Костинович, нареченный во святом крещении Василей Божиею милостию пресветлое Княже Острожское, воевода Киевский». Под словом «Григорию» внизу подписано тою же рукою, но несколько другими чернилами: «Царевичу Московскому»; вероятно, эти слова прибавлены позже, причем, так как почерк подписи не сходен с известным почерком Лжедимитрия. то следует признать, что она сделана кем-нибудь из его двух спутников. Во всяком случае, эта подпись служит свидетельством, что Григорий Отрепьев с Варлаамом и Мисаилом были летом 1602 года у князя Константина Константиновича Острожского и получили от него в дар книгу, причем именно этот Григорий Отрепьев стал считаться впоследствии царевичем Димитрием.
Сын князя Константина, Януш, отпавший в латинство и занимавший должность каштеляна Краковского, в письме своем от 3 марта 1604 года совершенно определенно писал королю Сигизмунду: «Я знаю Димитрия уже несколько лет; он жил довольно долго в монастыре отца моего, в Дермане; потом он ушел оттуда и пристал к анабаптистам (секта перекрещенцев); с тех пор я его потерял из виду». Еще определеннее были слухи о названном Димитрии в Кракове, где их собирал папский нунций (посланник) Рангони; по этим слухам, как рассказывает современный нам писатель-иезуит, особо облюбовавший русскую историю, отец Пирлинг, «Димитрий пытался было открыть свои намерения Киевскому воеводе (Константину Константиновичу Острожскому)… однако старый князь выпроводил его безо всякого стеснения; рассказывали даже, будто бы один из гайдуков вельможи позволил себе грубые насилия над смелым просителем и вытолкал его за ворота замка. Впрочем, Димитрий не впал в уныние от своей неудачи. Постигла она его в действительности или нет, во всяком случае, он не потерял своей бодрости и из Острога отправился в Гощу».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?