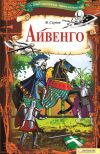Текст книги "Сказания о Русской земле. Книга 4"

Автор книги: Александр Нечволодов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Приготовления к путешествию Мнишеков заняли три месяца, «в течение которых, – говорит Валишевский, – отец Марины удвоил количество своих долгов. Но он добился королевского приказа, избавлявшего его от судебного преследования на все время отсутствия, и мог свободно разорить своих должников». Перед отправлением в Москву Юрий Мнишек получил напутственную грамоту от папы Павла V, который писал ему, что он больше всего полагается на его благочестие и нуждается в его совете и помощи, причем надеется, что московский народ легко обратится в католичество, потому что он от природы кроток и до сих пор не заражен еще ересями. Марина же писала папе, что «только бы святые ангелы благоволили довести ее до Москвы, не будет у нее другой заботы, кроме торжества истинной веры».
 Со Мнишеками выехало в Москву множество самого разнообразнейшего люда: ехал брат Марины – Станислав, брат самого Мнишека – Ян, Константин Вишневецкий, несколько членов семьи Тарло, родственников матери Марины, и другие представители польской знати. «Охмистром» (гофмейстером – управляющим двором) будущей московской царицы был пан Стадницкий, а «охмистриною» пани Казановская. Много было и латинского духовенства, в том числе иезуит Савицкий и, как его называет Валишевский, «веселый патер Анзеринус», знакомый нам ксендз Гусь. Затем было также 20 музыкантов и огромное количество торговцев, суконщиков, аптекарей, цирюльников – всего до 2000 человек. Каждый из членов этого сборища, сопровождавшего Марину к венцу, ехал с тем, чтобы возможно лучше поживиться в Московском государстве. Ксендзы рассчитывали обратить скоро весь русский народ в латинство, а остальные знатно повеселиться и нажить большую деньгу.
Со Мнишеками выехало в Москву множество самого разнообразнейшего люда: ехал брат Марины – Станислав, брат самого Мнишека – Ян, Константин Вишневецкий, несколько членов семьи Тарло, родственников матери Марины, и другие представители польской знати. «Охмистром» (гофмейстером – управляющим двором) будущей московской царицы был пан Стадницкий, а «охмистриною» пани Казановская. Много было и латинского духовенства, в том числе иезуит Савицкий и, как его называет Валишевский, «веселый патер Анзеринус», знакомый нам ксендз Гусь. Затем было также 20 музыкантов и огромное количество торговцев, суконщиков, аптекарей, цирюльников – всего до 2000 человек. Каждый из членов этого сборища, сопровождавшего Марину к венцу, ехал с тем, чтобы возможно лучше поживиться в Московском государстве. Ксендзы рассчитывали обратить скоро весь русский народ в латинство, а остальные знатно повеселиться и нажить большую деньгу.
Зная беспримерную страсть Лжедимитрия к мотовству, старая Анна Ягеллонка, вдова Батория, тоже хотела поправить свои дела за счет царской казны и послала важного пана Немоевского продать расстриге свои драгоценности по хорошей цене.
Отъезд из Самбора состоялся 20 февраля. Ехали неторопливо, с многочисленными остановками, причем на трех из них, в Минске, Смолевичах и Борисове, Мнишек получал от нетерпеливого жениха щедрые присылки денег.
10 апреля в Лубне, близ литовской границы, Михайло Нагой и князь Рубец-Мосальский приветствовали высоких гостей от имени царя и объявили Марине, что он ничего не пожалеет, чтобы обставить ее путь возможными удобствами; действительно, одних только мостов по дороге было выстроено 540. В Смоленске Марину встретили великолепные сани, обитые соболями; в Вязьме Мнишек расстался с дочерью и поехал вперед в Москву.
В Можайск, во время остановки Марины, по некоторым известиям, к ней приезжал Лжедимитрий и провел с невестой двое суток. Наконец, перед самой Москвой, в деревне Мамонове, жених опять явился ночью и виделся с нею в присутствии ее спутниц.
24 апреля Юрий Мнишек прибыл в Москву и был встречен с большим торжеством. Лжедимитрий выслал ему навстречу Петра Басманова, одетого гусаром, с отрядом боярских детей, а также и великолепных коней, причем седло будущего царского тестя было оковано чистым золотом; при въезде в Кремль были расставлены войска.
Старого Мнишека поместили в бывшем доме Годуновых; обед, устроенный для него и приехавших с ним приятелей, подавался на золоте, а по его окончании гостей занимал молодой царский любимец – князь Иван Хворостинин.
На следующий день сендомирский воевода был торжественно принят царем. Расстрига сидел на своем золотом троне, в высокой короне на голове и со скипетром в правой руке, окруженный патриархом, высшим духовенством и боярами. Мнишек приветствовал его речью и так растрогал ЛжеДимитрия, по словам одного из прибывших в Москву поляков, «что он плакал, как бобр, утирая лицо платком». Затем начались веселые обеды, охоты и ночные попойки; польская музыка гремела в Кремле с утра до ночи, поражая москвичей своими необыкновенными звуками. Царь принимал самое деятельное участие во всех этих увеселениях, забавляясь все время переодеванием: он попеременно являлся то польским гусаром, то московским щеголем.
1 мая Марина прибыла под Москву и расположилась со свитою в великолепных шатрах, где была встречена знатнейшими сановниками. На другой день последовал ее торжественный въезд в столицу. Она ехала, приветствуемая звоном колоколов и громом пушечных выстрелов, в великолепной карете, отделанной серебром и запряженной десятью лошадьми, расписанными краской под тигровую масть. Впереди кареты ехал верхом сам старый Мнишек, и шли отряды польской пехоты и гусар, а по обеим сторонам улиц, сдерживая напор несметной толпы, стояли войска: московские стрельцы и дворяне, польские жолнеры, немецкие алебардщики и отряды казаков; их лично расставлял сам царь, скрытно разъезжавший затем среди народа, чтобы наблюдать за въездом своей нареченной. Говорят, москвичи опять, как год тому назад при въезде нового царя, были неприятно поражены внезапно поднявшимся сильным вихрем.
 Необычайной должна была им казаться и внешность их будущей царицы: она была в бальном французском платье, узко перетянутом в поясе, со взбитыми и поднятыми вверх волосами, и огромнейшим воротником, почти в аршин в поперечнике. Конечно, многочисленные драгоценные камни, которые носили прежние московские государыни, уже блистали на ней.
Необычайной должна была им казаться и внешность их будущей царицы: она была в бальном французском платье, узко перетянутом в поясе, со взбитыми и поднятыми вверх волосами, и огромнейшим воротником, почти в аршин в поперечнике. Конечно, многочисленные драгоценные камни, которые носили прежние московские государыни, уже блистали на ней.
Невеста должна была жить в помещении инокини Марфы, мнимой матери царя, в кремлевском Вознесенском монастыре. Когда поезд ее остановился у врат обители, то Марина, выходя из кареты, приказала сопровождавшему ее хору польских музыкантов сыграть польскую народную песню. Музыка, конечно, тотчас же грянула, к полному смущению всех присутствующих русских людей.
В тот же день, несколькими часами ранее въезда царской невесты, в Москву прибыли послы Сигизмунда – паны Олесницкий и Гонсевский для присутствия от его имени на торжестве бракосочетания.
Для размещения огромного количества польских гостей требовалось большое число помещений. Устроив Марину в Вознесенском монастыре, а Мнишека в доме Годуновых, для остальных взяли «все лучшие дома в Китае и Белом городе и выгнали хозяев, не только купцов, дворян, дьяков, людей духовного сана, но и первых вельмож, даже мнимых родственников царских, Нагих; сделался крик и вопль, – говорит Карамзин. – С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, москвитяне спрашивали у немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву, и говорили друг другу, что поляки хотят овладеть столицей».
Помещение Марины в монастыре было понято населением, что она будет готовиться к восприятию православия перед свадьбой. Но скоро все должны были в этом разочароваться. Марине с ее паньями и панами крайне не понравилось пребывание в «схизматической» обители. «Спутницы Марины нашли помещение зловещим, – говорит Валишевский, – не стало патера Анзеринуса, чтобы развлекать и подбадривать их: латинскому духовенству вход в монастырь строжайше воспрещался… Для полноты бедствий их отвратительно кормили в угрюмом монастыре и очень дурно обставили. Нежный вкус польских шляхтянок оскорблялся московскими приправами, а утонченная воспитанность страдала от сношений с грубыми монахинями».
Марина, разумеется, не замедлила пожаловаться на все это Лжедимитрию, и влюбленный жених поспешил ее утешить: он прислал ей в обитель польского повара, а затем и польских музыкантов и песельников, вместе с ларцом, заключавшим в себе на 500 000 рублей драгоценностей. Невеста и ее спутницы развеселились: звуки музыки и песен стали оглашать стены тихой обители, а к столу им начали подаваться любимые польские блюда. Пан Мнишек был тоже доволен: будущий зять опять подарил ему 100 000 золотых. Вообще самозванец потратил на одни дары невесте и полякам около 4 миллионов рублей.
Оставшиеся дни перед бракосочетанием, которое должно было состояться 8 мая, шли между тем не совсем гладко.
На Освященном соборе у духовенства поднялся вопрос: можно ли допустить до брака с царем католичку Марину, или ее необходимо крестить. Угодливый патриарх Игнатий полагал, что достаточно будет, если она приобщится Святых Тайн; другие святители молчали, но двое – Гермоген Казанский и Иосиф Коломенский настаивали, что еретичка Марина непременно должна быть крещена. Взбешенный этим, Лжедимитрии выслал обоих пастырей из Москвы в их епархии.
На следующий день после приезда Марины, 3 мая, Лжедимитрии торжественно принимал в Грановитой палате знатнейших поляков, свою будущую родню со стороны Мнишеков и королевских послов – Олесницкого и Гонсевского.

Марина Мнишек
Самозванец сидел на троне, в короне и со скипетром, имея у своих ног двух серебряных львов; на его правой руке виднелось кольцо с необыкновенным рубином в три пальца шириной; рядом с троном стоял великий мечник князь М.В. Скопин-Шуйский, с обнаженным мечом, а по бокам 4 рынды в белоснежных одеждах; несколько же позади виднелся, как и во времена Герберштеина, серебряный вызолоченный умывальник с водою. Кругом палаты сидело на скамьях у стен около 70 бояр в высоких горлатных шапках из черной лисицы; патриарх находился справа от Лжедимитрия на особом кресле, а несколько подальше от него были расположены на скамье остальные владыки Освященного собора. Дворецкий князь Рубец-Мосальский и великий секретарь Афанасий Власьев вызывали поляков по списку для целования расстригиной руки.
Первым приветствовал царя управляющий двором Марины, пан Мартын Стадницкий. Затем наступила очередь королевских послов. Когда те были еще в сенях, самозванец послал к ним Юрия Мнишека с требованием, чтобы они назвали его непременно цесарем (императором), но послы не соглашались на это, и Юрий Мнишек несколько раз возвращался в палату и опять уходил из нее. Наконец они были допущены пред очи Лжедимитрия. Олесницкий приветствовал его, но не назвал ни царем, ни императором, а затем вручил грамоту Сигизмунда Афанасию Власьеву. Последний подошел с нею к самозванцу и стал тихо читать ему ее надпись: в ней Лжедимитрий тоже не был назван ни царем, ни цесарем. Тогда Власьев вернул ее обратно послам и сказал им, что она написана какому-то князю Димитрию, а не цесарю, перед которым они стоят, а потому им надлежит с нею ехать домой.

И. Бигарди. Грановитая палата Московского Кремля. Прием посланников польского короля Сигизмунда I
«С благоговением принимаю обратно грамоту его величества и короля моего, – отвечал Олесницкий, обращаясь к Лжедимитрию, – но ни от одного христианского государя не получали еще такого оскорбления ни король, ни Речь Посполитая, в которой ваша господарская милость еще недавно была осыпана ласками и благодеяниями, а теперь так скоро их забыла и с презрением отвергает письмо его величества с трона, на коем сидит благодаря дивному Божиему промыслу, моему государю и польскому народу…». «Эта дерзкая речь Олесницкого оскорбила всех Россиян, – говорит Карамзин, – не менее Царя; но Лжедимитрий не мыслил выгнать дерзкого пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием…». Он снял с себя корону и вступил в спор с Олесницким, доказывая ему, что он не только князь и государь, но даже и не царь, а император или цесарь, причем все бывшие до него мидийские, ассирийские и римские императоры имели на это звание меньше прав, чем он, и что уже все европейские государи, кроме одного только Сигизмунда, признали его в этом новом звании. На это Олесницкий, извинившись в отсутствии красноречия, «с жаром и грубостью, – по выражению Карамзина, – упрекал Лжедимитрия в неблагодарности, забвении милостей королевских, безрассудности в требовании титула нового, без всякого права…».
Затем в спор вмешался и Афанасий Власьев; все трое говорили одновременно, перебивая и не слушая друг друга. В Грановитой палате, где прежде торжественно восседали знаменитые русские государи Иоанн III, Василий III и Грозный царь, поднялся шум и гам, как на базарной площади, и все «признаки закоснелой подлости» сидевшего на троне царя с полной очевидностью обнаружились в это время перед чинно сидящими в горлатных шапках членами Царского синклита и Освященным собором.
Видя, что Олесницкого не переспорить, Лжедимитрий не выдержал и постыдно уступил ему; чтобы кончить спор, он просил его подойти к своей руке не как посла, а как доброго знакомого. Но дерзкий пан упорствовал: «Или я посол, – сказал он, – или не могу целовать твоей руки», и Лжедимитрий сдался окончательно. Грамота Сигизмунда была принята тут же при всех, «для того, – пояснил Власьев, – что царь, готовясь к брачному веселью, расположен к снисходительности и мирным чувствам».
Лжедимитрий спросил затем о здоровье короля, однако, чтобы показать свое неудовольствие, не привстал, как этого требовал обычай. «Вашему наияснейшему господарскому величеству следует встать при этом вопросе», – нагло заметил ему Олесницкий. «И расстрига, – говорит возмущенный Н.М. Карамзин, – исполнил его желание – одним словом, унизил, остыдил себя в глазах Лвора явлением непристойным, досадив вместе и Ляхам и Россиянам». После этого, в знак своего особого расположения, Лжедимитрий послал Олесницкому и Гонсевскому к ним на дом до 100 кушаний на золотых блюдах со своего стола, а приехавших с Мариною поляков по-приятельски угощал обедом, подавая каждому руку и перед каждым снимая надетую на своей голове высокую шапку из драгоценной черной лисицы.
«В монастыре веселились, во дворце пировали, – рассказывает Карамзин… – Деньги из Царской казны лились рекой… Знатные Ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве… Но самая роскошь гостей оскорбляла народ: видя их великолепие, Москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны Царской; что достояние Отечества, собранное умом и трудами наших Государей, идет в руки неприятелей России».
7 мая, ночью, Марина при свете 200 факелов совершила в богатейшей колеснице переезд из Вознесенского монастыря на свою половину нового деревянного дворца, выстроенного Лжедимитрием.
Свадьба, с соблюдением всех старинных обрядов, описанных нами при венчании Василия III и Елены Глинской, состоялась на другой день, 8 мая, хотя это и был канун большого праздника – Святителя Николая, когда по церковному обычаю венчания не положено.
Невесту для обручения ввели в столовую избу княгиня Мстиславская и Юрий Мнишек. Тысяцким жениха был князь Василий Иванович Шуйский. Лжедимитрий весь сиял от блеска драгоценных камней, на нем надетых. Марина, преодолев на сей день свое отвращение к русскому наряду, была в красном бархатном платье с широкими рукавами, причем оно было настолько густо обшито жемчугом, что едва можно было различить его цвет; повязка же на ее голове из драгоценнейших камней стоила до 70 000 рублей.
Перед совершением таинства бракосочетания Лжедимитрий вздумал венчать на царство свою невесту. В Грановитой палате было сооружено два престола: на один сел расстрига, на другой – Марина. К ней подошел князь Василий Иванович Шуйский и громко сказал: «Наияснейшая, великая государыня цесаревна Мария Юрьевна! Волею Божиею и непобедимаго самодержца, цесаря и великаго князя всея России, ты избрана быть его супругою: ступи же на свой царский маестат (владычество) и властвуй вместе с государем над нами».
 Из Грановитой палаты торжественное шествие направилось через Красное крыльцо в Успенский собор; там было тоже приготовлено три трона – для жениха, невесты и патриарха. Марина и сопровождавшие ее поляки начали прикладываться к иконам, причем, к великому соблазну присутствующих православных, целовали изображенных на них святых прямо в уста. «Польки ее свиты подчинились сей необходимости с проклятием в душе», – говорит Валишевский. Затем началось беспримерное деяние: Марина была венчана патриархом на царство, чего не удостаивалась ни одна из прежних наших благочестивых цариц. Недостойный первосвятитель Игнатий надел на иноверку Марину Животворящий Крест, шапку и бармы Мономаха, помазал ее миром и причастил. Последнее обстоятельство, впрочем, иезуиты, во главе с отцом Пирлингом, отвергают. После принесения ей поздравлений всем духовенством, боярами и поляками, при пении певчими многолетия «благоверной цесаревне Марине», начался обряд бракосочетания. В течение этой службы расстрига крайне высокомерно требовал от окружавших его бояр разных унизительных, как это было замечено присутствующими поляками, услуг: подставить ему под ноги скамейку и прочее. После венца молодые, в коронах на головах, вышли, держась за руки, из храма и в дверях были осыпаны по обычаю золотыми деньгами князем Мстиславским. Затем был небольшой обед и наконец Юрий Мнишек и князь В.И. Шуйский проводили новобрачных до их покоев.
Из Грановитой палаты торжественное шествие направилось через Красное крыльцо в Успенский собор; там было тоже приготовлено три трона – для жениха, невесты и патриарха. Марина и сопровождавшие ее поляки начали прикладываться к иконам, причем, к великому соблазну присутствующих православных, целовали изображенных на них святых прямо в уста. «Польки ее свиты подчинились сей необходимости с проклятием в душе», – говорит Валишевский. Затем началось беспримерное деяние: Марина была венчана патриархом на царство, чего не удостаивалась ни одна из прежних наших благочестивых цариц. Недостойный первосвятитель Игнатий надел на иноверку Марину Животворящий Крест, шапку и бармы Мономаха, помазал ее миром и причастил. Последнее обстоятельство, впрочем, иезуиты, во главе с отцом Пирлингом, отвергают. После принесения ей поздравлений всем духовенством, боярами и поляками, при пении певчими многолетия «благоверной цесаревне Марине», начался обряд бракосочетания. В течение этой службы расстрига крайне высокомерно требовал от окружавших его бояр разных унизительных, как это было замечено присутствующими поляками, услуг: подставить ему под ноги скамейку и прочее. После венца молодые, в коронах на головах, вышли, держась за руки, из храма и в дверях были осыпаны по обычаю золотыми деньгами князем Мстиславским. Затем был небольшой обед и наконец Юрий Мнишек и князь В.И. Шуйский проводили новобрачных до их покоев.
Торжества по случаю свадьбы царя начались на другой день. Вместе с тем начались и разного рода недоразумения.
Получив приглашение к царскому столу, послы Олесницкий и Гонсевский заявили, что они требуют, чтобы их посадили непременно за одним столом с царем и царицею, подобно тому, как сидел Власьев в Кракове на обеде у короля после своего обручения с Мариной по латинскому обряду. Им возражал на это тот же Власьев, указывая, что вместе с ним за королевским столом сидели послы императора и папы, следовательно, ему никакой особой чести оказано не было, «ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки, – нет, великий цезарь Димитрий более их: что у вас папа, то у него каждый поп». «Так изъяснялся, – говорит Карамзин, – первый делец государственный и верный слуга Расстригин, в душе своей не благоприятствуя Ляхам и желая, может быть, сей непристойной насмешкой доказать, что Лжедимитрии не есть папист».
Послы обедать не поехали. Торжество, впрочем, от этого нисколько не пострадало. За столом в Грановитой палате, где присутствовали высшие русские сановники и польская знать, Лжедимитрии появился одетый гусаром, а Марина в своем польском одеянии, которое она больше не снимала. В дверях же разместились польские музыканты. Расстрига постоянно пил здоровье поляков и оказывал им отменную честь. По окончании стола русские разошлись по своим домам, но поляков Лжедимитрии удержал в своих покоях и потребовал сюда еще вина и музыки. Здесь он опять пил здоровье каждого и по-приятельски шутил и беседовал с ними, причем, как истый потомок по духу второго сына Ноя, глумился в разговорах над императором Рудольфом, королем Сигизмундом и над папою, а себя называл другом Александра Македонского и выражал сожаление, что не может померяться с ним силами. Затем он пошел в помещение польских солдат и пил за их здоровье и за славу польского оружия.
В воскресенье, 11 мая, польские послы подносили подарки Марине и опять были приглашены обедать, причем опять же возникли пререкания о местах. Благодаря вмешательству Юрия Мнишека Лжедимитрии уступил и согласился поставить особый стол для старшего из послов Олесницкого – несколько ниже своего, но за обедом продолжал держать себя невежливо по отношению к Сигизмунду и пил его здоровье сидя и с покрытой головой; когда же приглашенные поляки подходили к нему с чаркой, он перед каждым снимал с головы тафью.

А. Горский. Москва XVII века
По-видимому, в этот же день, 11-го утром, вышла неприятность для молодых. На дьяка Тимофея Осипова была возложена обязанность торжественно объявить Марину царицей, после чего должно было последовать принесение ей присяги. Готовясь к этому дню, Тимофей Осипов наложил на себя пост и двукратно причастился Святых Тайн. Затем, когда настало время, он, ничего не сказав жене, предстал перед царем и в присутствии всех громогласно начал свою речь словами: «Велишь себя писать в титулах и грамотах цезарь непобедимый, а то слово по нашему христианскому закону Господу нашему Иисусу Христу грубно и противно: а ты вор и еретик подлинный, расстрига Гришка Отрепьев, а не царевич Димитрий». Мужественный дьяк объявил затем, что не желает присягать иезуитке, царице-язычнице, оскорбляющей своим присутствием московские святыни, и хотел продолжать свою речь дальше, но был тотчас же убит окружающими и выброшен из окна.
14 мая Марина принимала в своих покоях всех московских боярынь. Подробностей об этом приеме польские летописцы не сохранили.
15-го числа состоялось деловое совещание польских послов с князьями Димитрием Шуйским и Мосальским, Михаилом Татищевым и дьяками Власьевым и Грамотиным. Опираясь на обещание, данное расстригою королю, послы требовали, чтобы царь отдал Польше Смоленск и княжество Северское, а также Новгород и Псков или, по крайней мере, часть этих земель и оказал бы ему ратную помощь для овладения Швецией. За это Сигизмунд обещал помогать ему в войне с турками. Далее послы настаивали, что в случае бездетности царя его престол должен перейти к польской короне, а пока в Московском государстве необходимо открыть костелы и завести школы и коллегии (иезуитские для детей). Им ответили, что царь вскоре сам будет говорить с ними про все эти дела.
В ожидании же этих разговоров Лжедимитрий пригласил в тот же день Олесницкого на пир, устраиваемый для друзей Марины, уверяя его, что на нем «не будет ни цезаря, ни посла», а только одни друзья. «Но потом далеко иначе было», – говорит один поляк-очевидец.
После обеда расстрига и Марина пустились в пляс; затем с ней начали танцевать и другие польские паны, а Лжедимитрий пошел переодеться. Между тем в палату стала набиваться прислуга находившихся в ней панов, чтобы взглянуть, как они веселятся. Марине это не понравилось, и, по словам пана Немоевского, «государыня» обратилась к трем своим приближенным со словами: «Скажите тем, которые сюда влезли, и их панам, чтобы они убирались, иначе я их велю отхлестать кнутами, да не единожды, а трижды». Это были единственные слова, которые дошли до нас от Марины за время ее пребывания московской царицей. Они показывают нам ясно, насколько велика была «утонченная воспитанность» польской шляхтянки, которая, по словам Валишевского, «страдала от сношений с грубыми монахинями Вознесенского монастыря».
 Между тем в палату вернулся расстрига; он скинул свое московское одеяние и явился теперь в красном польском жупане, богато вышитом зелеными и голубыми цветами и усыпанном жемчугом и брильянтами. Самозванец взял Марину и начал с ней какой-то танец, в котором за ними должен был ухаживать пан Олесницкий. Олесницкий ухаживал, не снимая с головы своей венгерской шапочки-магерки, и вызвал тем сильный гнев царя: «Скажите всем, кто танцует в шапках, – крикнул он пану Стадницкому, – что с тех я буду снимать их вместе с головами». – «Смотрите, ваша милость, – сказал на это Олесницкий пану Немоевскому, снимая свою магерку, – господарь мне обещал, что тут не будет ни посла, ни цесаря, а теперь я вижу, что посла-то нет, но цесарь остался».
Между тем в палату вернулся расстрига; он скинул свое московское одеяние и явился теперь в красном польском жупане, богато вышитом зелеными и голубыми цветами и усыпанном жемчугом и брильянтами. Самозванец взял Марину и начал с ней какой-то танец, в котором за ними должен был ухаживать пан Олесницкий. Олесницкий ухаживал, не снимая с головы своей венгерской шапочки-магерки, и вызвал тем сильный гнев царя: «Скажите всем, кто танцует в шапках, – крикнул он пану Стадницкому, – что с тех я буду снимать их вместе с головами». – «Смотрите, ваша милость, – сказал на это Олесницкий пану Немоевскому, снимая свою магерку, – господарь мне обещал, что тут не будет ни посла, ни цесаря, а теперь я вижу, что посла-то нет, но цесарь остался».
Пляски продолжались, но расстрига зорко следил, чтобы никто не смел быть в шапках, и требовал, чтобы по окончании каждого танца посол и все гости кланялись ему в ноги.
Часть вечера 16 мая самозванец провел с посланным королевы Анны Ягеллонки, паном Станиславом Немоевским, который принес ему показать привезенный для продажи железный ларец с брильянтами, рубинами и жемчугами. Лжедимитрий долго беседовал с ним, как с добрым приятелем, и оставил привезенные камни у себя, чтобы их лучше рассмотреть. Царь произвел отличное впечатление на Немоевского; он называет его высокопросвещенным, добрым, мягким и щедрым, впрочем, чаще на словах, чем на деле; «наобещав десятки тысяч, Лже димитрий, – говорит Немоевский, – охотно искал предлога для гнева, чтобы освободиться от данного слова… Роста был ниже среднего, с круглым, смуглым лицом и сумрачным взглядом маленьких глаз; с русыми волосами, без усов и без бороды, он, несмотря на молодость, имел в лице что-то бабье».
Вечер, проведенный с Немоевским, был последний в жизни расстриги.
Мы видели, какое страшное негодование должно было производить все поведение Лжедимитрия как на бояр и духовенство, так и на московское население.
«Прибытие Марины с поляками еще ускорило хоа событий, – говорит иезуит Пирлинг, – они сами признавались впоследствии, что злоупотребляли своим положением и слишком предавались своим страстям. Самые возмутительные деяния начали твориться на глазах у всех. Поляки не ведали ни стыда, ни совести. Знать шляхетская распевала, плясала, пировала в Кремле под звуки шумной музыки, непривычной для слуха благочестивых россиян… Эти надменные гости держали себя особняком, не желая смешиваться с русскими; понятно, такая исключительность оскорбляла многих и вызывала раздражение. Еще хуже знатных господ вела себя челядь. Здесь были настоящие головорезы. Они положительно ни в чем не знали удержу. То бесчинствовали в православных церквах, то затевали буйство на улице, то оскорбляли честных девиц… При всем своем пристрастии к соотечественникам, Мартын Стадницкий не скрывает своего отрицательного отношения к их поведению в Москве… По его словам, поляки вызывали ярость москвичей своей распущенностью. Они обходились с русскими людьми как с быдлом (скотом); они оскорбляли их всячески, затевали ссоры, а в пьяном виде способны были нанести самые тяжкие обиды замужним женщинам.
«Хуже всего было то, что сам Царь уже не внушал к себе прежнего доверия. Лимитрий, которым восторгались когда-то Рангони и о. Андрей (иезуит), был теперь неузнаваем. В нем совершился коренной переворот. Эта перемена сказалась и в тривиальных (пошлых) шутках, бестактных притязаниях, и в каком-то поистине роковом ослеплении…».
«Столь же малоутешительны были и те сведения, которые получал из Москвы о. Савицкий (иезуит). Бывший духовник царя волей-неволей должен был признаться, что его чадо стало совсем другим, чем было прежде. Пусть даже Димитрий не занимался черной магией, в чем некоторые его подозревали. Во всяком случае он был одержим бесами гордыни и любострастия. Он ставил себя выше всех государей Западного мира. Он был уверен, что ему суждено поразить свет подвигами нового Геркулеса. Он убежден был, что рано или поздно он пойдет во главе всехристианской армии, как вождь крестового похода и грядущий победитель Ислама… Он до смешного носился с самозвано присвоенным титулом императора. Его уверенность в своих познаниях и ловкости не имела границ. Он тешился своим всемогуществом, словно царствование его должно было длиться вечно…».
 Во главе недовольных новым царем стоял князь Василий Иванович Шуйский; он деятельно служил самозванцу, постоянно находясь в непосредственной его близости, но вместе с тем столь же деятельно готовился к его низвержению, когда приспеет для этого должное время. Ближайшими товарищами Шуйского по заговору были: князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин; они еще на свадьбе расстриги решили его убить, «а кто после него будет у них Царем, тот не должен никому мстить за прежние досады, но по общему совету управлять Российским Государством».
Во главе недовольных новым царем стоял князь Василий Иванович Шуйский; он деятельно служил самозванцу, постоянно находясь в непосредственной его близости, но вместе с тем столь же деятельно готовился к его низвержению, когда приспеет для этого должное время. Ближайшими товарищами Шуйского по заговору были: князья Василий Васильевич Голицын и Иван Семенович Куракин; они еще на свадьбе расстриги решили его убить, «а кто после него будет у них Царем, тот не должен никому мстить за прежние досады, но по общему совету управлять Российским Государством».
К этим главным заговорщикам примкнули многие дворяне, в числе которых видное место принадлежало думному дворянину Михаилу Татищеву, затем большое количество московских обитателей, а также 18-тысячный отряд новгородского и псковского войска, назначенный для похода в Крым и стоявший близ столицы. Перед переворотом у Шуйского собрались ночью главнейшие заговорщики – бояре, купцы, горожане, и сотники, и пятидесятники от полков. Шуйский прямо заявил им, что Димитрий был посажен с целью освободиться от Годунова и в надежде, что храбрый молодой царь будет оплотом православия и старых русских заветов. Но, к сожалению, оказалось, что вышло иначе: расстрига всецело предан полякам, презирает нашу веру и все русское, почему страшная опасность грозит православию и Отечеству.
Положено было, что заговорщики по звуку набата кинутся во дворец с криком: «Поляки бьют Государя», как бы для его защиты, чтобы не возбуждать подозрительности непосвященных в заговор москвичей, и убьют расстригу; в то же время решено было ворваться в дома ненавистных поляков, отмеченных накануне русскими буквами, и перебить их. «Немцев, – говорит С. Соловьев, – положено не трогать, потому что знали равнодушие этих честных наемников, которые храбро сражались за Годунова, верны Димитрию до его смерти, а потом будут так же верны новому царю из бояр».
На 18 мая Лжедимитрий готовил военную потеху – примерный приступ к деревянному городку, сооруженному за Сретенскими воротами. Этим также воспользовались заговорщики и распустили слух, что царь во время потехи перебьет всех бояр, а затем хочет отдать Польше часть Московских владений и ввести у нас унию. Слух этот, впрочем, имел некоторое основание, так как в этом замысле Лжедимитрия впоследствии признались братья Бучинские – секретари расстриги.
Конечно, скрыть все следы готовящегося обширного заговора было невозможно; в ответ на вызывающие действия поляков москвичи тоже относились к ним враждебно, и однажды толпа в 4000 человек стала осаждать дом, где жил Константин Вишневецкий; в пьяном виде многие горожане открыто ругали царя-еретика и поганую царицу. Сведения об этом доходили и до Лжедимитрия; но он в своем безумном ослеплении, по-видимому, безгранично веря, что будет царствовать по предсказанию астрологов 34 года, не придавал им большого значения. Между тем настроение московских жителей становилось уже явно враждебным по отношению к полякам, а ночью 15 мая в Кремле было поймано каких-то шесть заговорщиков, из которых трое были убиты, а трое преданы пытке.
Олесницкий, Гонсевский и Мнишек предупреждали царя о готовящемся возмущении; на это он пренебрежительно отвечал им: «Как вы, ляхи, малодушны!» и только для успокоения тестя приказал расставить по улицам стрелецкую стражу. Чуял беду и верный приспешник самозванца – Петр Басманов, но и он также ничего не мог поделать с его ослеплением.
Ночью на 17 мая бояре, участвовавшие в заговоре, распустили по домам именем царя 70 иностранных телохранителей из 100, ежедневно державших стражу во дворце, так что в нем их осталось только 30 человек. В ту же ночь вошел в Москву 18-тысячный отряд войска, перешедший на сторону Шуйского, и занял все 12 городских ворот, никого не впуская в Кремль и не выпуская из него. Все это прошло совершенно незаметно. Лжедимитрий и поляки беспечно спали глубоким сном, тем более что истекшее 16-е число прошло спокойно.

Н. Неврев. Дмитрий Самозванец у Вишневецкого
В субботу, 17 мая, в четвертом часу утра ударил большой колокол у Ильи Пророка на Ильинке. Удар этот был условным знаком; вслед за ним загудели разом все московские колокола. Народ, вооруженный бердышами, самострелами, мечами и копьями, стал валить со всех сторон на Красную площадь. Туда же бежали и преступники, выпущенные накануне боярами из тюрем. Главные руководители заговора: Шуйские, Голицын, Татищев и другие, в количестве до 200 человек, уже находились на Красной площади; все они были верхами и в полном вооружении. Когда народ собрался, то ему объявили: «Литва собирается убить царя и перебить бояр, идите бить литву». Этого было достаточно для озлобленных москвичей; они тотчас же бросились в разные концы города, чтобы избивать своих врагов. Заговорщики же спешили скорее покончить с Лжедимитрием. Василий Шуйский, с крестом в одной руке и мечом в другой, въехал через Спасские ворота в Кремль, приложился к образу Владимирской Божией Матери и сказал своим спутникам: «Во имя Божие идите на злого еретика во дворец».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?