Текст книги "Язык. Сборник статей о становлении русского дискурса"
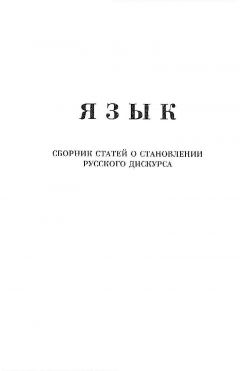
Автор книги: Александр Щипков
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Антиглобалисты
Российские движения антиглобалистов развиты слабо, они своеобразны и только отдалённо могут напоминать западные аналоги. Их риторика тоже направлена на критику транснациональных корпораций, концепции золотого миллиарда, современной массовой культуры, принципов глобального капитализма и идеологии неолиберализма. Отличительная же особенность отечественных антиглобалистов – в широком использовании православной и патриотической стилистики («Русская народная линия», «Встань за веру, русская земля», «Союз православных хоругвеносцев», «диомидовцы», противники ИНН и др.). Они активно употребляют слово «русские», в которое вкладывают своё особое мироощущение. Обострённое эсхатологическое восприятие современного исторического процесса и взгляд на мир как на агрессивно-враждебную среду приводят их к оборонительной идеологии: русские – это окружённая крепость, остров добра в мире расползающегося глобализма. Это развивает у антиглобалистов конспирологический стиль мышления, а также два основных чувства: обречённости и избранности. Первое придаёт подобным движениям, как правило, депрессивную эмоциональную стилистику, второе – позволяет их участникам ощутить свою уникальность и надисторичность. Это непосредственно отражается на содержании используемого слова «русские»: русские в словаре антиглобалистов являются жертвой обмана и тайного заговора мировых элит. Это избранный народ, он сохраняет в мире правду и становится по этой причине главной мишенью глобального зла, что ведёт к его гибели. Русский – тот, кто обречён на гибель.
Конспирологический способ мышления отечественных антиглобалистов толкает их к постоянному поиску тайных мотивов и замыслов в текущих общественно-политических событиях. Обнаруживая «скрытые смыслы», они их накапливают, обобщают и используют для построения собственного взгляда на мир, что зачастую ведёт к эзотеризму (например, в построении собственного эзотерического учения иногда обвиняют православных борцов с ИНН). В своей основе эзотерика происходит не только из склонности к мистицизму, но также из аналитического мышления – попыток рационально объяснить процессы, ощущаемые интуитивно.
Определённое влияние на формирование и распространение такого мышления оказало сообщество силовиков. Оно, с одной стороны, всегда ощущает себя над обществом, которое защищает, а с другой – существует в состоянии постоянной борьбы с угрозами и оппонентами, в том числе планируемыми – гипотетическими и воображаемыми. Важнейшей задачей силового сообщества является предвидеть угрозу там, где её не увидит простой человек. Это самоощущение избранности и работа с секретной информацией (тайным знанием) могут приводить к конспирологическому стилю мышления, проникающему и в публичное пространство. Это косвенно подтверждается тем, что в России в начале 1990-х годов выходцы из силовых структур создали ряд известных эзотерических сект (например, КОБ).
Церковь
Восстановление храмов и приходской жизни в новой России привело к постепенной реабилитации церковного языка в информационном пространстве. Первые десять лет телеведущие произносили названия православных праздников и богослужебных терминов с большим трудом, путая ударения и запинаясь. Давало о себе знать не только отсутствие подобной лексики в советское время, но и устойчивое ощущение её табуированности: в советском обществе она была за гранью приемлемого дискурса. Впоследствии эта ситуация была преодолена. Сегодня светское общество научилось понимать церковную лексику, и сама Церковь стала разговаривать с обществом вне церковной ограды, всё чаще используя светский язык. Таким образом, на стыке церковной и светской лексики формируется современный язык Церкви, который оказывает влияние на все сферы общества, в том числе на значение слова «русские». Сегодня в Русской Православной Церкви существует два основных восприятия русской темы.
Первый подход основан на опыте русского зарубежья, он полностью отражает его эстетическую и политическую стилистику, в которой «русскость» означает высший образованный класс, антибольшевизм, ностальгию по царской России. Он присущ в большей степени тем православным и духовенству, которые причисляют себя к интеллигенции, однако оказывает колоссальное влияние и на остальную часть Церкви.
Второй подход к «русскости» тесно связан с народным православием, деревенским бытом, натуральным хозяйством и экологией. Многие приходы воспринимают русскость и православие через образ утерянного крестьянского быта, который пытаются реконструировать. Этому подходу способствует уклад большого количества современных монастырей, которые занимаются животноводством и сельским хозяйством. От них пошло целое направление современной православной народной и экологической стилистики, основанной на идее чистого питания (монастырский хлеб, травяные сборы, мёд и другие продукты). Этот неодеревенский стиль пользуется популярностью в современном урбанизированном обществе. Связывая русскую православную идентичность с селом и природой, Церковь фактически создаёт новую экологическую субкультуру.
Обе русские идентичности – «зарубежная» и «деревенская» – развиваются в Церкви параллельно и не враждуют между собой. Основные идеологические процессы происходят внутри «зарубежной» идентичности, которая за последние годы постепенно перестала вмещать всю сложность церковнообщественных процессов в России. Сегодня в Церкви происходит её постепенная трансформация, в первую очередь через преодоление её антибольшевистской политизированности, характерной для эпохи холодной войны.
Как отмечалось выше, тему русского православия активно используют различные центры силы (модернисты, антиглобалисты, неоязычники и др.). Однако православная символика, наравне с любой другой, является для них строительным материалом. Они занимаются конструированием собственных дискурсов, которые нужно отграничивать от языка самой Церкви.
Russians
Участники современных политических дискуссий часто обращают внимание на то, что в большинстве иностранных языков (за исключением, например, белорусского и украинского) отсутствует понятие «российский». Общегражданская нация, как и национальность, на немецком, английском, французском, турецком и т. д. обозначается одним словом – русские. В России при изучении иностранных языков и подготовке переводчиков учат различать, в каких случаях иностранное «Russisch», «Russian», «Russe», «Rus» и т. д. нужно переводить как «русское», а в каких – как «российское».
Целостное восприятие иностранцами российского общества как русского можно почувствовать в бытовом отношении, когда оказываешься за рубежом – там название приезжих из России меняется на «русские», независимо от их национальной принадлежности. Российские олимпийцы, оказавшись на соревнованиях в зарубежных странах, оказываются русскими спортсменами. Кроме того, иностранное «Russians» влияет на восприятие общегражданской нации и в России. Определение себя «русскими» в значении, стилистически близком к «Russians», часто можно встретить в Министерстве иностранных дел и армии. Сказывается привыкание к тому, что зарубежные партнёры и потенциальные противники тебя называют русским, а не российским. Кроме того, работает память о войнах, главным образом о Великой Отечественной войне, когда немцы шли войной не на россиян и не на многонациональный советский народ, а на русских. Великая Отечественная война сакрализовала понятие «русские», вывела его из узкого национального значения, сделала его историко-культурным, ценностным и распространила на весь народ.
Русская литература
Русская классическая литература сегодня остаётся почти единственной фундаментальной областью, где сохраняется вся сложность и одновременно целостность понятия о русском народе. По охвату и глубине она далеко опережает перечисленные выше факторы, включая память о пережитых народных войнах. Русская литература описала русских как народ предельного нравственного и религиозного поиска, но не имеющий тяги к догматизированию; христианский и обладающий вселенским сознанием, но противный глобализму; подпольный, но лишённый маргинального самообмана; познающий мироздание через взгляд в собственную душу, но чуждый националистической этике.
Классическая литература не может самостоятельно преобразовывать современность. Несмотря на свою искренность и величие, она неизбежно будет становиться инструментом в руках творцов от мира. Литература является ценнейшим ресурсом, но не политической силой.
* * *
Трагический пафос расщеплённости понятия «русские» в современном русском языке не должен вводить нас в заблуждение. Многообразие «русских» свидетельствует не о слабости русской идентичности, а о многообразии сил, которые борются за право её трактовать.
После распада СССР и окончания бытия советского народа был введён термин «россияне». В течение 1990-х годов стало понятно, что ему не удаётся стать собирательным названием общенародной идентичности. «Российскость», родившаяся во время кризиса государственности, так и осталась сырой идеей, символизирующей эрзац-национальность эпохи радикального либерализма. В это же время начались болезненные и стихийные поиски новой национальной идеи, которые были остановлены почти административно при новом руководстве в начале 2000-х годов, когда бесплодность этих поисков стала очевидной. С приходом к власти В. Путина в стране наступила большая эпоха внешней политики, при которой логика политического мышления исходила из приоритета международного над внутренним в решении дальнейшей судьбы России. Большинство политических побед этого периода связаны именно с внешней политикой: отражение агрессии в ходе «пятидневной войны», Таможенный союз, Олимпиада в Сочи, Крым, Сирия. И во внутренней политике основные преобразования связаны с попытками укротить и приручить агрессивный иностранный капитал в информационной и экономической сфере. За прошедшие с этого момента семнадцать лет международная идентичность России укрепилась настолько, что стало более престижно ассоциировать себя с названием страны, а не её народа. В современном русском политическом языке Россия – это больше, чем название государства. Это и цивилизация, и судьба, и ответственность.
Эта эпоха выполнила свою задачу и подходит к своему завершению. Если можно говорить о масштабах международной идентичности России, то в сегодняшних условиях она достигла своего максимума. Дальнейшее развитие страны упирается в неопределённость внутренней идентичности, что сегодняшнее политическое руководство осознаёт с полной ясностью.
Если первый этап охарактеризовался переходом от «россиян» к «России», то на втором этапе произойдёт переход от «России» к «русским», как собирательному названию общенародной идентичности, в основе которой лежат русский язык, русская культура и христианская этика – те элементы, на которые всегда опиралась российская государственность.
Во внутренней политической дискуссии сегодня намечается противостояние не между сторонниками «россиян» и «русских», а за интерпретацию самого понятия «русские». Ни одна из существующих сегодня трактовок не даёт чёткого фокуса. Объединить их, лишив либеральных и националистических отягощений, и сформировать ясный и открытый образ народа России – задача наступающей политической эпохи.
Василий Щипков
Большая война
В современной России контроль за информацией монополизирован политическими группами, которые стоят на компрадорских позициях. Это ведёт к постоянному воспроизводству конструктивистских идеологем, которые выдаются за безусловные очевидности, – например, за стандарты современного цивилизованного общества. Но подобные «очевидности» противоречат интересам общества и нарушают живую связь народа с собственной традицией. Одной из таких идеологем может считаться навязанная обществу привычка к изолирующему историческому мышлению. Она в первую очередь свойственна публичным формам историзма, для которых особое значение имеет проблема языка исторического изложения.
I
Что такое изолирующее историческое мышление? Это мышление основано на понимании ХХ века и прежде всего советского периода как некоего аномального отрезка национальной истории, рассекающего время «до» и время «после». К такому подходу склонны как сторонники, так и противники «красного проекта». Разница между ними состоит лишь в оценках, в перемене «плюса» на «минус». Причём эти противоположные позиции взаимно усиливают друг друга, создавая матрицу исторического сознания, которая сохраняется в коллективной памяти и передаётся десятилетиями. Разница в оценках советского периода не затрагивает структурные модели исторического подхода и создаёт очень узкий коридор для разных точек зрения, представляющий собой классический пример ложной альтернативы. В рамках такого коридора мнений ХХ век, как в «просоветском», так и в антисоветском дискурсах, превращается в некую аномальную зону исторического времени, не подвластную общим законам культурно-исторической динамики, в «вырванный лист истории».
По существу этот взгляд подразумевает, что национальная традиция прерывается дважды за век – в 1917-м и в 1991 году, – а взамен начинается абсолютно новый проект. Но на самом деле это вопрос скорее «эпистемологии», нежели «онтологии» истории. Ведь когда мы принимаем за аксиому тезис о том, что череда революций ХХ века – это неоднократный разрыв традиции, мы задним числом конституируем и сам факт, и степень этого разрыва. В связи с этим возникает естественный вопрос: являются ли важнейшие события ХХ века полностью завершившимися в действительности или только наша трактовка этих событий даёт им окончательное логическое завершение?
Похожий стереотип присутствует и в западном осмыслении эпохи модерна (условно с 1793-го до 1991-й), хотя и выражен в гораздо меньшей степени, чем в России.
Идея начать историю с чистого листа, сбросив всё лишнее с корабля современности, характерна как для первых лет советской власти, так и для периода 1990-х годов. В обоих случаях присутствует желание порвать все связи с «проклятым прошлым». Но если в первом случае речь шла о реализации некоего социального проекта (проекта «младшей», коммунистической версии модерна, противостоящей «старшей», либеральной), то второй разрыв исторически был направлен просто в никуда. Ни о какой преемственности по отношению к традициям дореволюционной России речи на самом деле не шло, да и нельзя дважды войти в одну реку.
На деле исторический разрыв 1990-х использовался и используется влиятельными политическими элитами в крайне неблаговидных целях, а именно чтобы подтолкнуть общество к сознательному отказу от социальных прав, а государство – к сбросу социальных обязательств и уничтожению культурного опыта почти целого столетия. Такое искусственное обнуление национального опыта дезориентирует общество и отбрасывает страну назад.
В коллективной памяти насильственно утверждается модус разрыва вместо модуса преемственности. В этих условиях общественное сознание работает в режиме самоотрицания, порождая губительную для нации негативную идентичность и нигилистические культурные модели, не способные к созданию и трансляции новых смыслов. Чтобы это понять, достаточно провести аналогию с самосознанием отдельного человека или семьи и задуматься о том, насколько опасны приступы беспамятства и каковы могут быть их последствия.
Поэтому одна из важнейших задач национально мыслящих интеллектуалов состоит в защите принципа исторической непрерывности и целостности традиции. И наоборот – в избавлении общества от влияния доктрины локального, изолирующего историзма, выросшего на стыке коммунизма и антисоветской контрутопии. Необходимо поставить под вопрос монополию конструктивистского, технократического мышления и обеспечить складывание новой модели историзма в обществе. Такой подход является необходимым условием всякого национального целеполагания.
II
Кто-то из историков ХХ века утверждал: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». Следовательно, не существует идеологически и политически стерильных исторических концепций. Данное замечание совершенно справедливо, но оно учитывает лишь один аспект опосредованности исторических концепций – политико-идеологический. На самом деле избирательность историцизма даёт о себе знать ещё до всякой политики. Нельзя написать историю всего на свете. Существуют истории революций, истории династий, истории культур. Историческая дисциплина избирательна по самой своей природе. Любой исторический дискурс предполагает выбор предмета изложения и позиции рассказчика, а это, в свою очередь, предполагает предварительный выбор языка. Очень важную роль играет набор символов, ключевых понятий и модальностей того языка, который мы используем. Важен он, разумеется, и для разговора о последнем периоде нашей истории.
Большая проблема такого разговора, помимо изолирующего, локального, «короткого» исторического мышления, состоит в несоответствии предмета и языка изложения. Современный исторический язык сложился на волне отрицания марксистского исторического материализма. И, как во всех подобных случаях, критика марксистского понимания исторических закономерностей неизбежно вела к игнорированию категории исторических закономерностей вообще (аналогичным образом отрицание советской модели социального государства вывело само понятие «социальная справедливость» за рамки идеологических нормативов).
Поэтому сложившийся публичный исторический дискурс как бы специально приспособлен для описания окказиональных явлений. Он представляет историю как набор трагических случайностей и почти исключает разговор о «длинных» исторических закономерностях, как если бы это был язык авантюрного или готического романа. Этот язык создаёт впечатление некой изначальной неаутентичности истории вообще и национальной истории в особенности. На концептуально-теоретическом уровне эта модальность поддерживалась и поддерживается рассуждениями о «нищете историцизма» (К. Поппер), «конце истории» (Ф. Фукуяма), переходе «трагедии в фарс» и другими претендующими на весомость или остроумие риторическими формулами. Можно также сказать, что язык современного публичного историзма – это язык описания псевдоморфоз. Такой язык вместо развития нации, национальной традиции или иных сообществ описывает зигзагообразную логику жизни политических режимов и смену «элит»: в нашем случае в основном февральской, большевистской, среднесоветской, позднесоветской и постсоветской.
Язык исторического описания русской истории ХХ века формирует и конституирует собственный предмет описания, погружая общественное сознание в хронический коллективный невроз по поводу собственного «ужасного», «кровавого», «абсурдного» прошлого. Картинка же, которая в итоге получается, напоминает кукольный театр в сильно накуренной комнате, где от табачного дыма можно топор вешать. Это результат несоответствия языка предмету описания. Такой язык, конечно, не применим для изложения истории народа.
Но есть ещё одна проблема – несоответствие языка и метода. Нам требуется описание исторического процесса с точки зрения включённого наблюдателя, то есть носителя русской культурно-исторической традиции. Это такая традиция, для которой в силу византийского культурного влияния характерен системный и континуалистский взгляд. И этот взгляд не совместим с технократическим языком космополитического, глобалистского общества позднего модерна, которое противостоит обществу развивающейся традиции и живёт за счёт его отрицания. Зато он хорошо совместим с языком критического рационализма внутри самого модерна. Язык этого направления (например, исторической школы миросистемного анализа) достаточно критичен, он скептически реагирует на генерализацию либерально-позитивистского взгляда на историю. Такой язык вполне совместим с субстанциалистским взглядом – например, с языком школы «Анналов» или религиозной ортодоксии.
Такой критический, антипозитивистский язык «альтернативного» модерна (или антимодерна) комплементарен языку традиции. Его рационализм не отрицает, а подкрепляет и обогащает язык любой национальной традиции. Язык истории, который мы выбираем, – это язык прямой причастности акторов исторического процесса к национальным задачам, ценностям и проектам будущего. Так, например, ушедшие поколения в рамках этого типа историзма имеют право голоса в определении важнейших установок в проектах будущего. Именно этот язык позволяет реализовать принцип исторической непрерывности сопричастности, что прямо связано с нашей русско-византийской культурой. Поэтому ему неизбежно предстоит стать частью нового исторического дискурса.
Новый язык всегда входит в противоречие с остаточными элементами прежней, отжившей своё исторической идиоматики, которая отражает систему сложившихся и порой устаревших концептов. Селекция этого материала не может быть проведена моментально, как бы нам этого ни хотелось. Но запускать этот процесс необходимо, и начать его следовало бы с тщательного отделения знаний от оценок, избегая при этом смешанных причинно-оценочных суждений. И анализ, и оценки необходимы, но не как части одного целого, а как две совершенно разные практики. Это подразумевает наличие двух субдискурсов в составе публичного исторического дискурса и два разных лексическо-терминологических ряда. Один применяется к культурно-исторической динамике в целом (например, «формы общинного уклада», «интеллигентский критицизм», «нравственная доминанта русского правосознания», «феномен самозванства», «культурный полифонизм», «категории византийской культуры» и т. п.). Другой – к оценке конкретных поступков конкретных людей, например, когда речь идёт об убийстве Павла I или Николая II или о неправосудных решениях и диктаторских практиках в период становления советской государственности.
Иной подход ведёт как минимум к доктринёрству, что, к слову, в итоге создаёт почву для гражданских расколов. Ведь как только мы останавливаем наш анализ причинно-следственных связей ради оценок, мы попадаем в ловушку каузальной асимметрии, то есть из ряда факторов, повлиявших на некий результат, мы задним числом произвольно выбираем один фактор и называем его основной причиной произошедшего. Например, убийство Петра Столыпина и нерешённость земельного вопроса зачастую становится едва ли не единственной причиной революции. Или мы можем вывести на первый план гражданский аспект и говорить, что революцию подтолкнули Цусима и поражение в войне с японией. Это поражение советская историография объясняла «отсталостью царизма», упуская при этом фактор серьёзной помощи японии со стороны Британии, которая привычно отводила себе роль координатора системы сдержек и противовесов в пределах Евразии. Можно говорить об ошибках в информационном обеспечении войны 1914 года – солдаты перестали понимать, за что воюют.
Каждый из названных факторов достаточно важен, но построение концепции на основе только чисто событийной причинно-следственной логики всегда ведёт к перекосам и выпячиванию одного из факторов. Поэтому продуктивнее строить историческое описание на основе социокультурной динамики, а не на основе каузальных связей. Необходимо в первую очередь смотреть, как реализуют себя в каждой исторической ситуации и в каждом конкретном ряду причин и следствий устойчивые и закономерные архетипы традиции. И тогда мы лучше поймём движущие силы октябрьских событий 1917 года, а именно крестьянское эсхатологическое понимание революции как «всеобщего поравнения» и репетиции Суда, поймём связь 1917 года с последствиями Раскола и всего XVII века, с пугачёвщиной и законами крестьянского «мiра». Иными словами, подлинная задача публичного историка состоит в том, чтобы отслеживать единую матрицу и динамические закономерности русской истории, сложившиеся с момента её православно-византийского выбора и отнюдь не «отменённые» 1917 годом, что бы по этому поводу ни писали большевистская, эмигрантская пресса или либеральная пресса 1990-х.
Следовательно, в ближайшее время нам предстоит тщательное переосмысление архива знаний, накопленного за советские и постсоветские десятилетия, применительно к русскому ХХ веку. Но при этом речь идёт не об отрицании или апологетике каких-то тенденций – это было бы прямым и грубым идеологическим вмешательством или актом гражданской веры, но никак не явлением науки. Речь идёт о формировании продуктивной макроисторической концепции событий, основанной на желании видеть лес за деревьями и использовать это понимание для принятия актуальных решений в нынешних исторических обстоятельствах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































