Текст книги "Вера"
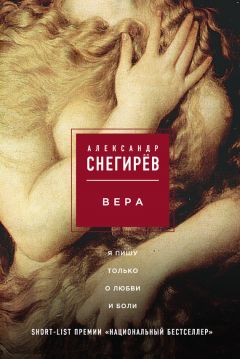
Автор книги: Александр Снегирев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Муж Эстер быстро, не целясь, выпустил все пистолетные заряды, не оставив себе последний, и жал еще на спусковой, издавая губами «бдыщь-бдыщь». Через годы он увидел, как чужие дети, играя, делают точно так же, и очень удивился, откуда дети узнали.
Он бежал вперед, бурча под нос горячие, самые главные, какие знал, слова. Нецензурные названия женских и мужских половых органов. Нецензурные названия любовного соития и гулящей женщины. Вспомнил смешное слово «курощуп», которым мать обзывала бабников. Вспомнил и засмеялся.
Он упал и увидел галочки прошлогодней хвои, изогнутые, как ноги вихлястых танцоров. Увидел исчерченный линиями палый лист. Вспомнил, как Эстер водила пальцем по его ладони, сулила счастье и свершения. Он развернул к себе ладонь, сличил с листом и вскочил на ноги.
В те первые месяцы он еще не научился убивать, действовал устрашающе, но неловко, хорохорился, но торопился скрыться, чтобы избавить и себя, и противника от смерти.
Они были обычными, не героями, которыми позже их объявили потомки, раздавленные жутким величием той войны. Впрочем, один герой все-таки нашелся. Застенчивый башнер. Он тогда подумал, что было бы здорово, если бы его увидела Зойка-соседка или даже сам товарищ главнокомандующий. И башнер действовал с некоторым пижонством, будто позируя несуществующему художнику, и продолжал мечтать даже после того, как неприятельское лезвие навсегда нарушило работу одного из его жизненно важных органов.
А муж Эстер и еще четверо сбежали, продрались, скрылись.
Их не преследовали, победители осматривали трофейные механизмы, а командир, которому так и не удалось сцепиться с предводителем красных, сочинял рапорт.
Да и к чему гоняться за столь незначительной добычей, не преследует же рыбак выскользнувшую из рук мелюзгу.
Не преследует, потому что знает, там, на дне, она не отлежится, не наберет вес, не отрастит клыки, чтобы потом выбраться на берег и разодранной его крючком пастью пожрать и его самого, и его семейство, и дом.
Предполагал ли азартный германец, что необычный противник умрет на больничной койке спустя годы, а его собственный панцерваген уже в ноябре остановит снаряд. Всего в десятке километров от едва бьющегося, но недосягаемого сердца географической туши, которую он себе на погибель растормошил.
А по Европе муж Эстер все-таки прокатился. Париж повидать не пришлось, зато Германию рогом Первого Украинского фронта он хорошенько боднул.
Поначалу он любил свою механическую мощь. Любил давить гусеницами, бабахать орудием, дробить пулеметом, добивать из личного «вальтера». Любил разрушать, превращать человеческое обратно в природу. А ближе к занавесу, когда ему наперерез бежали дети с фаустпатронами, его, краснолицего, уже не пронимало. Разве что один полдень запомнился. Торопились очень – надо было остатки очередной дивизии с громким названием отсечь, а впереди гора.
Красивые у них там виды – открытка. Справа красиво, слева красиво, а впереди эта самая гора.
А в горе туннель, битком набитый гражданскими.
И куда эти немцы перлись с чемоданами и патефонами.
Хоть бы туннели пошире строили, уж больно практичные. Не стоять же из-за них.
А дивизия та сдалась еще до их прибытия. Зря торопились. Организованная нация, главком капитуляцию подписал, и все – никакой самодеятельности.
Потом хотелось, конечно, поговорить, обсудить.
А дома бабы одни, а во дворе ветераны, дружки шахматные, у которых у самих на дне такое, лучше не баламутить. И военный пенсионер бродил по дворам, собирая с помоек вполне пригодное добро, мебелишку, от которой тогда массово избавлялись жители выселяемых под снос домов.
Только однажды лишнюю рюмку себе позволил и про туннель завел при Эстер.
А она сказала, что вечно он за столом о всяких гадостях начинает, тарелки убрала и фигурное катание по центральному телевидению включила.
А больше он никому не рассказывал.
Даже сестре в больнице, где, прицепленный к поплавку капельницы, доверчиво дожидался последнего призыва.
А Эстер жила, выдумав слепоту.
Насмотрелась, хватит.
Еще бы от звуков избавиться.
И память обнулить.
Не надо было тогда на деревни оборачиваться, да что уж теперь.
Смотри, слушай, запоминай и живи.
Со временем покойный супруг стал наносить ей визиты, и она впервые за годы брака и вдовства вела с ним долгие разговоры, скрывая, впрочем, эти встречи от дочери и участкового врача.
* * *
Молодая семья тем временем делала первые шаги на извилистом пути совместной жизни.
Потомством обзаводиться не спешили.
Проявив усидчивость, талант и невесть откуда взявшуюся аппаратную ловкость, Сулик вступил в партию, был обласкан научными и профсоюзными руководителями, планировал защиту докторской. Поговаривали, что если не оступится, то со временем вполне может организацию возглавить.
Теперь уже не Сулик, а Сулейман Федорович обзавелся личным автомобилем, дубленкой, а изъятый у предшественника гардероб наполнился его импортными вещами. Кроме того, у него имелся пускай короткий, но постоянно обновляемый список любовниц.
Успехи кружили голову, и он бесстрашно знакомился в столовых, кафетериях и на международных конференциях.
Тут супруга и забеременела.
На третьем месяце процесс, однако, прервался.
Она настояла, и в поликлинику явились вместе.
Доктор спросил про аборты.
Не моргнув туманным персидским глазом, благоверная Сулеймана Федоровича назвала круглую цифру двадцать.
Доктор постучал по столу самопишущей ручкой, закрыл медицинскую карту пациентки и посоветовал не оставлять попыток.
Сулейман Федорович понял, что не знает о своей жене ничего.
Знает имя, тело, с биографией вроде знаком. Характер ее был ему известен и в целом предсказуем, но эти двадцать абортов перечеркнули все.
Весь его собственно нажитый и полученный в приданое налаженный быт с машиной, дубленкой, масляной живописью на стенах, буфетом в коридоре и Эстер в комнате осыпался от одного только слова «двадцать».
Это все до меня? Или уже при мне? Или при мне только десять? Она что, мне изменяла?! – удивился Сулейман.
Осознание жениной неверности ударило так же ярко, ослепило на миг, как когда-то ослепил блеск германского зуба, как блеск жести на углу барака.
И все в Сулеймане прекратилось.
Обеденный перерыв, которым они оба воспользовались для визита к врачу, закончился.
Она вернулась на службу, он пошел домой.
Пройдя мимо двери тещи, за которой та, как обычно, вела разговор с невидимым собеседником, Сулейман взялся за дело.
Все у нее подсчитано.
Сколько, с кем.
Наверняка письма хранит, записочки.
А чего он хотел? Будто не ясно было, с кем связывается.
Сначала он вынимал и складывал аккуратно, потом принялся бросать как попало.
Духи, блузки, чулки кружевные, лифчик розовый игривый с прозрачными чашечками.
Так это он сам ей купил по случаю.
Разворошив шкафы, рассыпав на кухне крупу, скинув с полок книги, разбушевавшийся Сулейман ничего бросающего тень не обнаружил. Только Эстер напугал – она, приняв происходящее за давний обыск, погубивший родителей, принялась издавать истошные звуки.
Когда ключ жены повернулся в замке, муж сидел на полу, обхватив голову руками, не зная, куда деться от воя старухи.
– Что здесь происходит? – поинтересовалась вошедшая голосом психиатра.
– С кем? – спросил Сулейман, непоправимо страдая от ее подлинного, выдержанного в бочке семи лет семейной жизни спокойствия и собственного, бултыхающегося внутри, бешенства.
Один с работы.
На вечере у Ларисы с ее знакомым.
Игорь из твоей лаборатории.
В санатории с двумя военными…
Она охотно загибала перчаточные фаланги, заведя по-детски глаза к потолку. Коричневая кожа поскрипывала.
– А ребенка я сама убрала. Чтобы тебя не обманывать. Чтобы ты чужого не растил.
В ее недрогнувшем голосе, в спокойствии не было гнева, мстительности, истерики, от нее исходило пережитое, продуманное, и это Сулеймана изничтожало.
– Ты, сука! – крикнул он патетически, осознавая нелепость и своих слов, и своей злобы, и всего себя целиком.
Она стянула перчатки, похлопала ими о ладонь и сказала, что сама наведет порядок, а он пусть котлеты ставит – ужинать пора.
И пока Сулейман, погрузившись в полузабытье, переворачивал подгорающие мясные комки, пока хрустел тапками по рассыпанной гречке, пока она собирала с паркета шерсть, шелк и крепдешин, с ним случилось не озарение, нет, но что-то на него снизошло.
Что часто снисходит на людей, ищущих и живых, когда возраст катится к сорока.
Сулейман Федорович понял – он неправильно живет жизнь.
На следующий день это не покинуло Сулеймана Федоровича, а, напротив, окрепло.
Он стал молчалив, любовниц забросил, на работе сделался рассеян, разноцветные провода и научные достижения больше его не тешили.
Он увидел всю беспорядочную карьерно-стяжательную суету, в которую сам себя вверг, и зрелище это его поразило.
Вскоре, продвигаясь по маршруту работа-дом, он остановился у церкви.
Запах лекарств, прохлада и пустота.
Ступая под разрисованными сводами, от свечницы до солеи и обратно, он что-то припоминал и бубнил сам себе.
Хаотично мечущиеся в голове мысли образовали отчетливый узор. Он решил произвести генеральную уборку, расставить все по местам, а в помощники призвал Бога – в отдаленном от центрального района храме Сулейман Федорович принял крещение и обрел имя в честь святителя Василия Кесарийского.
Факт крещения, осуществленного согласно закону по предъявлении паспорта, в скором времени стал известен в первом отделе.
Одно дело здоровый карьеризм и краткосрочные романчики, другое – православный господь.
Тут и папаша-предатель с анкетного дна всплыл.
И новый христианин подвергся гонениям – его исключили из партии, а затем уволили. Впрочем, именно за такую последовательность этих двух карательных мер никто не поручится. Может, сначала уволили, а потом исключили. А вернее, что одновременно.
Могли бы, кстати, из очереди на квартиру вычеркнуть, если бы Сулейман Федорович в таковой состоял.
И тогда он открылся жене.
Не из страха перед неясными перспективами дальнейшей жизни и заработка, хотя и поэтому тоже, а ради возможного для них двоих духовного спасения.
Жена, с которой жил рядом, но как бы на бесконечно далеком расстоянии, бок о бок, но избегая прикосновений, не удивилась. Будучи внимательным наблюдателем, она давно заметила в муже накопление критической массы и выбор его приняла. Да и вообще, она за него в свое время пошла не потому, что шкаф помог приволочь, а потому что предчувствовала – с этим не соскучишься, что-нибудь да выкинет. А еще потому что хрен здоровый.
Преображенный Сулейман принялся подрабатывать: подвозил поздних гуляк, ремонтировал радиоаппаратуру, мог и позолотить, если надо, любой предмет, хоть ложку, хоть браслетик.
Соорудив дома простое устройство, он путем электролиза вполне удовлетворял частные потребности в позолоте.
Жили этим и ее зарплатой, которая, впрочем, скоро прекратилась – она последовала его примеру, приняла крещение и лишилась места.
Освободившееся время она теперь уделяла престарелой матери и домашнему уюту. Строго соблюдала посты, в чем контролировала и мужа. Склонный к хаотичному разговению, он вполне мог налопаться «докторской» прямо перед Сочельником.
* * *
В одиночестве новообращенная пара не осталась – многие тогда начинали почитывать Евангелие, похаживать в церковь и помаливаться Богу. Тайные кружки обеспечивали досуг. На собраниях читали вслух Писание, смотрели слайды из жизни Спасителя, пели псалмы и обменивались фотографиями семьи последнего императора. В те бедные глянцевыми фотосессиями времена эти благообразные лики вызывали светлое умиление.
Обретенная вера не мешала супругам продолжать попытки, одна из которых завершилась зачатием. Будущей матери шел пятый десяток.
Доктора констатировали благополучное вынашивание, но роды обещали нервные – возраст, а кроме того двойня.
Прогнозы сбылись – во время схваток акушер сообщил покрытой испариной, хрипящей проклятия и молитвы роженице, что обоих спасти не удастся, и предложил выбрать.
Видимо, он испытывал несвойственное волнение и не подумал о нереализуемости своего предложения и некотором даже издевательском его тоне.
Хапая воздух ртом, она передала право выбора ему, и он оставил девочку, хотя вторая тоже была девочка, но она ему не приглянулась, впрочем, он и не вглядывался.
Вернувшись со смены рано утром, акушер выпил не обычную свою рюмку, а все оставшиеся в бутылке полтора граненых, и сын, поднявшийся в школу, его застукал. В конечном счете, он никого не выбирал, просто пуповины перепутались, и сестренка задушила сестренку, а он только извлек трехкилограммовую победительницу утробного противостояния.
Назвали Верой.
После родов мать прежнюю форму так и не обрела.
Не телом, но душой.
С телом все было в порядке, а вот непрошибаемый, казалось, рассудок пошатнулся.
Она винила новорожденную в гибели сестрички, не брала на руки, отказывалась даже видеть, не то что давать прикладываться к одной из своих прелестных грудей.
В роддоме Вера питалась родовитой таджичкой с неправильным положением плода, которую муж привез рожать под присмотром центровых врачей и чья беременность в итоге разрешилась благополучно.
Та молоком исходила и с радостью сцеживала излишки в орущую Верину глотку.
Жена Сулеймана-Василия была твердо уверена – перед ней маленькая убийца, лишившая ее дочери, которая наверняка была бы красивее, ласковее, умнее. Как только не пытался молодой отец убедить ее в несостоятельности претензий, каких только евангельских притч не приводил.
После нескольких лет взвинченной жизни Сулейман-Василий не придумал ничего лучше, как предпринять еще одну попытку.
Новый ребенок должен был избавить жену от душевных страданий, а дочь от несправедливых нападок.
Поистине животная, от праматери Сары доставшаяся фертильность позволила слабо сопротивляющейся супруге зачать года за четыре до полувекового юбилея.
Вере исполнилось пять, и появление у мамы живота волновало.
Мама перестала тиранить.
Мама как бы заснула.
Однажды живот совсем вырос, мама ахнула и сосредоточилась.
А папа забегал.
И стал звонить по телефону.
Потом они уехали, попросив соседку присмотреть за Эстер и Верой.
В ту ночь Вера спала урывками. Задремывала и просыпалась от непривычной духоты.
Отец вернулся рано, Вера вскочила с кровати и выбежала в коридор. Отец выглядел так, будто на него взвалили рояль. В прошлом году на третий этаж привезли старый «беккер», Вера видела, как мужики корячились на лестнице.
Соседка поинтересовалась, хотя и без всяких вопросов было ясно.
Мама отсутствовала до воскресенья, а когда вернулась, лицо ее было размазанным, а живот пропал.
Подружка в детском саду стала расспрашивать.
Вера сказала, что все хорошо.
Как назвали?
Верочкой.
Так не бывает.
Бывает.
Подружка наябедничала воспитательнице. Вера врет.
Вера продолжала настаивать, что новорожденную зовут так же, как и ее, и от нее отстали.
Воспитательница не видела причин сомневаться в словах девочки. Кто их знает, этих религиозных. Вера сама поверила в сестру, переименовала в ее честь куклу.
Детсад располагался во дворе, Вера ходила туда одна. Недели через две, вечером, после смены, когда она, зашнуровав ботиночки, надела пальтишко и, поздоровавшись с умиленными ее самостоятельностью чужими взрослыми, потянула дверь, та вдруг сильно подалась на нее, обнаружив за собой мать, неожиданно решившую встретить дочурку.
Вера хотела было поскорее мать увести, но воспитательница прицепилась с доброжелательными назойливыми расспросами.
Что да как. Поздравляю. Как самочувствие маленькой?
Не поняв сначала и осознав наконец суть подлога, мать принялась хлестать Веру по лицу теми самыми скрипучими коричневыми перчатками. Поволокла ревущую дочь за собой, толкнула дорогой в сугроб и предъявила дома едва живой.
Сулейман-Василий выслушал бессвязные вопли супруги, заглушаемые ревом дочери, и попытался успокоить обеих валерьянкой и словами о прощении и милосердии.
Вскоре пришлось прибегнуть к ежедневному подмешиванию в еду и напитки жены сильного успокоительного, выписанного знакомым врачом из числа тайных христиан.
* * *
Вопреки седативному действию препарата те сонные черно-белые времена проходили для Веры бурно.
Если раньше мать винила ее в смерти, едва ли не в убийстве сестры, то теперь вся ее апатия и тоска переработались в невиданную злобу. Вера оказалась не только убийцей, но и больной, неуравновешенной, требующей лечения, мерзавкой и лгуньей.
Осенью, когда она вернулась из Ягодки, где проводила лето под присмотром состарившейся Катерины, матери втемяшилось, что дочь выбелила волосы. Сколько бы та ни уверяла, что кудряшки выгорели на солнце, мать не унималась.
Разразился скандал, в котором невольно принял участие и Сулейман-Василий.
Как любой по природе спокойный и выдержанный, он неожиданно проявил себя сумбурным разрушителем – схватил Веру за косички и под назидательное одобрение вконец обезумевшей супруги откромсал под корень.
О своих действиях он тотчас пожалел и позже вспоминал с отвращением. А Вера с того дня стала очень бояться отцовского гнева и вместе с тем, сама того не понимая, нуждалась в нем. Впервые ей явился Бог – беспощадный, иррациональный, настоящий.
Несколько последующих годов, под предлогом спасения малышки от пагубного украшательства самой себя, а заодно предупреждая опасность завшиветь, мать перед наступлением лета остригала Веру под ежика.
А волосы продавала на парики.
В такие дни приходила краснощекая жирная баба, сгребала пряди в мешочек и приговаривала:
– Хорошие волосы.
Волосы и в самом деле были хороши. Прямо как у матери, цвета перезревших зерновых, только у той с первыми родами потемнели. Забрала Вера у матери цвет.
В редкие моменты пробуждения инстинкта мать, укладывая Веру спать, рассказывала сказки.
Они имели сюжет весьма произвольный, но обладали одной неотъемлемой деталью – за стенами устроены тайные ходы и целые комнаты, в которых прячутся соглядатаи, днем и ночью они блюдут, дурное пресекают, а за добропорядочных граждан вступаются.
В вопросах веры мать проявляла поистине иудейский фанатизм. Октябрятский значок, знак сатаны, носить запрещала. Вступить в детскую организацию дочери не позволила, но Вера, скопив копеечки, купила себе звездочку и тайно надевала, снося насмешки одноклассников.
Звезду с вьетнамской целебной мази, приобретшей в те годы большую популярность, мать тоже не терпела и соскребала, хоть та была и желтой. Крестообразную решетку слива в ванной выпилила, точнее, заставила мужа выпилить. Чтобы мыльная вода не оскверняла крест.
Сулейман-Василий, напротив, отличался мягкостью нрава и к маниакальному следованию догмам склонен не был. Если Вера уставала стоять службу, вел ее гулять, благо никто не препятствовал – супруга, ссылаясь на духоту, богослужения посещала редко. Это не мешало ей требовать отказа от празднования Нового года. К счастью, удалось найти компромисс – елку ставили к Рождеству, заполучая совершенно бесплатно. Сразу после первого числа Сулейман-Василий с Верой обходили ближайшие помойки, куда самые торопливые отпраздновавшие выносили попользованных, но все еще пригодных лесных красавиц.
Несмотря на столь экстравагантную окружающую атмосферу, Вера росла девочкой бойкой и любознательной. Маленькой любила вскочить на какого-нибудь дядю и требовать катания. Воцерковленные университетские умники, члены художественных союзов, докладчики и священники из далеких углов империи, немногочисленные, сбившиеся в кучу подпольные верующие того времени, воссоединяющиеся на тайных собраниях, не отказывали Вере. Они напяливали ее на свои жирные и тощие шеи и послушно скакали, предусмотрительно огибая люстры, чтобы не снести плафоном прелестную белобрысую головку.
Эта белобрысость подкупала и пленяла. Чернавок вокруг хватало, а вот деток-ангелков становилось все меньше. Веру же тянуло к противоположностям. Негры с головами-одуванами, бровастые грузины, высовывающие носы из-за плодоовощных рыночных груд. Эти обязательно преподносили фруктик, и мать, хоть со странностями, всегда брала дочку на рынок, что позволяло отовариться, почти не раскрывая кошелька.
Вера картавила.
Как тебя зовут?
Велочка.
Долго и безуспешно водили к логопеду.
«Л-л-л-л-л, л-л-л-л», – рычала Вера.
С тех пор во всем русском языке больше всего слов она знала из тех, что содержат рык.
Когда специалист готов был махнуть рукой, Вера, обнаружившая в ходе занятий недетское вовсе упорство, вдруг издала громовое рычание.
Логопед, задремавший было, очнулся и потребовал повторить.
И Вера в самое его дипломированное лицо зарычала и еще долго рычала на все лады, пока не вышло положенное время.
Логопед так рад был этой нежданной уже победе, что позволил себе, впервые за тридцать с лишним лет практики, шалость – подговорил ребенка не рассказывать сразу маме, а вечером устроить обоим родителям сюрприз, громко произнеся за столом:
– Сюрприз!
Вера, однако, и за ужином тайну не раскрыла. Дождавшись, когда родители заснут, пробралась мимо видавшего виды буфета в их комнату, прислушалась к дыханию и завопила: «Сюр-р-р-р-пл-л-л-из!»
Супруги вскочили в ужасе и, узнав, что не случилось ничего особенного, кроме того что восемнадцатая буква алфавита наконец покорена, успокоились и даже не очень удивились, чем немного Веру разочаровали.
Она еще долго не могла уснуть, слыша доносящуюся сквозь стенку смутную возню, которую старики на радостях затеяли. Сюрприз взбудоражил инстинкты, и только комочек, нащупанный мужем на левой груди жены, омрачил ночь.
Вскоре подтвердилось, что неуемная в чувствах дочь Эстер и танкиста смертна. И года не прошло, как ее похоронили, причем только с одной, а именно с правой, из двух вызывавших некогда многочисленные восторги, округлостей.
* * *
Бойкие особы под предлогом помощи по хозяйству стали стремиться в дом овдовевшего Сулеймана-Василия. Помогали с Эстер, подлизывались к Вере.
Он поползновения распознавал и пресекал. Мягко, но безоговорочно. Ссылался на неостывшее тело жены и ее светлую память, которая с каждой новой претенденткой делалась светлее.
Насытившись семейной жизнью вдоволь, он решил посвятить себя дочери и духовному росту.
Замершее благополучие эпохи проломилось под колесом времени, которое быстро прокрутило двух престарелых правителей и стало вертеться все быстрее, перемалывая отдельных людей и целые народы, разрушая государства и планы на отдых.
Устои расшатались, и многие, весьма крамольные еще недавно вещи сделались повседневными и рутинными.
Сулейман-Василий помогал в нескольких церквях по хозяйству, а в одной четырехглавой, запутавшейся в узоре китайгородских переулков, даже прислуживал алтарником.
На добровольной основе он распространял литературу, проявив себя талантливым агитатором. Многие потухшие атеистические сердца запылали жаром веры. А скольких инородцев обратил, скольких сынов Авраама и Якова, скольких дочерей Юдифи, кроме своей зарегистрированной, на истинный путь направил, отвлек от дезертирства на землю далеких предков. Сколькие, которые во тьме могли бы плутать, через него к вере пришли. Для скольких душ его трудами врата небесные разверзлись.
Он стал чаще бывать в Ягодке.
Катерина усохла, изба просела.
Он ходил по местности, здороваясь с редкими старухами, чьи потомки разъехались по крупным и комфортным населенным пунктам и не являлись в отпуск.
В застойные социалистические времена в Ягодке затеяли возводить ферму для крупного рогатого. Колокольню приспособили под водокачку, и теперь она целилась в небеса дулом надстроенного бетонного цилиндра.
Финансирование сначала сделалось пунктирным, а затем прекратилось. Строительство бросили, ангары для буренок так и остались незаселенными, а водокачку успели запустить, и на огородах появилась невиданная вещь – шланги для полива. Провести водопровод прямо в избу никто не решался, одна только Катерина потребовала. Ее подвергли общественному осуждению за попрание устоев, но скоро появились смельчаки, последовавшие ее примеру, и струйки, полившиеся из кранов, смыли старину.
Мотор тянул исправно, но трубы нуждались в ремонте. Колокольня вся сочилась. Летом окружала себя болотцем, зимой – ледяными буграми.
Кладбище расширилось, приютив многих, кто не успел съехать в город. Последнее пополнение оно получило за счет двух местных срочников, вернувшихся из Афганистана в герметично запаянных пеналах.
Вместо сестренки Раечки и папаши торчал сварной голубой крестик. На месте ямы, куда свалили партизан, – пирамидка со звездочкой. Германские похоронные следы стерлись и не определялись даже внимательным взглядом опытного аборигена. Один точеный каменный ферзь, поставленный в тысяча восемьсот сорок восьмом году на грудь строителю церкви, надворному советнику, стоял незыблемо.
Сулейман-Василий подолгу находился в церкви, которая стала совсем как выброшенный на берег, выеденный чайками кит.
Остов и оконные дыры.
Замазанные, проглядывающие из-под облезающих слоев, скорее дорисованные воображением, чем существующие взаправду, евангельские лики проступали на сводах. Апостол Матфей пророс угнездившимся на крыше деревцем, мочалки корней свисали из его рта и носогубных складок. В цветастом, старинной плиткой выложенном полу зияли пробоины – результаты кладоискательства. В углах чернели следы костров. Стены покрывали любовно-оскорбительные надписи. Ласточки рассекали кубометры пространства, ныряя в окна и прорехи. Клочковатая собака с мордой, точно в чернила окунутой, с похотливой настойчивостью терлась о ногу.
После самой страшной войны церковь некоторое время стояла заброшенной, потом в ней устроили клуб и показывали кино, но дело само собой заглохло, кто-то однажды сорвал замок, и с тех пор культовое сооружение служило пристанищем ночным гулякам. Сулейману-Василию не было обидно за оскверненный храм. Он радовался за молодежь, осуществляющую свидания в романтических руинах. Но стремление к порядку не давало покоя.
Кроме того, он испытывал перед Ягодкой что-то вроде вины, которую порой испытывают думающие русские горожане перед всей остальной необустроенной Россией. У него вон горячая вода и поликлиника под боком, а здесь дома гниют, жители разъехались, церковь доживает. Он ощутил прилив сил и тягу к пусть умеренному, но самопожертвованию.
Испросив разрешение у задобренного единоразовым взносом главы сельсовета, выбив благословение епархии, Сулейман-Василий купил у военкома списанный «козлик» и принялся разъезжать по окрестностям.
Призывал к пожертвованиям немногих местных кооператоров, ларечников, редких фермеров, сельских рэкетиров и чиновников.
Чтобы воздействовать на несимпатичных с виду, но почти наверняка прекрасных где-то глубоко внутри деловых людей, Сулейман-Василий возил с собой дочь.
Вера была очень хороша в своей юности. Она быстро вымахала, в классе считалась дылдой, взрослые заглядывались на ее ноги. Возвышенное сочеталось в ней с натуральным, кудри, которые теперь некому было обкорнать, лежали пышным стогом, а глаза были вовсе особенными. Контуром матушкины ближневосточные, а цветом то серебряные, как ивовая листва, то черные, как гладь с кувшинками, и догадаться, что там бродит, совершенно невозможно.
Пожертвования потекли мелеющим, звякающим медными монетками ручейком. Новые купцы, даже те, которые долго потом покачивали головами и причмокивали, вспоминая дочку реставратора, щедростью не отличались. Расставались с наличными неохотно, не упуская случая поучить просителя жизни. Шутили, как бы он их грошики не подтырил, и проявляли неприятную хамоватость, свойственную совершившим благое дело.
Дети сторонились, бабы шептались, две старухи, которые все прочее время спорили, которая была лучшей дояркой, жевали вслед:
– Полицая сын. Сулик. Неймется ему.
Единственный мужик, бывший председатель Брыкин, когда-то прославивший Ягодку появлением своего портрета в районной газете на полосе пьяниц, увидев Сулеймана-Василия с лопатой, посоветовал копать глубже. Говорят, где-то тут барин зарыл изумруды и бриллианты.
Сулейман-Василий скоро ощутил себя очередным оккупантом – вроде сопротивления особенного не встречаешь, но и поддержки никакой, одно бездорожье, воровство и тугодумие.
И он стал выносить из дома вещи.
Точнее говоря, продал две чрезвычайно темные картины вывезенные еще танкистом из Лейпцига в качестве репарации.
Разглядеть на них все равно ничего было невозможно. Танкист потому и взял – с одной стороны, живопись, с другой – что нарисовано, непонятно, и глаз не устает.
В свое время Эстер эти картины берегла. Одну в их с мужем комнате повесила, а две другие у дочери по сторонам пустого книжного шкафа, который скоро заполнили наштампованными в те годы томами. Вера, когда склонность к чтению ощутила и полезла в шкаф, с удивлением обнаружила, что страницы с типографских времен не разрезаны. Никто книг прежде не касался, и они распахивались, хрустя и распространяя надрывный аромат типографского клея и передержанной прелести. Книги были стары и нетронуты, как бутоны нераспустившихся цветов. Вера помыла руки с мылом и больше шкаф не открывала.
Одно из трех полотен, висевшее по левую сторону книжного гарема, потерялось из виду давно, это было самое светлое произведение. Степень его светлоты была такова, что внимательный осмотр при включенной люстре позволял угадать в пятнах и очертаниях коленопреклоненного монаха – видимо, святого, воздающего молитву кому-то в правом верхнем углу, как будто на дереве.
Впрочем, наличие дерева ни раньше, ни тем более теперь подтвердить нельзя. Что бы ни поддерживало того, в правом верхнем углу, это был святой явно поважнее монаха. Может, и женщина. Возможно, Мария, которую вознесла на ветви сила Святого Духа.
Много лет назад, когда овдовевшая Эстер впервые объявила, что плохо видит и просит еду в постель, дочь уважила и принялась ухаживать, однако, заметив вскоре, что, кроме просмотров по телевизору фигурного катания, мать еще и кроссворды разгадывает, заботу прекратила.
Вымышленную же слепоту дочь решила монетизировать – стала таскать из квартиры ценные предметы.
Путь в комиссионку проторила сломанная лампа в виде неудобно изогнувшейся девушки, а вскоре исчезла и картина с коленопреклоненным монахом и таинственной особой в кроне.
Пропажу Эстер отметила скандалом. Сначала она подумала на соседку-доходягу, потом на сантехника, а потом все поняла.
Требовала вернуть, грозила участковым. Когда, немного остыв, спросила, на что дочери такие деньги, она была уверена, что за картину и лампу можно выручить тысячи, что, кстати, оказалось сущей правдой, ответ поразил простотой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































