Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
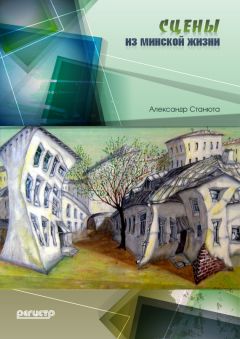
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Видеть и запомнить
Оккупация и освобождение в рисунках М.П. Станюты
Думалось, вот только тронь эти стопки пожелтевших карандашных этюдов, которые делал дед в военные годы в Минске, и опять увидишь пустые коробки каменных домов, горы битого кирпича, погнутые металлические балки, куски стен, громадными осколками торчком стоящие в руинах, ржавые железные балконы. Сорок четвертый год и сорок пятый, и сорок шестой…
Семейный наш архив. Казалось, что увидишь только то, среди чего мы тогда жили. И было любопытно: а как то время виделось глазами не детей (это мы сами помним до сих пор) – а взрослых, пожилых и старых, которых уже давно нет?
Взяв за главную примету того времени именно страшные следы войны в городе, я искал их в старых дедовых зарисовках и день, и другой, и третий. Искал не один – мне помогали. Я не нашел их.
Но то, на что я нацеливался, не могло просто так исчезнуть. Значит, все вздыбленное и покореженное, что оставалось от войны вокруг свободных уже людей в Минске, почему-то не ложилось тогда на бумагу. Карандаш деда этого ужасного, безобразного за очень редким исключением не касался.
И я задумался: а почему?
Ответ был тут, в комнате – на столе и стульях, на диване и на полу – везде, где были разложены листы некогда белой, а теперь серой бумаги или картона с торопливыми зарисовками, сделанными в первые дни и месяцы после освобождения Минска.
То время смотрело с рисунков деда глазами людей, а не пустыми проемами обгорелых остовов. Да, я видел лицо того времени, лицо истории, пусть это и прозвучит высокопарно, – не все лицо, но зато именно то, которое больше всего притягивало тогда старого человека с карандашом, выжившего в оккупации со своей семьей.
…Военный, старшина или сержант, уже немолодой, сидит, глядя прямо перед собой, аккуратно сложив руки на коленях, и во всем его виде – старательность человека, позирующего, точно перед фотоаппаратом. Это вызывает улыбку и одновременно чем-то трогает, сразу заметно, что он не привык к такому занятию. Рисуют же его на четвертый день после освобождения города, вот и дата: «7. VII. 44».
А эта молодая женщина в распахнутом солдатском ватнике, наоборот, только и ждала, кажется, такого случая: она смеется, руки в боки, и волосы выбиваются из-под шапки-ушанки, надетой с кокетливым щегольством. Кто она – регулировщица, «сестричка» из фронтового госпиталя? Осталась фамилия – Агаткина.
И так хочется верить, что дожил до дня освобождения своего города и мальчик, набросок которого сделан не одним черным, но и цветными карандашами, а главное – когда? – 2 мая 1942 года. Даже и время отмечено: «3 часа дня». Светлая «гривка» надо лбом и аккуратно надетая детская бескозырка с надписью на ленте: «Аврора». А внизу – имя: Кира (полное, наверное, Кирилл). Скорее всего, родители разрешили надеть эту бескозырку только тут, в комнате, чтобы немцы не увидели во дворе или на улице. Но, смотри ты, все-таки празднует свой май… Где он теперь и какой, как прошла жизнь этого маленького матроса со славного крейсера? Кто-то же знает все это…
А одного из мальчиков на дедовых рисунках того времени я узнал. Вспомнил даже и зашмальцованную тюбетейку у него на голове. Это Миха. Он потом по-прежнему жил в Минске, и мы встречались. Только он уже давно был не Миха, а Миша, Миша Порох. Он долго работал на участке термообработки завода «Горизонт» и почти уже не помнил своей неизменной детской тюбетейки, перенес операцию на сердце… У него два сына. Один из них живет в Канаде, а внучка в Вашингтоне. Их детские игры были совсем другими, чем у отца и дедушки. И когда мы с ним вспоминаем свои игры в руинах и первые салюты в освобожденном Минске, сыновья Миши Пороха слушают вежливо, может, и внимательно, но заметно, что им нелегко представить все это. И мы их понимаем.
Старые рисунки из минувшего века, торопливые штрихи карандаша. Это искусство, в котором слышны голоса жизни или просто сама жизнь, заговорившая тогда языком искусства? Наверное, все же второе.
Эти мгновения жизни навсегда оставила на бумаге рука человека, который после страха и тьмы оккупационных лет тянулся к свету и покою мирной жизни. Покой и свет он искал в образах взрослых и детей, в облике того времени. Кажется, он нашел тогда все это – и сохранил. Конечно, он был старый человек, но он ведь еще был художник. Старый минчанин Михаил Петрович, мой дед…
Утро на всю жизнь
В хирургическом отделении шел ремонт. Белили и красили потолок, стены: белые пятна высыхали на полу и на плотных, будто из зеленого линолеума, листьях фикусов.
– Семенов? Сейчас позовем, – сказала нам медсестра, – постойте вот тут…
И вот он уже идет. Коротко острижен, руки держит на груди под полосатой пижамой. Пижама свободно облегает его фигуру, и сразу угадывается ширина плеч.
– Здравствуйте, – сказал он тихим, хрипловатым голосом и слегка кивнул. Потом оглянулся: – Где же нам побыть?
– Идите сюда, здесь ремонт уже закончили, – предлагает медсестра, открывая дверь в маленькую пустую комнату.
– Здесь мне не будет холодно?
– Нет-нет, – успокаивает медсестра.
– Мне нельзя, если холодно…
Валерий сел прямо, положил правую руку на колено, отнял от груди и левую. На безымянном пальце – свежая аккуратная повязка.
– Уже заживает, – сказал он. Одну фалангу хирурги отрезали… Все хочу вспомнить, чем тогда по рукам досталось. Бесполезно…
– Как ты вообще?
– Нормально. Четвертый день уже хожу. Понемногу, конечно… Все теперь надо начинать сначала. Спина и ноги, думал, вообще уже не мои. А оказалось – ни одного перелома. Железные, что ли? Правда, если вправо смотрю, то начинает двоиться в глазах… Знаете, мне холодновато что-то. Пойдем в палату.
Мы вышли.
– Да, Валерий… Александр Кашкан и Борис Юхович привет тебе передают.
– Спасибо… Видел их?
– Ехал даже в их кабине.
– А, значит на «Чайке» ехал…
– На «Чайке».
Он взглянул на часы:
– Они теперь уже в Вильнюсе.
В Молодечно, в больницу, где лечился Валерий Семенов, мы ехали из Минска на «Чайке» – фирменном поезде. Отъехали в 6.57 утра. Состав был тот же, что и в то роковое утро. И та же поездная бригада, только другой машинист и другой у машиниста помощник.
Мы сказали Александру Кашкану, машинисту, что хотим проехать «это самое место» в их кабине.
– Понял вас. Хорошо, – согласился машинист и сел в кресло.
Ехали молча. Только привычные слова помощника, дублируемые машинистом: «Зеленый на выходе. Зеленый». «Нормально. – Нормально». «Зеленый предупредительный. – Зеленый предупредительный». Потом помощник Борис Юхович, облокотившись о свой столик и глядя вперед, произнес: «Если бы тогда и у них был такой рассвет…» Машинист ничего не добавил к сказанному и, встав с кресла, медленно стал массировать кисти рук. Где-то после Прудов он сказал, не поворачивая головы: «На днях я был в больнице у Семенова. Он рассказывал мне… Говорил, в голове такое в те минуты пронеслось, что… Да разве объяснишь?..»
Переезд. Желтые деревянные домики по обе стороны пути. Снова поле и слева и справа от насыпи. Головные уборы мы сняли одновременно. Машинист едва заметно одернул кожаную куртку, тронул галстук…
Километровый столб «845». Долгий-долгий сигнал. Тебе, Владимир Александрович Яцкевич…
Да, Яцкевич совершил мужественный поступок и погиб героем. До последней секунды машинист сдерживал состав, надвигавшийся в утренней полутьме на отцепившийся вагон и платформы недавно прошедшего товарняка. Владимир Яцкевич успел пустить в ход всю тормозную систему, но была еще кнопка песочницы, и он давил и давил ее, отбирая у скорости метры. Он отобрал столько метров, сколько мог. Никто из пассажиров не пострадал. Но машиниста не стало. От страшного столкновения его кабину раздавило…
Помощник машиниста Валерий Семенов в то утро прожил те секунды также в высшей степени мужественно.
…Мы сидим с Валерием в больничной палате.
– Выскочить можно было, конечно… И Яцкевичу, и мне. Но даже такая мысль не мелькнула…
– Яцкевич успел тебе что-нибудь сказать?
– Нет. Я был в дизельном отделении, чувствую, он тормозит. Только я в кабину шаг сделал, вижу – товарный вагон перед нами… А Владимир Александрович правой рукой жмет кнопку песочницы, а левая – на кране экстренного торможения. Рукоятка уже в последнем, шестом положении… Помню, я крикнул ему: «Отожми кнопку!..» Это чтобы дизели выключить. Он даже не повернул головы, а я увидел, что дизели уже выключены. Но они могут работать еще на подсосе, и я кинулся в дизельное, к щитку. Не добежал… Меня куда-то бросило, оглушило, стало будто рвать на части. И все тут… Пришел в себя, тишина вокруг. Пополз вперед, а туда не пробраться. Тогда потянулся в заднюю кабину. Потом, помню, вылезал через окно…
– А что дальше было, помнишь?
– Плохо. Уже стал отключаться. Помню, добрался до первого вагона. Или меня довели?.. Помню умывальник, и я держу руки под краном, трогаю ими лицо… Потом, уже в машине скорой помощи, от толчков, помню, почувствовал страшную боль в спине. Попросил подложить что-нибудь мягкое. Ничего, наверное, не было, и врач ладонь подложила. А потом уже постель в палате вот эта… И в себя пришел от того, что вдруг очень мягко, приятно стало… Тридцать три дня не вставал с больничной койки…
Теперь самое подходящее время спросить его о главном. Интересно, что он думает о своих действиях в те считанные секунды перед столкновением. Что он сам скажет об этом?
– Валерий о чем ты думаешь, когда не спишь?
– Мне доктора не рекомендуют вспоминать. Не удается… Лежу на спине, в потолок смотрю и думаю… Если б тогда я раньше вошел в кабину, может, и заметил бы, что маячит что-то на путях. Все-таки четыре глаза – не два… Но откуда же знать было… Еще Яцкевича вспоминаю. Почти два года мы с ним ездили. Отлично ведет он, мягко, переходы от скорости к скорости плавные. Экономить умеет и машину щадит. И никогда не бросает все на помощника.
Валерий так и говорит о Яцкевиче – «ведет», «умеет», «щадит» – в настоящем времени.
– Как тебе кажется, кабины не будешь бояться?
– Думал и об этом. Нет…
Назавтра его выписали из больницы, и мы вместе возвращались в Минск. Жена Клара смотрела только на Валерия. Товарищи из депо делились новостями. Вагон выбрали самый первый: в нем меньше качает. Когда состав тронулся, один из товарищей сказал:
– Ну что, Валера, опять железная дорога?
– Да… Только бы допустили.
Поплыли назад станционные здания, будки, обходчики с желтыми флажками. На левой руке у Валерия была желтая вязаная варежка – Кларина. И тут стал ясен смысл его фразы, сказанной накануне: «Мне нельзя, если холодно…» И его скупые, бережливые движения, и варежка жены на той руке, где бинт. Он совсем не «рубаха-парень». Он узнал цену риска и мужества. И ему ни к чему делать вид, что «море по колено». Он чудом остался жить, и надо теперь беречь себя. Беречь от всего случайного, что может помешать, задержать в пути. Он и так уже задержался в больничной палате. А чихать на сквозняки – это еще не геройство…
Еще один разговор, совсем короткий, в деревянном домике на Луговой улице в Минске.
– Валерий, ты отца помнишь?
– Знаете, почти не помню. Три года мне было, когда он брал меня на руки в последний раз. Когда он погиб, ему двадцать девять лет было, как мне теперь. И вот Яцкевич погиб, а сколько людей спас. Да и меня тоже…
Когда закрываешь их калитку, мемориальная доска на стене, прямо перед глазами:
«В этом доме в 1941–1942 годах находилась конспиративная квартира Минского подпольного городского комитета КП Белоруссии. Содержал квартиру член комитета Г.М. Семенов. Казнен фашистами в мае 1942 года».
До свидания, Семеновы!
Война Василя Быкова
В начале последнего в 20-м столетии года Быкову вручали в Москве премию «Триумф».
Лауреата представляла известная актриса Алла Демидова. Она сказала:
– Когда уходит нравственность, начинается трагедия. Двадцатый век перешел в этом все границы… Василь Быков всегда был неугоден властям, потому что в своих произведениях касался самых болевых точек, будь то произведения о войне или повесть о Чернобыле «Волчья яма».
В ответном слове писатель отметил, что в его лице получила признание «реалистическая и социально-ангажированная литература», которая теперь «не в почете».
Этот триумф Быкова, премия, присуждаемая, как сказано ее учредителями, за высшие достижения в области литературы и искусства, – только вершина той пирамиды, которую писатель упорно возводил на протяжении сорока лет в своем творчестве. Чтобы лучше представлять себе сегодня высоту всей этой пирамиды, есть смысл снова вглядеться в ее основание.
Основание пирамиды
В 60-х годах Василь Быков жил в Гродно, печатался в «Новом мире», и журнал этот, с трудом отстаивая свою позицию и авторов, опаздывал к читателям на месяцы и по причине быковских повестей.
Тогда у нас в редакции газеты «Знамя юности» считалось, что если кто-то был в командировке в Гродно и не повидал Быкова, то не совсем понятно, зачем он туда ездил вообще.
И это тогда, после публикации «Мертвым не больно», сменный секретарь нашей редакции принес из цеха, где версталась и «Советская Белоруссия», оттиски ее завтрашнего номера, где под заголовком «Вопреки правде жизни» Быкову читалась нотация без подписи автора, но с подписью редактора.
С тех пор прошло много лет. Быкова, его знание войны и воссозданную им в литературе правду о ней уже давно не «опровергают». Но в 1982 году, после выхода «Знака беды», от некоторых белорусских критиков можно было услышать: «Оказалось, что он не космополит». Вместе со вздохом облегчения слышалось как бы и сожаление: ведь если не космополит, так чему теперь противиться у Быкова, что теперь не принимать у него? Словом, в глазах наиболее бдительных в этом отношении критиков Быков после «Знака беды», после столь запоминающихся образов Петрока и Степаниды Богатьков был «реабилитирован». Они его как бы простили, быть может, даже решив, что исправили наконец. Благо и в последующих повестях писателя – «В тумане» и «Облава» – тоже были созданы глубокие национальные характеры – Сущени и Ровбы.
В белорусской литературе нет писателя, который глубже, смелее и настойчивее, чем Быков, противостоял бы своим искусством тому закоснелому и демагогически благополучному, ложнопатриотическому и холопски лояльному, что внедрялось в сознание людей более полувека и извращало важнейшие понятия о достоинстве человека, о его свободе, об истории народа, о войне его и мире.
Да, тут он действительно первый, а не «один из…», как обычно принято у нас говорить. А его правда о минувшей войне – это правда и о довоенном нашем обществе, та именно правда, которая многим еще поперек горла.
Вспомним, например, как в «Знаке беды» Степанида чует будущее несчастье в дарованном ей с Петроком «счастье» на земле, отнятой у других людей.
А тот страх недоверия в романе «Карьер», то нетерпеливое желание доказать свою благонадежность, что заставляет Агеева рисковать и в конечном счете жертвовать любимой женщиной?
Или взять ту повесть Быкова, где «в тумане», в мороке подозрительности, вошедшей в кровь людей даже не с 30-х, а еще с 20-х годов, как в дурном, вязком сне, все длится и длится трагический абсурд, пока не прозвучит последний выстрел Сущени – ни в чем не повинного человека, лишь случайно не казненного партизанами. Человека, для которого невозможность доказать людям свою невиновность в предательстве уже есть и невозможность жить среди них…
Цена победы
В этих произведениях Быкова – «Знак беды», «Карьер», «В тумане», «Облава» – немало лиц и ситуаций, за которыми стоит замалчивавшаяся ранее историческая реальность. Но у него об этой исторической реальности говорится не только в произведениях 80-х годов. Другое дело, что без соответствующего, так сказать, визуального текста. А он все равно прочитывался, как это всегда и бывает в настоящей литературе. Потому-то, например, повести «Мертвым не больно» и «Атака с ходу» (в белорусской публикации «Праклятая вышыня»), напечатанные в 1966 и 1968 годах, ни в Минске, ни в Москве не переиздавались до середины 80-х.
В этих повестях та горькая и тяжелая правда, когда минувшая война открывается нам как война с силами гитлеризма – перед глазами, и сталинизма – за спиной. Ведь именно за спинами таких честных и настрадавшихся людей, как комбат Ананьев из «Атаки с ходу» и девятнадцатилетний ротный Василевич из «Мертвым не больно», «особо» присутствовали на войне люди, подобные комиссару Гриневичу или штабному капитану и предателю Сахно с его всегдашним: «Проверим».
Еще одна быковская повесть второй половины 60-х – «Круглянский мост». Тут с притчеобразной наглядностью самой ситуации открывается этический смысл вопроса о цене победы, о соответствии средств и цели. Разработанный Бритвиным план разрушения моста во вражеском тылу («Мы организовали и руководили. Я руководил»), по сути, заранее включал уже в себя и гибель подростка Мити…
Все это та правда, которую долгое время знали только сами воевавшие и могли рассказать только выжившие. Правда о том, что, как сказал Виктор Астафьев, «мы залили своей кровью, завалили врагов своими трупами». И вышло так не только из-за неумения воевать, нет. Но прежде всего из-за преступно низкой цены за человеческую жизнь, сознательно установленной задолго до войны Отечественной – еще во времена гражданской, а то и раньше.
Понятно, что существует устойчивое сопротивление той правде о военном и мирном прошлом, которая высказана в произведениях Быкова. Ибо всякое приближение к истине затрудняет демагогическое манипулирование сознанием людей.
Упредить судьбу
Существует и неприятие самой писательской манеры Быкова. Некоторые сомневаются в его «художественности». Что же она такое в жесткой, небогатой по краскам, сумрачной прозе Быкова?
Конечно, лучше всего было бы привести хоть бы один пример чего-то, присущего лишь Быкову, только ему одному.
Манера повествования? Но она у Быкова традиционно-реалистическая, приемы рассказывания чрезвычайно просты. Да, это простота писателя, обладающего высоким искусством – безыскусностью искренности. Нигде мы не найдем у него даже признаков холодноватой изысканности стиля. Свидетельствует ли это настороженное неприятие литературного блеска о стилистической особенности Быкова? Несомненно. Но так далеко не у него одного. Если иметь в виду белорусов, то, скажем, и у Янки Брыля, и у Ивана Мележа.
Так называемый психологизм? Он у Быкова «открытый»: импульсы скрытого душевного движения чаще всего моментально обнаруживаются. Все сокрытое выталкивается вовне, наружу тесно обступающими критическими обстоятельствами войны. Но ведь и это, в общем-то, традиционно.
Может, характеры? Они у Быкова достаточно сложны, но вместе с тем построены как бы по принципу совершенно очевидной доминанты – нравственной. Конечно, это нравственные максималисты, и это их глазами смотрит писатель на войну, на смерть, на жизнь. К тому же – ни самоиронии, ни юмора. А впечатления тяжеловесной, «монолитной» правильности нет. Именно это и является главным в быковских героях.
И вот отсюда уже недалеко до той отличительной особенности художественного характера у этого писателя, которую можно определить как способность упреждения судьбы. Эта способность у героев Быкова поддерживается именно нерасщепляемым, абсолютно «неэкспериментальным» нравственным основанием. Это делает человека личностью, предоставляя ему ту необходимую площадь внутренней свободы, когда ему действительно есть из чего выбирать и от чего отказываться, а не исполнять послушно року единственно возможное и предначертанное.
«Надо было кончать… И Сотников, чтобы упредить неизбежное, здоровой ногой изо всей силы толкнул на себя чурбан».
И Алесь Иванович Мороз в «Обелиске» выходит из партизанского леса, чтобы в последние минуты быть и погибнуть вместе с детьми, раз они верят, что школьный учитель придет их выручать.
И смертельно раненный лейтенант Ивановский из «Дожить до рассвета» все же успеет взорвать гранату перед собой.
И Степанида из «Знака беды» сожжет себя, только бы не принять смерть от рук тех, кого она не считает за людей.
И, наконец, Сущеня из повести «В тумане» все-таки сам выберет свое, хотя судьбой все сделано, чтоб не оставить ему выбора, как и Ровбе в «Облаве».
Если жить больше нельзя, если впереди остается только смерть, то может ли человек и на этой последней меже еще раз побороться за свое человеческое достоинство? А если может, то с кем, с чем? С собой, со своим страхом и, значит, опять-таки с врагом? Да, но даже и больше. Даже и с самой неумолимой судьбой, если на то пошло: упредить неизбежное, снова сделать что-то самому, по-своему, а не по принуждению зла, и тем самым выбить у него уверенность в конечной власти над человеком.
То же – и в рассказе Быкова не о войне, а о далекой уже истории своего народа – «На Черных Лядах». Финальный эпизод антибольшевистского Слуцкого восстания 1920 года. Уцелевшие повстанцы, загнанные в лес, решают покончить с собой, чтобы лишить преследователей окончательной победы над ними и уберечь своих родных от расплаты.
Так последовательно воплощается в суровой прозе Быкова идея стоического противостояния злу и злой судьбе – вплоть до вызова ей у стены очевидности, до упреждения ее фатальной логики последним усилием воли и духа.






























