Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
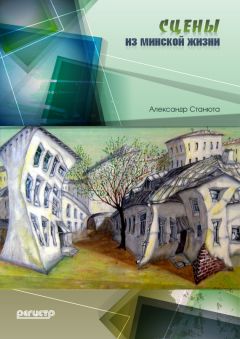
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Они берут во дворе вправо, идут под нашу гулливеровскую арку, чтобы выйти на Сталинский проспект. Не может быть, чтоб не зашли сейчас в кондитерский, Лакомку, она сразу налево.
Итак, выходит, что вся эта наша с Сашей киношная одиссея заканчивается во дворе? Кинотеатр «Первый», построенный возле Володарского еще немцами при оккупации и нашими военнопленными; затем «Победа», бывшая немецким офицерским домом с казино и варьете, а до войны клубом имени Сталина; «Новости дня», Дом офицеров, наконец, «Центральный» в новом квартале главного проспекта. А «Беларусь»?
Да, «Беларусь» на улице Островского, за Немигой, по дороге на Юбилейную площадь. Да, старенькая страшненькая «Беларусь». Если туда идешь к вечеру, за два квартала до кино вкусно пахнет только что выпеченным хлебом, идешь и дышишь теплым хлебным духом, особенно зимой.
Но сейчас начало лета, июнь не жаркий, не холодный и как будто мимо тебя. Ничего не радует, ничему не отдаешься, ни что не нравится. Только что был экзамен в университет по географии. Это ж надо, придумали географию, если поступать на журналистику, смеху варта. А карту повесили, как половую тряпку, ничего не разберешь: остров тот найти еще было легко, а вот координаты, градусы с минутами вытерлись давно на сгибах. Чуть проскочил после белорусского диктанта, когда экзаменатор открыто помогал всем, только попроси, а вот не попросилось же.
Саша уже в том скверике без деревьев, за мединститутом, напротив Красного костела, где была с сестрой и теми двумя мильтонами в штатском, когда мы с Колей выследили их.
– Сдал кое-как.
– Ах, черт! Но подождем конца. Еще посмотрим…
– Пойдем куда-нибудь в кино. Побудем вместе. Будет хорошо. Пошли?
И мы идем в ту «Беларусь» на улице, где пахнет хлебом. Какая-то венгерская картина. И Саша говорит:
– А этот мой мильтон обрадовался, когда наши в Венгрию ввели войска. Его знакомый там в танке сидел, давил людей. Сказал: «всех этих умников».
По узкой лестнице и вверх. Зальчик бедный. Пусто. Становится темно, и ее руки теплые и медленные, ее щека касается моей, перед глазами идет кино, там белое и черное, лица, дома, машины, улицы, там голоса и серый день, а здесь, у нас, длится и длится сладостная мука, мы медленно плывем куда-то солнечным минским днем в этом обшарпанном кино-доме, возле которого скоро запахнет теплым хлебом.
XXVII
Мы знаем и другие отличные места, кроме кино.
В театре, в самом центре города, есть ложа в бельэтаже, закрытая слева и справа, она центральная, в ней два малюсеньких ряда, по три или по четыре стула. Так мы сидим то в первом ряду, то во втором. В первом лучше видна сцена; на бархатное широкое перило перед собой можно свободно выложить и сласти из буфета, и программки, и маленькие перламутровые бинокли, и номерки из гардероба.
Но стулья тут с открытыми спинками, не глухими, а сзади люди, не обнимешься, как хочется. А во втором коротеньком ряду темень и полная свобода, сцены почти не видно, ну так и не надо.
Однажды мы сидим не в этой ложе, а внизу, в партере. Яркий свет. То ли вот-вот стемнеет и начнут, то ли антракт, не важно, и Саша смотрит, смотрит на мои руки, ведет взгляд выше, до локтей и спрашивает:
– А кто тебе гладил этот пиджак? Ты сам? Старался быть аккуратным? Умница, только больше не заглаживай рукава. Не делай на них стрелки, это не брюки.
Этот позор с заглаживанием рукавов надо как-то замять, забить поглубже и заткнуть. Конечно, выручает папин, мамин цирк.
Мы сидим в самой серединке. Арена перед нами и внизу, красный ковер, все ослепительное в ярком свете прожекторов. Оркестр заходится от буги-вуги, показывает: это же цирк, играем что хотим, и никаких упреков в подражании всему западному, будь оно неладно. А барабанщик просто выходит из себя.
– Икарийские игры! – объявляет громким насморочным голосом важный человек в черном фраке с фалдами, с белоснежным пышным бантом под подбородком. – Аскольд Кара-Мурза и сыновья!
Выбегают смуглые акробаты, они подпрыгивают, делают сальто и кульбиты, они подбрасывают ногами вверх подростков и таким же образом ловят их, они как гуттаперчивые, а вместо ног у них пружины, только этого не видно.
Потом выкатывается клоун с недотепами-помощниками. Он низенький, в черной шляпе с высоким куполом, в кургузом черном пиджачке и брюках с широкими продольными полосами. Все это напоминает, если клоун повернется боком, черный карандашный огрызок, заточенный в последний раз.
– Ка-ран-даш! – кричит у выхода на арену важный распорядитель, шпрехшталмейстер, похожий на швейцара в гостинице или на дворецкого в домах вельмож из трофейных послевоенных фильмов.
– А что такое этот шперх… там мейстер? – спрашивает Саша.
– Шпрехать – это по-немецки «говорить». А шталмейстер, буквально если, начальник конюшни.
Карандаш начинает налаживать с товарищем самогонный аппарат. Но является милиционер. Карандаш прячется за униформистов, готовящих манеж для следующего номера, и кричит помощнику:
– Заговаривай зубы!
Но тут самогонное сооружение взрывается: огонь, туча дыма, арена погружается в темноту.
Антракт.
Мы с Сашей идем за кулисы, в служебные цирковые помещения.
Отец попадается нам навстречу сразу же, как будто сторожил нас здесь. Он уже одет для своего выхода, вернее, выезда, которым откроют второе отделение фокусника Кио. Отец в кожаном шлеме, как у летчиков, огромные очки пока что подняты на лоб, темно-красные кожаная куртка и штаны, на ногах желтые краги, такие как бы щитки на голенях до колен из твердой кожи, а на руках кожаные рукавицы с раструбами до локтей.
– Кто этот кожаный человек? – успевает спросить Саша.
– Папа, это мы. Ее зовут Саша.
Отец перекладывает свои огромные перчатки в левую руку и протягивает ей правую:
– Тимофей Степанович.
– Александра. Очень приятно.
– О, так вы, выходит, тезки? Места у вас хорошие? Все хорошо видно?
– Отлично! Спасибо, Тимофей Степанович.
– А я при чем? Это все мама его, вашего кавалера.
– Спасибо ей большое!
– Вы Кио видели когда-нибудь?
– Я еще не видела.
– Внимательно смотрите. Может, что и разгадаете. А вот он сам. Эмиль Теодорович!
И отец подается навстречу человеку профессорского вида в черном фраке, с красным галстуком-бабочкой, в массивных очках, а тот идет к отцу, протягивая ему обе руки.
Саша сияет, она в восторге.
Второе отделение.
По желобу на круговом барьере вокруг арены едет с треском мотоцикл, за рулем отец во всем блеске своей кожаной одежды, летные очки закрывают почти все лицо, оно напряжено. А на плечах, на голове отца и на руле его покрашенного красной краской харлея балансирует, удерживается живая пирамида акробатов с флагами.
Скорость растет, рокот сильнее и сильнее, фонарь на руле мотоцикла ярче и ярче. Лицо отца бледнеет, выступают желваки.
Но тут вся эта карусель, летящая по кругу пирамида смуглых тел и флагов, замедляется. Отец увозит ее к бархатному голубому занавесу. Вдогонку им катится гул аплодисментов, и слышен голос объявляльщика:
– Людамонты на семи ветрах!..
Саша отобьет сейчас себе ладони.
– А почему Людамонты? Это фамилия такая?
– Только цирковая. Ну, для красоты. Когда-то в Минске было такое место, понимаешь? И для рекламы, для кассы…
– Да.
Музыка играет, барабаны бьют. Свет гаснет, вспыхивают маленькие лампочки, они как свечки в канделябрах.
Выходит шпрехшталмейстер. Набрав полную грудь воздуха, он кричит:
– Заслуженный артист Эс-Эс-Эс-Эр Эмиль… – многозначительная пауза. – Кио!
Оркестр, прожектора и зеркала вокруг манежа сходят с ума.
Кио непроницаем, человек без нервов. Не улыбнется, слова не проронит. Его ассистенты не теряют ни мгновения. Точно как Кио, одет парень рядом с ним. Точно так же влажно блестят его черные, зачесанные назад набриолиненные волосы. В проходе между рядами зрителей не сводит с манежа глаз очень похожий на Кио еще один парень, он тоже в очках.
– Смотри, эти ребята здесь тоже как главные, – Саша все замечает.
– Это его сыновья.
– Правда? Как интересно…
– Который возле него – Игорь. А там – Эмиль, он старший.
– Его зовут, как и отца?
– Да. Не пропусти сейчас.
Выбегает девушка, яркая блондинка. Ее быстренько укладывают в длинный узкий ящик, а ящик распиливают двуручной пилой. И Саша ахает:
– Напополам!..
Половинки ящика разъединяют. Тут же опять соединяют. Открывают. Целая блондинка выпрыгивает изнутри.
Скрещение, круговерть прожекторов. Музыка оглушает. Весь цирк бушует от восторга, хлопает, гудит.
На арену выезжает коричневая легковая машина, это «Победа». Вокруг Кио сгущается ночь, блистают молнии, он исчезает в дыму. Но вспыхивает свет, и «Победа» рывком вылетает с арены, куда-то в вестибюль. На заднем сиденье замечают исчезнувшего Кио, он в том же сером макинтоше, в очках и шляпе, только сильно поднят воротник.
– Как они делают все это? – Саша глазам своим не верит.
– Когда девушку распиливают, она уже только в одной половинке ящика. Гимнастка. Чудо. Как без костей, так группируется. И двойники. А главное, бешеный темп, зритель не успевает думать. И…
– И что еще?
– Не принято нам говорить.
– Кому нам?
– Кто знает.
– Я не выдам. Ну?
– Маленький погребок.
– Как это?
– Люк. Его сдвигают, проваливаются вниз, закрывают. Скорость и сжаться в комок, сгруппироваться.
Выносят желтый контейнер с надписью MADE IN U.S.A. В него заходят с диким хохотом человек шесть морских пехотинцев. Контейнер поднимают канатами под купол цирка.
– А их уже там нету, Саша.
– А тогда где они?
– Увидишь.
Кио стреляет из ружья в контейнер снизу. Тр-рах! И отваливается дно. Раскрываются боковины. Пусто!
Компания подвыпивших янки, морпехов, вываливает с верхней галереи над головами у зрителей.
XXVIII
Прощальный парад-алле.
Выходят все. Даже маэстро Кио в профессорских очках, таких массивных, что почему-то хочется сказать, черепаховых, где-то вычитал случайно или слышал.
– А папы твоего нет.
Саша разглядывает всех в трубочку свернутой программки.
Мы за кулисами. Здесь столпотворенье. Лай собачонок, катят огромные шары, мерцают спицы трех велосипедов эквилибристок, это Сестры Кох. Везут треноги прожекторов, пробегают жонглеры с серебристыми булавами.
Начало вечерних и ночных репетиций, все кипит, мелькает и кружится. Вдруг громко, как из динамика, рыкает лев, еще и еще раз. Пронзительно кричат, хохочут обезьяны, попугаи.
– Дайте пройти, молодые люди, – слышен сзади мамин голос, и она вежливо, но властно разводит нас с Сашей в стороны, взяв за локти.
Проносится вперед с никелированной коробочкой, на ходу оборачивается:
– Я к папе, укол ему несу. Опять спина… Сашенька, не позволяйте ему много курить!
– Он не послушает меня! – успевает ей крикнуть Саша в шуме и гаме.
– Вас? Вы ничего не знаете… Да, Шура, приехала же Ирина Николаевна. Скажи ей, что я у Тимы нашего.
Справа в углу высокие, в рост человека, клетки со львами.
– Какое здесь все интересное! – Саша глядит по сторонам. – Вот только запах… Ирина Николаевна, кто это?
– Бугримова.
– Она сама?
– Да. Со своими львами.
– А маму как зовут?
– Тамара Лукинична. Сэй ее фамилия.
– Она же вместе с папой выступала, ты говорил.
– Воздушные гимнасты, Тим Людамонт и Тама Сэй. Полет под куполом. Был такой номер. Пока не сорвалась…
– Шурик, ну, здравствуй, мой щырый беларус! Вот мы и в вашем Минске! Как мама, где она сейчас?
Женщина в бархатной черной тужурке, в белом трико и в высоких сапогах здоровается, не переставая бросать взгляды на клетки и на Сашу. У Бугримовой глубокий шрам от левого уха к подбородку.
– Завтра мы здесь начинаем. Приехали из Ленинграда. Ты уже студент? Ну, поздравляю. Так мама сейчас тут? Прекрасно!
В этот момент сильный удар в плечо и почти падаешь. Это помощник знаменитой дрессировщицы:
– Не стой спиной так близко к клетке! Видишь?
Свисает между железных прутьев мощная лапа льва. А сам он, вывалив язык, хрипло рычит, смотрит желтыми глазами, слышно его утробное дыхание, а пожелтевшие клыки обнажены.
Бугримова бросается вперед:
– Цезарь! Назад! Назад, кому я говорю! Бандит! Тебе не стыдно? Леша, ему за это еду давай последнему, пускай прочувствует… Шурик, увидимся потом, маме привет.
Саша вцепилась в меня обеими руками.
– Господи, он бы содрал с тебя вместе с одеждой всю кожу со спины!.. А у нее такой ужасный шрам, гримирует, но все равно…
– Это ее Нерон порвал когда-то.
– Смелая женщина. Герой.
Наш цирковой вечер продолжается. Заходим в гастроном, длинный и узкий, между Энгельса и Ленина, он называется «Центральный». У окон, справа, примостились выпивохи, накачиваются пивом, тянут вино. И вдруг знакомый уже клоун: он еще ниже, чем в цирке, на нем зеленоватый, болотный мятый плащ, расстегнутый, зеленая велюровая шляпа с высоким куполом, в одной руке потухшая сигара, в другой недопитый стакан с красным вином.
– Карандаш! – узнает Саша.
– Да. Румянцев Михаил Николаевич.
– Так его зовут? Я бы сказала: здравствуйте, дядя Миша!
– Ну, так скажи.
– А как же он успел сюда с арены?
– Так это ж цирк. Все может быть.
Тут собеседник Карандаша идет к кассирше, что-то бубнит, показывает пальцем в сторону окна, а Карандаш громко и резким, высоким голосом, совсем как в цирке, командует:
– Заговаривай зубы! Заговаривай зубы!..
XXIX
Алек-Саша, привет из столицы нашей родины!
Утро красит нежным светом стены древнего Кремля!
А человек проходит, как хозяин необъятной родины своей! Получил твои каракули в ответ на мою писульку о первом здесь дне. Даю отчет дальше.
В этом высотном бастионе на Котельнической набережной Москвы-реки не только вот такие гостиничные подъезды, как наш, но и целые поселения знаменитых на весь Союз людей. В соседнем подъезде, говорят, живет Галина Уланова. У нас полторы комнаты. В одной родители, в половине сплю я.
Говоришь, что еще никогда не получала ни от кого писем? А я еще никому не писал. Так что всякое может вылететь, не поймаешь. Я сказал, что сплю один. На самом деле вдвоем, с тобой. Как, догадайся сама.
Сны беспрерывно. То мы где-то за минским вокзалом, в зеленом дворе, на стульях прожаривают подушки, в деревянном доме ремонт, слышен радиорепортаж, футбол, Синявский повторяет: Яшин, Яшин… То вдруг я в коридоре твоей вечерней школы на проспекте, возле площади Якуба Коласа. То я околачиваюсь под окнами твоего техникума, наискосок от политеха, через проспект. И как ты ударила меня сзади по голове портфелем-чемоданчиком на Берсона, после кино «Первый», где я сидел с Уфимцевой, думая, что ты в техникуме. И будто мы с Борисом Ульянком идем от твоего дома, он старше, имеет у тебя успех, но видит, что и я тебе нравлюсь, пацан по сравнению с ним; темень, пустырь, и Ульянок зовет переночевать в свою общагу Физкультурного, а я струхнул.
И еще как смотрит твой тренер по лыжам Николай Николаевич на тебя и на меня после кросса в лесопарке Тракторного, он жалеет, что я к тебе прилип и помешаю ему сделать тебя чемпионкой. А твои прыжки в высоту я вижу на «Динамо», в секторе перед Южной трибуной: ты вся тонкая, а попка тяжеленькая, я с ней долго не засыпаю. Ты берешь меня в руку, а после мы оба спим, как пшеницу продавши, говорит мой дед.
Что вправду было, а что приснилось или придумалось? Будто бы я в воротах, на стадионе Института физкультуры, первый тайм, а ты идешь ко мне по кромке поля, слева, а я обругал своих защитников и грязное словцо пустил, так ты аж перегнулась пополам, будто ударили под ложечку.
Или мы сидим на Западной трибуне, ты, я и Валера, да, Беляцкий. Мы смотрим юношеские сборные Беларуси, и ты говоришь Валере про меня: обижен, как дитя, что не его взяли в состав. А у Беляцкого на Карла Маркса мы с тобой пьем первый раз на те Октябрьские, а потом к Коле Лазареву, первый раз в постель, и первый раз с балкона у Валеры я тогда вижу того мильтона в штатском, твоего страдателя, маньяка этого.
Стоп, машина. Перемена темы.
Музей подарков Сталину еще работает. Китайское рисовое зерно с иероглифами, рядом перевод на целую страницу. В музее изобразительных искусств портрет какой-то французской артистки Жанны Самари. Стою, смотрю, а мама вдруг:
– Сашу твою напоминает.
Неоновая надпись: ресторан «Саввой». Тут Рознер выступает, я схожу туда, говорит отец, а мама отвернулась. А когда мы вернулись из Жданович, я, твоя Алина, помнишь, еще ветер в лесу доносил в главный момент блюз «Сан-Луи», и когда шли по Бобруйской к вашему автобусу, Алина сказала мне: ты приезжай к нам. Было похоже разве, будто я остыл к тебе?
В кукольном спектакле знаменитого Образцова Под «шорох твоих ресниц» поют:
Ого-го-го, я вижу взор манящий,
Свет луны бледнее наших лиц,
Сердце бьется чаще-чаще-чаще
Па-ад шорох твоих р-рэсниц!
Это в Голливуде снимают кино про Россию. Танцуют танец «Кэравай»: Кэравай, Кэравай, кого хочешь убивай!
Делают сценарий. Спец по экспозиции выдает:
– Ночь. Луна. Машина мчится в горах. Кармен танцует на капоте в одних чулках (и я представляю тебя).
Пьют, щелкают себя по горлу: «бэз задержки»! Дирижер испано-мексиканского джаза: сеньор Перевертайзо.
Больше всего, сама понимаешь, понравилась Кармен в одних чулках. Увидел, как ты лежишь у меня на коленях в дальней комнате у вас, я сижу на диване, а ты спиной к двери, на случай если войдут, все дома…
Что еще? ЦДРИ, Центральный дом работников искусств и Александр Вертинский, наш тезка, помнишь его в Минске, в Оперном театре? А тут он для своих людей поет, для форсу чуть картавит:
Я знаю, даже когаблям необходима пгистань,
Но не таким, как мы,
Не нам, бгодягам и агтистам!
Он рассказывает, как вернулся в СССР в сорок третьем. Написал из Харбина Константину Симонову: Костя, хочу домой, возраст, жена, две дочки. Да, пел эти свои Доченьки. А Костя к Молотову, все и решилось. Потом в ресторане ЦДРИ Вертинский рассказывает анекдот. Чиновник из белорусской делегации говорит, что вскрыли пирамиду в Египте, там саркофаг, вскрыли и его, там мумия, она рассыпалась от старости, такой и этот анекдот. Вертинский сразу попрощался и ушел. А помнишь, я ухожу, надеваю пальто, а ты шепчешь: не застегивай. И на холодной веранде влезаешь ко мне под пальто, в темноте, уже все хорошо у нас, но мы что-то говорим друг другу. А днем, между окном и этажеркой, а ваша Томка, думаешь, только переговаривалась с нами из другой комнаты, не подглядывала?
В филиале Малого театра Эмилия Галотти. Это Шиллер, кажется, уже малопонятное. Старушки билетерши с восковыми лицами, а холод лютый, они седые и в очках, вежливые, заботливые, предлагают программки. Они еще оттуда, из военных лет, из затемненной Москвы, из блокадного Ленинграда. А на сцене камзолы, плащи, белые парики с косичками.
Как тебе мой отчет? Моды столичные: прически мужские тарзанки из фильма «Тарзан». Словечки, как и у нас. Тот же Бродвей, короче брод, улица Горького, от Охотного ряда по правой стороне до Пушкина. А памятник Маяковскому слева в два раза больше, помешались на нем. Сталин же указал: лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи. Смеху варта: «моя милиция меня бережет!» А твоя? Стережет тебя в мое отсутствие твой женатик-старлей?
Через два дня домой, конец гастролей. Родители то очень заняты, то нет. Цирк на Цветном бульваре.
Угадай, кого я видел? Показали Налбандяна. Художник, сталинский лауреат. Помнишь, на Комсомольской, в клубе МГБ имени Феликса этого, картина во всю стену, слева, как подыматься в верхнее, колонное фойе, где танцы? Картина «Утро нашей Родины»: вождь всех народов в белом кителе, а через руку висит серый габардиновый макинтощ, а вокруг золотая пшеница и голубое небо.
Говорят, Сталина вот-вот вынесут из мавзолея. Хочешь, чтоб я скорей приехал? Ты говорила: хочу всего! Вот и хоти еще, изо всех сил. Ты Саша с Уралмаша.
Твой тезка.
И поэтому целую тебя куда хочешь. Включи воображение, увидишь свое кино. Цензура эти кадры вырежет. А жаль, правда?
XXX
– Живем! – смеется ни с того, ни с сего Алина. – Еще прорвемся, да, моя сестренка Сашенька? И чтой-то я в тебя сегодня влюбленная такая, а?
– А потому что в ресторан идешь со мной. И будут тебе ухажеры, танцы, тосты.
– Надеюсь… Рюмка и закуска. Как у нас говорили, лучше с лучком, ударение на лу.
– Аля, я умоляю, держи себя в руках сегодня, особенно язык.
– Язык народный, русский. Великий и могучий. Твой благоверный тезка, видишь, молчит, согласен. Он будет после вуза кто? Ах, журналист, борец, подручный партии? Так должен знать и наш язык, мать вашу…
– Алинка!
– Дед у меня в этих случаях бросает: итти вашу маковку… Ну, сестры, нам выходить!
Выходим из автобуса возле Комсомольской, у «Лакомки» и книжного.
– Шура, прямо к тебе домой. А ресторан?
А ресторан в «Республике», то есть, в гостинице «Беларусь», напротив стадиона. Переходим к кафе «Весна» по проспекту, уже не Сталина, а Ленинскому, потом улица Карлы Марлы, потом сворачиваем вправо на Кирова.
– Вожди сплошняком идут, – Алина в хорошей форме. – Передают нас из рук в руки. Верят в нас.
– Особенно в тебя.
– Зато в тебя, Саша, поменьше. Ты не комсомолка.
– Как и ты.
– И как же мы живем? Идем вот в ресторан? А взносы не заплачены. Не учимся и не работаем. Шура, мы с Сашей твоей кто? Для журналистов?
– Плесень.
– Правильно!
– Так в фельетонах Шатуновского в «Комсомольской Правде».
– Пошла она…
– Алина, тормози, пожалуйста…
Между рестораном гостиницы и гастрономом стоят Ким Левин, Коля Лазарев и Лара, его миниатюрная сестра. Она здесь полная неожиданность. Коля шепчет:
– Спокойно, Шурка. Она знает, на что идет.
– Она замучается, я же не один, ты видишь.
– Она уже замучалась, тебя не видит. Я прямо ляпнул: будет со своей. Она: может, и не выдержу, уйду, но если не увижу, даже вдвоем, точно не выдержу. Я Кима взял ей в кавалеры, с Нелкой поскубались.
Стол заказан три дня назад в правой части зала, возле колонны, белой, с рельефными какими-то красотами, четырехгранной. Сверху отличный яркий свет, потолок сияет люстрами в лепных квадратах. Еще правее новая часть зала, переделанная из открытой, с плющом, террасы, где заправлялись наскоро перед футболом. А слева пальмы в кадках, фикусы, оркестр на возвышении, вверху две ложи, это отдельные кабинеты.
Наш стол как букет: ваза с оранжевыми апельсинами, красные бумажные пионы. Рассаживаемся, женщина-администратор хлопочет возле нас.
Коля встает с бокалом шампанского:
– За женщин!
Второй тост:
– Теперь за нашего студента, журналиста! Он первым из нас прорвался в высшее образование!
– В высшее общество!
– А думали, он в цирке будет выступать.
– За то, что он вернулся из Москвы, – говорит Саша и протягивает свой бокал.
Лара огромными глазами смотрит на всех, и видно по лицу, что ничего не слышит, как остолбенела.
Алина зажигает сигарету, прищурившись, смотрит на Лару, потом на нас с Сашей. Она что-то прикидывает, может, догадывается.
Неслышно, как тень, в белом переднике, с белым стоячим кружевом на голове снует наша официантка.
В оркестре седой человек держит микрофон у самого рта и изображает пение, манерно и слезливо тянет:
Не надо вспоминать любви,
Ушедшей без возврата…
Стало свободнее и проще, все улыбаются, даже Лара. Ким начеку, следит за ней.
Развязались языки. Алина в своей атмосфере:
– Я тамада! Слушать меня!
– Дорогие товарищи женщины! – Ким подражает кому-то из московского Политбюро.
Алина не уступает:
– Вот уже сколько лет мы без отца народов. Но не сдаемся! За нас!
– Она в ударе, – говорит Саша. – Когда великий вождь откинулся, мы как раз ехали из Магадана в Минск, через Москву, конечно. Пятого марта, днем, папа покупал в Мосторге приемник ВЭФ, и было пусто, утром о смерти объявили. А вечером он пошел на хоккей, «Динамо» и Вэ-Вэ-Эс, я правильно называю?
– Да. Военно-воздушные силы, там Бобров играет.
– Так было уже три тысячи народу. Уже это событие проехали.
– А вот и нет. В день похорон там задавили сотни. У нас на курсе двое из Москвы.
– Танцуем! – командует Алина.
Лара с мольбой глядит прямо в глаза, она сидит напротив.
– Ну ладно, пригласи ее, а то еще заплачет, – Саша старается шутить.
Лара сияет. На высоченных каблуках, с взбитой высоко прической офицерских жен, прямая, она так хочет быть повыше ростом. Ступает на паркет под пальмой в деревянном ящике, маленькая, в черном платье из панбархата и подымает руки, просто отдает их, льнет и покачивается в медленной музыке, прикрыв глаза своими длинными ресницами.
Когда садимся, Саша берет сигарету.
– Ты же не куришь, Александра.
– Отдохни.
– Саша, ну перестань.
– Гордись, влюбил в себя малолетку. И что дальше?
– Сашка, да плюнь, сеструха! Лучше выпьем! – Алину уже понесло.
Ким поднимается в оркестр, о чем-то разговаривает с пианистом, садится вместо него.
– Сейчас будет лабать свою любимую «Зиму», – говорит Коля, уже выводя из-за стола Алину.
Ким осторожно начинает, оглядываясь на оркестр. Саша сдается, но еще держит дистанцию, танцует как-то отстраненно. Но вдруг вся прижимается и дышит в шею, становится податливая, мягкая. За ее плечом, в проеме широкого входа в зал стоят две заснеженные милицейские фигуры: шапки-ушанки, башлыки на плечах, за спинами, как у казаков, длинные темные шинели и валенки с галошами.
– Выйди со мной, покажешь, где женский туалет.
Выходим. Молодой мужчина, высокий, темноволосый, поворачивается спиной, заговаривает с генеральского вида швейцаром. Но уже вспомнилось, узналось, это один из двух сидевших на скамейке в сквере без деревьев напротив Красного костела, рядом с Домом правительства. Один из тех, что тогда сговаривались с Алиной и Сашей. Мы с Колей тогда их видели в лицо, сперва обогнали, а потом навстречу.
– О господи, он уже здесь, – Саша мгновенно увядает, блекнет. Скрывается за дверью туалета. Когда выходит, в вестибюле уже никого.
Снова за стол. Снова улыбки, оживление, перебивания друг друга, шутки в разнобой.
Снова оркестр, немолодая певица поет в микрофон, голос ужасный.
Дробится желтый свет от люстр, стелется фиолетовый папиросный туман. Много военных и погон, золотых пуговиц.
Что-то сгущается и набухает, назревает.
Вдруг: трах! Стеклянный звонкий взрыв, россыпь осколков на полу, и голоса на миг стихают.
Это Лара держала на вытянутой руке опустошенный бокал и разжала пальцы. Теперь она добилась своего. Все смотрят на нее. Сейчас она, наконец, главная.
Дальше отрывочные быстрые картинки, будто крутят ускоренно какое-то кино с людьми, которых узнаешь со стороны.
Уходим и уже у гардероба.
Доносится из зала некрасивый женский голос, микрофонные слова:
Забыть тебя, твой образ ложный,
Забыть твой взгляд, твой смех-обман,
Жить без тебя все равно невозможно,
Не верю я твоим словам…
Идем под фонарями к улице Свердлова.
– Извините! – голос позади нас. – Можно вас, Саша, на один момент?
Тот вечный наблюдатель Саши, эта заноза, торчащая везде, уже в плаще и шляпе, не выдержал, ему приспичило что-то сказать.
Коля делает шаг к нему и почти без замаха, справа и чуть снизу бьет в подбородок. Тот сразу на спину, как подсеченный, и ровненько лежит.
Мы все, а громче всех Алина:
– Коля, рви быстрее отсюда!
И Коля птицей летит в проезд между домами на Свердлова, в темную глубь дворов, что тянутся до Привокзальной площади.
И тут же появляются те два милиционера, которые топтались в вестибюле ресторана. Они рассматривают лежащего на спине. Его шляпа лежит рядом, а в лице ни кровинки. Смотрят внимательно, понятно, они его узнали. Здесь, на Свердлова, совсем близко, отделение милиции.
– Кто его так?
Молчим. Стражи порядка, видно, большие детективы, глубокомысленно решают:
– Вы не могли. Сбежали бы. Значит, он убежал.
Проходит однокурсник Петя Бережков со своей девушкой. Ночная стража кидается к нему, может, он видел убегающего? Петя мгновенно заметает след:
– В ресторан вбежал.
И следопыты мчатся к ресторану.
Коля спасен.
В автобусе Саша молчит. Перед конечной остановкой на Сельхозпоселке вздыхает:
– Вот и все. Период мирных переговоров кончился. Как и его терпение, чувствую. Теперь готов на все. Так просто он этого не оставит. Господи, что же делать?..
XXXI
– Японский бог! – говорит Володя Карпиков. – Вот так встреча!
Он сидит с женой, тоже москвичкой, в пустом утреннем сквере у театра, у них, наверное, нелегкий разговор, супружеский, семейный, и Володя рад его прервать, сменить пластинку, как мы когда-то говорили, и говорили как раз вот в этих местах.
В квартале отсюда наша 4-я школа, ей хоть бы что, отремонтированная, покрашенная, она белеет полукружием фасадных колонн над входом, и на четвертом этаже справа последние три окна, как ни в чем не бывало, смотрят на ту же Красноармейскую улицу. И близко улица Энгельса, и, подновленные, точно так же стоят здания бывшей 2-й женской школы и старинного Дворца пионеров, а ниже можно еще угадать, где стоял дом Теди Березкина и где были ходы за темно-красный трехэтажный дом Колиной золотоволосой Неллы с балконом, как у Джульетты, под которым и простиралась территория нашей Африки с белой волейбольной сеткой, серыми сараями и полуразваленным крыльцом многоквартирной халупы с каморкой Коли, где заседала наша Африка, а Петя Лещенко клялся в любви Наде-Надечке и Мусеньке родной с запиленных пластинок Bellaccord Electro Columbia на радиоле «Урал», и это называлось «выдать Леща»…
Много, много воды утекло с тех пор и в весенних уличных канавах Минска, и в его водосточных трубах при осенних нудных дождях, и в мутной реке Свислочь или Сволочь на давнем нашем языке. Уже неизвестно, где всегдашние персонажи известных минских мест, Григорий Майзельс, бывший борец, потом постановщик праздничных действ; Толя Хотенчик, боксер, тяжеловес, высокий, со сломанным носом, в желтом плаще; Виктор Фидельсон, первым в Минске катавший ранней весной на мотороллере женщину с непокрытой головой, сидевшей как амазонка, боком, когда он подрулил к открытому недавно ГУМу… И с этой женщиной, опять как в итальянских фильмах, он ездил по городу в сделанной своими руками машине, двухместной и открытой, без всякой крыши, пусть все видят…
И уже непонятно, куда подевались вольные художники, минские корифеи Евгений Логинов, Ким Хадеев, Гарик Клебанов. И вечный спутник известного боксера в променадах на бродвее Виля в остро отутюженных штанах, бритвенными лезвиями торчащими сзади.
И Володя Цитович, городской сердцеед конца 40-х годов со шрамом на щеке. Джазист из Политехнического Моллер. И супер-интеллигент с бородкой по фамилии Бессмертный с радиозавода на Красной улице, где директор Юделевич принимает на работу всех интересных личностей, баскетболистов, хоккеистов, белорусских аргентинцев, и где Бессмертный, наркоман со стажем и со шприцем уже в те пятидесятые, в курилке сборочного цеха с трубкой в руке рассказывает, как видел легендарного Рокки Марчиано на Нью-Йорском ринге Мэдисон-Сквер-Гардена… Уже Сергей Кортес, приехавший из Аргентины, становится композитором и мужем Оли из Нелкиного дома. И уже не слыхать под куполом главпочтамта, как бухает рукояткой штемпеля по открыткам коллекционер Бэбс Новоселец, пожилой, с веснушками и рыжий, вышедший однажды на спор из кулисы на сцену Русского театра во время спектакля «Барабанщица», сделавший, что нужно, сзади, в углу, отвернувшись спиной, на глазах всей публики и спорщиков, следивших за соблюдением условий спора… А Гаша Гайский из газеты «Физкультурник Белоруссии», большой физической культуры человек, первым узнавший адрес открытого в Варшаве бардака на Маршаловской, 6, он клялся и крестился, где же он теперь?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























