Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
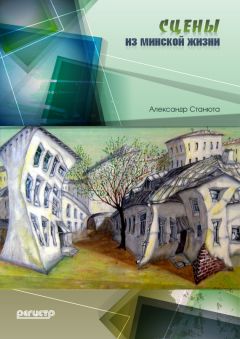
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нечем дышать. Два здоровенных битюга сдавили с двух сторон. И кто-то, кажется, лезет в карман:
– Пикнешь, распишу пером всю морду.
Тут можно только осторожненько шепнуть:
– Коля, меня потрошат. В клещах я…
Коля в страшнейшей давке ныряет вниз, выныривает рядом. Его серая кепочка сбилась набок, что-то сквозь зубы цедит одному из этих битюгов, видно, готов на все.
Тогда басистый голос с примирением:
– Чего ты? Чего твой кореш белый такой с лица?
– Он из тюрьмы. Кивай лучше от нас.
Больше они не жмут, не давят.
Вот, наконец, и Нелкин дом. Лестница с мутной желтой лампочкой. Бледный как полотно, пьяный Серега, Нелкин брат, высокий и худой алкаш, нам открывает дверь.
– Не ждала, Нелла? Только честно.
– Уже нет. Ой, да ты с Шурой? Ну, давайте… Мама!..
Кислая капуста в мисках, клюква в ней красными бусинками. Банка с маринованными помидорами, грибы, опята и зеленки с белыми скобками лука, политые постным маслом, и самая вкусная в мире тминная колбаса. Водка холодная, стакан граненый. И в первый миг еще никак и ничего, но тут же и тепло, и просто все, легко, спокойно, ничего страшного не случилось, все поправимо, ерунда, ну и денек же.
– Где же вы были, Коля? Я посылала нашего Сергея…
Все хорошо!.. А стакан снова уже полный.
– Мальчики, ешьте же что-нибудь…
Все хорошо!.. Какое имя у нее, это же надо так! И у нее, и у меня одно и то же, Александра, Александр. Теперь вот, без нее, когда она с другими, она еще сильнее нравится, сильнее нужна…
Помнишь, осенней порой
мы повстречались с тобой,
ты мне сказала прости,
лишний стоит на пути.
Имя назвала свое,
сердце разбила мое.
Голубые глаза, в вас горит бирюза,
Голубые глаза, вы сгубили меня…
IX
Через дня три она звонит.
Голос, как будто ничего и не было такого. Это сперва, правда, а потом вроде виноватый. Или так просто хочется услышать?
Зовет приехать к ним. Подробно объясняет дорогу. Лучше молчать, пусть себе говорит, сделаем вид, что все сначала, что и не приезжали с Колей под Новый год. Значит, Сельхозпоселок? Автобус номер пять, садиться лучше на конечной Западный мост, тогда есть шанс занять пустое место, ехать сидя.
И начинаются эти поездки.
В кинотеатре «Первый» идет американская картина «Дилижанс», а у нас борются с западным влиянием и на афишах пишут: «Путешествие будет опасным». И вот в автобусе с южного Минска на самый северный, на Колыму, в этом автобусе думаешь и про свое путешествие. Может, оно тоже опасное? А чем?
Коля спокоен, он улыбается, не дрейфь, мой бэби, и вперед, вперед! Возьмем по рюмочке, чтоб тебе было теплее в этой железной банке на колесах, в бочке с сельдями? Ну, наболтали мы, как раньше говорили, с десять бочек арестантов, все к черту, и вперед! Двигай к своей тезке магаданской.
И приезжаешь, наконец. Часа четыре, зимний день, вот-вот начнет темнеть.
Дверь на крыльце уже незаперта; прихожая, дверь в первую комнату, теплый, приятный дух от печки, дух чужой жизни, незнакомой, женской, чем-то зовущей, что-то обещающей.
Потом все как-то сваливается в один ком, в рулон сворачивается.
Приходит этот физкультурник Вайда, его зовут Эдгар, он вроде бы латыш, какое-то нездешнее лицо, короткий тонкий нос с глубокими, как будто вырезанными ноздрями. Он хоккеист, при нем коньки с загнутыми сзади кверху лезвиями, дети их зовут канады.
Приходит Виктор Фидельсон. Он живет новой техникой, бредит автомобилями, которых нет, прикрыв глаза, мечтательно токует, как тетерев, про мотороллер и ставит вдруг на стол вместо бутылки магнитофон; там ленточками на колесиках коричневая пленка, есть и микрофон. Фидельсон предлагает рассказывать анекдоты, потом их можно будет слушать, где и когда захочешь…
А Саша, это открывается, заядлая лыжница, у нее уже первый разряд, и она может мастерский норматив выполнить; она еще на Колыме, в детстве своем привыкла к лыжам, а в Минске есть отличный тренер Николай Николаевич, он над ней шефствует.
Тамара, самая младшая сестра, на второй смене в школе. Мама на работе, до пяти, на своей фабрике картографической, это на Володарского, сразу за театром.
Ну, а Алина, вот она… Чайку или чего-нибудь покрепче? Можно бы спиртику по капель пятьдесят. Мама приносит иногда с работы. Так что, пока она в дороге к дому… Кто-то идет.
– А это Юрка, твой, Алина, ненаглядный.
– Привет теплой компании! Аля, а кто там, у ворот ваших дежурит, а? Уши опущены, воротник поднят, меня увидел, отвернулся. Шпиён?
Алина мечет острый взгляд на Сашу. Та чуть кивает, опускает голову. Юра, редковолосый блондин, потирает руки, щеки, смотрит на стол:
– Эх, полным полна коробушка, есть и ситцы и парча!..
Алина встает с рюмкой, в ней что-то розовое:
– Геодезисты, Сталин дал приказ, геодезисты, зовет отчизна нас!..
– Уже больше не дает своих приказов.
– Нашел время откинуться, перед Восьмым марта! Помню, куда не кинешься на танцы, везде позапрещали вечера, во всех институтах…
В графине спирт разведенный – спиртик, говорит Алина. На дне ягоды вишневого варенья.
Саша все время смотрит как-то странно, уже вторую выпивает, полную до краев. Вдруг пересаживается на пустой стул, рядом, справа; когда Алина выходит в кухню, придвигается почти вплотную.
Пальцы у нее длинные, тонкие, хочется сказать, высокие, как и она сама.
Молчит, берет у Вайды из белой коробочки сигарету. На крышке надпись «Шипка», башня крепости или монумента.
Фидельсон, жгучий брюнет, тут как тут, щелкает зажигалкой, подносит ей огонь маленьким язычком, доволен, похвалился этой штучкой, модник. Она затягивается, кашляет, выступают слезы.
Сашины пальцы подрагивают, ногти без маникюра, розовые, школьные какие-то, с мелкими белыми серпиками, лунками.
Все уже теплые, хорошие.
И Вайда, и Фидельсон, и Юрка, все постарше года на три, ну и что?..
– Нет, ты подумай, Вайда, разогнали, как какую-нибудь дворовую команду. А это же ЦДСА, во-первых, чемпионы, и не раз, а во-вторых, это же офицеры!..
– Даже Василий Сталин не помог, тоже мне, сын называется…
– Смешно, ему же выгодно, его родное ВВС теперь зачемпионит…
– Французы в день игры завтракают в ресторане «Москва». Ну, красное вино, конечно. Наш переводчик шутит: может, и нашим можно? Французский тренер говорит: это ж профессионалы, славянам не советуем…
– А имена какие, Бобров, Федотов!.. Не победили? А на х… на хрен она нужна, олимпиада эта!..
– Мы бы собрали сами этот мотороллер не хуже итальянского, лишь бы нам Бэ-Пэ-И родной дал свои мастерские…
– Сашка моя обставит и Трещалиху, на любой лыжне, да, Саша? Только бы в мазь попасть, правильно подобрать…
– Да в «Огоньке» читал сам, вот не сойти с этого места, век свободы не видать!..
Кто-то ставит пластинку, и на радиоле шкрябает:
Если любишь, молю, не отказывай,
Об одном только помни всегда,
О любви никому не рассказывай,
Ни за что, ничего, никогда…
Саша глазами вдруг показывает на дверь. Глаза серьезные и строгие, не моргают.
Выйти?
В кухне по-прежнему темно, надо нашарить выключатель. А лучше вот сюда, на холодок. Сенцы, а у них, по-русски, сени. Ах вы, сени, мои сени! Есть, кажется, такая песня.
Здесь лучше, от окна чуточку светлее. Как будто вышел освежиться, покурить один.
И тут она, и сразу вся, вплотную, молча, и как проваливаешься, падаешь в нее, нетерпеливые и смелые движения ее рук, пальцы прохладные, проворные, мягкий и быстрый поворот лицом к окну, руки на низком подоконнике, а спина выгнута. Шепчет:
– Ну, что ты делаешь… Войдут же…
– Не бойся…
Молчит, и не противится, но вся напряжена, тревожно ловит каждый, даже самый отдаленный звук.
В окне какой-то силуэт возле забора. Уже знаком он, где-то видел.
– Видишь его, Саша?
Молчит. Затем чуть слышно шепчет:
– Да-а…
– А кто это?
– Потом…
Х
Зима уже остановилась, просела в своих сугробах, но лежит, лежит.
Третья школьная четверть. Последний раз в десятый класс, привычно шутит сосед по парте Вовка Карпиков. У него кисти рук в бинтах, экзема опять бросилась. Теперь заметнее обгрызенные ногти. У Саши тоже экзема, выступает покраснением внизу щек, на подбородке, бывает, кожа шелушится. Тогда она стыдится, чуть не плачет, ну как ты можешь меня целовать?
Карп разворачивает сверток с завтраком из дома. Хлеб с маслом, черный и белый, холодная котлета, две конфеты.
– А у тебя, Шурка?
А то же самое, только между хлебными кусками кружки ливерной колбасы.
Все смешиваем, каждый берет что хочет. Он приступает:
– Ну, я, конечно, солидарен с бастующими докерами Франции, но не подыхать же с голоду.
Вечером мы с Димой Федориком идем к Вовке на Берсона, к Фабрике-кухне, списать у него математику.
Гурбы слежавшегося снега возле Красного костела, деревянный большой дом и два крыльца, а на снежной, расчищенной тропинке отсвет от Вовкиной настольной лампы. Он за столом, лицом к окну, за кисейной гардиной.
И понимаешь, что не за тригонометрией Зелика Голода мы пришли, а просто посидеть у Вовки Карпика, просто побыть в этом уюте, в тепле от печек, в тишине.
Белые семечки и карточный дурак, уже почти с закрытыми глазами, машинальный. И, конечно, разговоры. О женских школах номер два на Энгельса и номер девять у вокзала, о том, кому и сколько удалось урвать в этом непонятном и уже открытом нами женском мире.
Карпа имеет свою комнату. Спартанец, шутим, и оглядываем его каюту. Письменный старый, но удобный стол, лампа с зеленым стеклянным абажуром, раскладушка с серым, солдатским, как мы говорим, одеялом, пара стульев. Вовка железно знает, что уедет поступать в этом году в морское высшее училище, может быть, в Ленинград.
Морской военный инженер. Погоны золотые, черный китель, белая сорочка с черным галстуком, фуражка с золотой кокардой. И кортик, кортик золотой, свисающий к бедру! Все остальное просто бредни.
Вот почему мы целые уроки в своем десятом проигрываем в морской бой. Расчет в копейках и рублях, в завтраках из дома.
Карпа силен как бык. Немножко занимался боксом. Много прочел. Сейчас у него на столе «Истории Тома Джонса, найденыша» какого-то, английского писателя прошлых веков.
– Филдинг, – говорит Карпа. – Генри Филдинг.
Из большой комнаты родителей плывет красивый бой часов. Бом-бом! Эти часы в узком деревянном застекленном шкафу выше человеческого роста, с медными гирями и цепью, с диском маятника.
Отец Вовки, видный партизанский деятель в военное время, теперь советник в Совмине. А мать души не чает в сыне.
– Мама, схватил в школе две пары, дико хочу жрать!
И все, гроза уходит, не разразившись. Лучшие мама, папа в мире, лучший в Минске дом.
Это сюда сразу бежишь, если никого нет в Африке на Энгельса. Это сюда, по одному чутью, по нюху кидаешься перед праздниками, чтобы тут начать, и перед свиданием, чтобы заправиться для смелости.
– Ну, ни копья у меня, – горюет Вовка. – Только бутылки.
Огромные, напиханные тарой авоськи легко несем на Мясникова, вниз по Берсона, заискиваем перед приемщицей в ларьке, сдаем и получаем деньги. Ту же берем портвейн, сумрачный день становится одним из лучших.
Теперь опять есть цель, опять что-то и светит, и греет впереди, опять есть стерженек какой-то, опять все по местам.
Мама у Карпы – золото, она хлопочет на кухне, тут нам и накрывает: баночки сайры и балык, рыба копченая и рыба красная…
Мы вспоминаем чеховский рассказ «Сирена» про закуски, вкусности. Карпик кричит:
– Клянусь, что Чехов лучше ничего не написал!
Яства приносит Карпин папа из своего Дома правительства. А там отличная библиотека. Карп через отца там достает все книги, тащит их в школу. И весь восьмой, девятый и потом десятый Д, как школьную программу, проходит «Дон-Кихота», «Тайну двух океанов», «Капитана Немо», «Борьбу миров» и «Человека-Невидимку», «Шерлока Холмса». Потом опять Жюль Верн, его «Восемьдесят лье под водой», «Пятьсот миллионов непонятной бегумы». Истории жуткой шпионки Маты Хари и «Человек-Амфибия» писателя Беляева, его же «Голова профессора такого-то» и «Аэлита» у Толстого Алексея, ну, в общем, все для нас самое-самое, что тут говорить.
Карпа бывает в нашей Африке на Энгельса, но редко. Как жаль, что не удалось затянуть его в наш африканский филиал, через улицу, к Сондеру.
Сондер заслуживает отдельного разговора. Он невысок, с густыми темными волосами, зачесанными назад, без пробора. Он зимой и летом в темно-синем костюме, с галстуком, в шляпе. Сондеру уже лет двадцать пять, он страшно старше всех нас, но еще молодцом, в полном порядке.
Сондер живет у мамы, у них большая комната в просторном деревянном доме, справа от женской школы номер два. Комната разделена занавеской и громоздким шкафом так, что у Сондера, Володи Солнцева, отдельное палаццо с окном. Стоит велосипед, есть стол, тахта, на стене зеркало, есть тумбочка, приемник и электропроигрыватель. Что еще нужно?
Деньги. Здесь и вся загвоздка. Миляга Сондер наш не учится и не работает, и не работал никогда нигде. А деньги нужны каждый вечер. Как на работу, ежедневно Сондер, деловито закурив свой «беломор», шагает к Дому офицеров, к правому его крылу. Там, над кинозалом танцевальный зал с паркетом и колоннами, с маленьким полукругом возвышения перед нишей для оркестра. Тут офицеры танцевали еще до войны. Но войны войнами, а танцы остаются, пока есть офицеры. Или такие вот, как Сондер.
Самые главные сцены с участием Володи Сондера разыгрываются во дворе, на пространстве между Сондеровым домом и узкими тротуаром Энгельса, если идти вверх.
Сондер выходит, одетый по всей форме к вечеру, выходит, но со злостью гулко хлопает разбитой дверью. Это как залп и гром, и дребезжание, и лязг. Сондер обижен, оскорблен.
Сзади его бежит и задыхается его старушка – матка, как он ее зовет. Она его догоняет, он сам ей это дозволяет, замедляя шаг. И матка с выражением последней, трагической решимости сует ему в карман смятые деньги. Сондер сперва шагает дальше, будто ничего и не было, но перед выходом на улицу вдруг тормозит, уверенный, что матка это видит, достает деньги из кармана и, пересчитав, бросает в сторону, на ветер, театральным жестом. Он поворачивает, исчезает за углом. Лишь струйка дыма от папиросы говорит теперь о нем. Бедная матка стоит с каменным лицом, потом сгибается и начинает подбирать с земли бумажки.
– Деньги на ветер, и в буквальном смысле, – сухо комментирует Тедя Березкин.
– Моя любовь как струйка дыма, что тает в миг в сияньи дня, – бросает Коля Лазарев слова известного патефонного танго.
Зимой в клубе под названием «У Сондера» совсем иначе. Здесь после школы, после очередного дня в нашем десятом, который, тягомотина, никак не кончится, идет вовсю та жизнь, какую мы уже не только представляем себе, но и ведем.
Сондер заканчивает свой обед. Мать, то есть, матка, подает ему пол-литровую банку воды. Он выпивает и закуривает. Мы готовы.
Пластинки, музыка, хрипение приемника, смех, анекдоты, пение. Все тонет в синем табачном дыму.
Открывают большую форточку, стоят под ней и пускают в нее дым. Что-то выкрикивают мадамочкам-десятиклассницам из школы номер два, что по соседству.
Быстро темнеет. Сондер включает свет, накидывает скатерть на стол под красным абажуром, ставит тарелку вместо пепельницы.
Карточный вечер начался. Влетает раскрасневшийся Стэсик с клюшкой для русского хоккея и коньками. Всю эту амуницию под стол! Стэсик сегодня вряд ли попадет на лед Пищевика, где он играет за Дом офицеров. У Сондера, вот здесь, очко или тысяча, кинг или преферанс, и все на деньги.
Кто не играет, тоже не скучает. Уже в который раз с пленочной, рентгеновской пластинки звучат «Журавли», этот гимн нашей Африки:
Здесь, под небом чужим
Я как гость нежеланный,
Слышу крик журавлей,
Улетающих вдаль.
О, как больно душе
Видеть птиц караваны,
В дорогие края
Провожаю их я.
– Лещенко, Петя Лещенко.
– Спорим, что нет.
– Лещенку в Румынии убили, в лагере…
– Это Сокольский, если хочешь знать.
Вот все ближе летят
И все громче рыдают,
Знать, недобрую весть
Мне они принесли.
Из какого же вы
Из далекого края
Прилетели сюда
На ночлег, журавли?
– Коля, вы с Шуркой ездили к его колымской тезке?
– Куда мы ездили, история умалчивает.
– Это Сокольский поет в Риге, до войны еще!
Пронесутся они
Мимо скорбных распятий,
Мимо древних церквей
И больших городов.
– А музыка, мотив?
– Ежи Петербургский, эмигрант.
А вернутся домой —
Им раскроет объятья
Дорогая страна и Россия моя.
Об этих журавлях или о Сондере, о Володе Солнцеве, о чем угодно, только не о ней. А почему? А потому, что все кончается на У. То вот она послушная, даже заботливая, как с пацаном, вроде бы повидавшая всего, то вдруг как будто нет ее, раздражена, далекая какая-то. Не объяснишь и не поймешь…
Хмуришь брови часто,
Сердишься ты зря,
Злость твоя напрасна,
Я ж люблю тебя.
Ну подойди, Саша, крепче обними,
Жизнь прекрасна наша
В солнечные дни…
Глухой, тяжелый март. Все говорят, уже весна, но белорусский март, март минский, всегда зимний; этого никто и никогда не помнит.
Подваливает новый снег, наметает, кружит, воет, свищет.
Вдруг оттепель, густой туман, и все плывет, грохочут ледовые обвалы в водосточных трубах, с цементных колхозниц и рабочих на карнизах срываются вниз сосулищи, сплошные глыбы льда, на тротуарах едва увернешься, кто-то уже с пробитой головой.
В Африке нашей, в штаб-квартире у Коли Лазарева сонные посиделки. Не снимая пальто и шапок, задумчиво курят, крутят на радиоле музыку, рассеянно слушают своего Петю Лещенко. Его шипящие, заезженные пластинки с черными, синими и красными наклейками, с надписями Bellakord, Columbia. Все тот же «Чубчик» и «Студенточка», «Моя Марусечка», «Скажите, почему», «Стаканчики граненые» и «Аникушка», «Рюмка водки», «Бедное сердце мамы» и «Черные глаза», «Все, что было», «Ты едешь пьяная», «Спи, мое бедное сердце».
Или вот это: предвечерняя голубая стынь, все будто сдвинули с привычных, постоянных мест, и то ли мартовское небо опустилось во дворы и улицы, то ли земля, и мы на ней поднялись и зависли в непонятном равновесии, в какой-то нерешимости и неопределенности.
И это промежуточное положение уже как состояние души.
Глухо, как под водой, сладкая лень, истома, долгий, растянутый во времени приступ рискованной свободы от всего, от самого себя, когда все уже делается абсолютно все равно. Ни в чем не виноват, ни за что не отвечаешь и можешь жить в любую сторону всей этой жизни.
Она каждый день накатывает и накатывает на тебя, так будь что будет.
Хватит что-то выстраивать, рассчитывать, стараться что-то улучшить и не ошибиться, или перемочь, пересилить и опять напрячься, чтобы – что?..
Был день осенний, и листья грустно опадали,
В последних астрах печаль хрустальная жила,
Грусти тогда с тобою мы не знали,
Ведь мы любили, и для нас весна цвела…
XI
Сегодня в Оперный идем, там сумасшествие, не пробиться, но нам добыли два билета, и она кинулась к портнихе.
Вот и суббота.
Половина Африки провожает своего бойца в первый культпоход с Мадам де Магадан.
Конечно, взяли по сто граммов, а Миша Порох свои привычные сто пятьдесят.
Он молчалив и озабочен. Впервые, кажется, он, надежнейший телохранитель, преданный друг и привычная тень в любом сопровождении, впервые он остается в стороне.
– Шурка, сигареты взял?
– Вот еще пачка «Солнца», тоже болгарские.
– А спички?
– Есть.
– Так сколько у тебя с собой всего?
– Сорок один с копейками.
– Добавить? На буфет.
– После Вертинского сразу веди ее сюда. Вот ключ, я смоюсь к Нелке в десять, понял?
– Ты посмелее с ней. А то…
– Что – то? Нахрапом, да?
– Слишком ты мягонький.
– А не пошел бы ты знаешь куда?
– Знаю, только не мандражируй с ней.
У Оперного, возле входа, темная толпа. Александр Вертинский собственной персоной! Из довоенных еще, треснувших, заезженных, запиленных тупыми иглами пластинок… Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема, и скажет больше пантомима, чем я сама…
Саша навстречу. Холодок под ложечкой, но быстро становится тепло.
– Значит, идем слушать нашего тезку, да? Если учесть, что мама тоже Александра, то полный набор.
– Мама?
– Я не говорила? Александра Алексеевна, Тёть Шур, как в песенке бывших зеков.
Мы в первом ряду бельэтажа. Все кругом забито. Все возбуждены. Пахнет духами, пудрой.
Саша в красном платье с глубоким вырезом. Золотая цепочка на шее сзади чуть опускается к спине. Спины всей не видно, а жаль, там все такое же, наверное, как и ее шея, белая с розовым от электрического света огромной люстры под потолком, рожков светильников позади нас, на стене.
Она по-новому убрала волосы, вверх зачесала, шея теперь открыта вся, опять тянет сказать – высокая, как и про пальцы раньше.
Свет плавно гаснет. Занавес поднимается. На сцене в ярком свете у черного рояля высокий, бледный, немолодой человек в черном фраке с атласно-черными лацканами и с белой розой или хризантемой с левой стороны.
Отчетливо говорит, мягко раскатывая, как будто по-французски, букву Р:
– Чужие города.
Маленький лысый человечек за роялем осторожно трогает клавиши. И очень музыкальный голос, это сразу чувствуешь, с переживанием, немного слащаво начинает:
Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева…
Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города,
И живут другие господа.
Мы для них чужие навсегда…
Обвал аплодисментов. Певец делает шаг вперед и благодарно опускает бледное лицо. Видны залысины, белые большие уши.
– Дядя хороший, – говорит Саша, прислоняясь теплой щекой. – Только изломанный. Что-то в голосе, в руках такое.
– Мадам, уже падают листья, – объявляет певец новую песню.
В партере легкий шум и хлопают. Наверное, это знакомо многим с каких-то давних пор.
– Мадам, уже падают листья, – не то поет, не то проговаривает Вертинский. – И осень в смертельном бреду…
И бедная ломака, еще девочка совсем, обманутая его игрой, сцепляет пальцы рук, идет на полусогнутых, на каблучках, делает одолжение:
Вас слишком испортила слава,
А впрочем, вы ждите, приду.
В публике смех и тихо хлопают. На сцене, как в кино, сменяются картинки.
Он:
Я жду вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном огне,
Когда же вы скажете слово,
Когда ж вы придете ко мне?
И взгляд опуская устало,
Шепнула, как будто в бреду…
Она:
Я вас слишком долго желала,
Я к вам никогда не приду.
Опять взрывается овация. Вот в этом городе, где все какое-то натруженное, серое, где сапоги даже в театре, и где погоны, кители и ватники (ватоўкi), где работяги, шоферюги и камвольщицы, тонкосуконщицы, где тетки в кацавейках скалывают лед тяжелыми ломами на тротуарах у тортов новых кварталов, здесь с полуслова понимают какой-то пляж, осенний бред, кривляние и картавость, здесь с полулета ловят что-то благополучное и утонченное, заморское, капризное, предназначенное совсем, совсем другим.
Антракт.
– Он все показывает, всех, про кого поет, а я не знала. У нас там, возле Магадана, все вот такое, пластинки, музыка, все иностранное, разные знаменитости, все это долетало быстрее из Харбина, из Шанхая, из Японии, чем из Москвы. Дальний Восток же.
Она выговаривает это ЖЕ, как младшая школьница, как ШЕ.
– У нас там Вадим Козин в клубе выступал, он говорил, что песне лучше не додать немного, каждый свое подставит. Не выкладываться, слушатель сам услышит, что прожил. А вот Вертинский… я его представляла, а теперь увидела.
– Похож?
– И да, и нет.
– А что не нравится?
– Не знаю. Что-то вот женское такое. Я понимаю, он артист, а все равно.
Пошло второе отделение концерта.
Не заходим. Двери открыты, в них стоят. Все слышно:
– В парижских ресторанах, в вечерних балаганах, в дешевом электрическом раю…
– Отсюда тоже слушать можно, – говорит она.
– Гремят, гудят джаз-банды, танцуют обезьяны и бешено встречают рождество…
Топаем в просторном фойе своего бельэтажа, к буфету не спускаемся.
Фотопортреты певцов, певиц и балерин, балерунов и дирижеров. Лариса Александровская.
– Вот ваша Перапёлачка, как говорят по радио, мне нравится.
Еще портреты, лица. Исидор Болотин и Николай Ворвулев, Семен Дречин, Галина Николаева и Татьяна Коломийцева…
Не сговариваясь, поднимаемся выше по широкой лестнице с каменными перилами, как в ГУМе, с красной ковровой дорожкой и медными прутьями под ногами.
Теперь мы на паркете самого верхнего фойе, перед балконами.
И сразу в дальний боковой тупик.
Диван, два кресла… И, не говоря ни слова… Не дает рта раскрыть, а и не нужно… Губы настойчивые, откровенные, вся плотно, сильно прижимается, руки на шее, вот уже под пиджаком, сумочку швырнула на диван.
Двери балконного яруса открыты, в них стоят, внизу пустили безбилетников, сняли контроль, пришли сами послушать.
– И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт…
Ничего нет вокруг, не существует, нет нас самих, себя не помним.
Когда удается дышать, в шутку подтягиваю шепотом голосу из зала, поющему на бис:
– Мадам, уже песни пропеты и нечего больше сказать…
Тесню ее к дивану.
– Только не тут! Пойдут – и не заметим.
Толкаю за диван, она кладет руки на бархатную спинку. Смотрит вперед, держит обзор перед собой, следит за спинами стоящих в дверях на балконы.
Боится…
Под красным платьем шелковый розовый пояс, резинки на нем держат чулки с ровными швами…
Теперь быстрее выбраться из этого закутка. Вниз, в гардероб.
На лестнице ни души, держимся за руки.
– Ты сумасшедший.
– Точно. А как ты?
Молчит. Ладонь у нее теплая и влажная. Бормочет:
– Запомнится… этот театр. Как храм был для меня, когда попала сюда с Колымы…
Внизу вдруг останавливается и ни с места, уперлась, как коза.
– Давай, Саша, пока народ не повалил.
Молчит, переминается, ни ну, ни тпру.
– Ну что ты, Саша?
– Писать…
XII
У Теодора Березкина, видно, что-то есть такое в характере или в судьбе, в житейских линиях его семьи, такое вот умение или везение торчать на форпостах, впереди чего-то.
В десятом нашем классе он занимает первую парту, один, без соседа, в правом ряду, ближайшем к двери. То ли для экстренной эвакуации на переменку, то ли для экстренной посадки при опоздании. А на улице Энгельса он с родителями живет в доме, который не обминешь, когда идешь во двор нашей Африки.
В комнате, где он живет, есть пианино, старое-престарое, с потертыми желтыми лапками педалей, с тысячью точек, дырочек, оставленных шашелем на когда-то черном, а теперь непонятно какого цвета лаке.
И вот однажды эта рухлядь ископаемая заиграла!
А было так. Слоняемся по улицам и по дворам, тоскливо. И кто-то опять завел надоевшую всем песню о подработках Кима Левина, музыканта нашего, рыжего математика, в кабаках по праздникам. Как раз и сам Ким с нами в эту минуту, упоминает про слоуфокс «Зима», а мы еще не слышали его. Тут же берем Кима под белы ручки. Тут же ведем по направлению к Африке. И тут же соображаем, что есть форпост Березкина, что незачем искать другое пианино. Да и не найдешь, незачем углубляться во дворы.
Тед дома. Все рассаживаются. Человек пять на диване, на самом сиденье и на круглых валиках по бокам, на стульях трое, Тедя на кровати. Итак, мы с Колей, Алик Кузнецов, Олег Красовский, Ленька Баруха, Геман, он же Люсик Энгельгардт и Алик Иванов, и Миха Порох. Лявы опять нету, Сондера тоже.
Ким садится на табурет у пианино. Тедя сгребает хлам с крышки и поднимает ее, вежливо, по-джентльменски.
Ким начинает.
Трудно сказать, что чувствуешь, и чувствуешь, что трудно что-то не сказать. Ритм мягкий, круглый какой-то и не медленный. Не очень-то бодрящая, но плавно уносящая куда-то, чуть грустная мелодия с повторами отдельных музыкальных фраз и с вариациями, близкими к главной теме. И многое, и многое другое… Видишь себя вдруг лет через десять или двадцать: уже немолодой, в темном костюме, за роялем, с сигаретой в углу рта, а на рояле бокал вина, сбоку и сзади слушают, сидят, стоят, танцуют… Что за профессия – джазовый пианист – чудесная такая, не вытыркаешься, не лезешь всем в глаза, не лупишь в барабаны, не гремишь медью труб и не встаешь, чтоб тебя видели, не тыкаешься мордой в микрофон, а всегда в центре; рояль раскрыт, крышка, как парус, поднята, плывешь по волнам музыки со всем оркестром, со всеми разными людьми, плывешь, а время останавливается, исчезает, тогда что хочешь, то и видишь, чувствуешь, сейчас и намного лет вперед, здесь и везде…
И что-то подсказывает, что так не только в музыке джазовой, не только в пении, что мы привыкли слышать с пластинок, но и вообще, в музыке всякой, в операх, концертах, маршах, даже в частушках, в том, что звучит из громкоговорителей на улицах, на стадионах перед матчем или в перерыве, на вокзалах, в парках, в середине дня по радио из домашних репродукторов.
А Саша говорила, в Магадане, в центре, на столбах приделаны такие рупоры, из них утром и днем слышны концерты, всякая музыка, марши в праздники, передают парады из Москвы и демонстрации. Там, в центре, есть и деревянные, из досок тротуары…
Музыка – это жизнь, ах-ах, в ней вся природа, так учат в школе, ах и ах, в пионерском лагере. Слышите, дети, вот идет гроза или война, а вот журчит ручей, вот осень, засыпают деревья, листопад, а вот опять весна, ах-ах, все звонко оживает…
Дичь! Музыку растолковать и показать нельзя. Она сама не растолковывает ничего и не показывает. Она внутри меня, все, что я чувствую, сейчас, давно, вчера и завтра. А разве можно дать это знать другим? Тут единичный случай, тут что-то только мое, пусть странное, смешное, стыдное или красивое, привычное или несбыточное.
Но вот как раз несбыточного ничего и нету в музыке; в ней все возможно, мое в ней происходит как-то наперед, а я еще до этого даже не дожил. Она мне говорит: ты хочешь, чтобы было так вот или так, и я не отвечаю, только слушаю, но чувствую, что так и происходит, когда и где, не знаешь, и не надо, но это есть, потому что это хорошо, или тревожно, беспокойно, что-то делает, что-то в тебе меняет, пусть и на несколько минут, и что-то добавляет к тому, что уже есть в тебе… А этого никто не замечает, и так еще и лучше.
Мы притворяемся, что еще школьники. Когда ж он кончится, этот 10-й и последний?.. Это есть наш последний и решительный бой, поют по радио. Кто придумал? Кому помешало бы без всякого боя?
Музыка ответить может и на это, но ответ будет только для меня. Да, музыка – это единичный случай. У Маяковского наоборот, мы проходили, но будет, наверняка, и на выпускном экзамене, в мае, у Маяковского наоборот, единица ноль, единица вздор, голос единицы тоньше писка, с ней, мол, справится один, любой, и даже слабые, если двое.
Ну и поэт! Иногда просто здорово, чего уж тут вилять. Там, например, где:
Мария, дай! Тело твое буду любить,
Как любит инвалид свою единственную ногу
...................................
Это было, было в Одессе,
Приду в четыре, сказала Мария,
Восемь, девять, десять.
Слышу, как больной с кровати, спрыгнул нерв…
Вошла ты, резкая как нате,
Муча перчатки замш.
Знаете, я выхожу замуж.
Что ж, выходите,
Видите, спокоен как?
Как пульс покойника.
Вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть!
А я видел, вы Джоконда, которую надо украсть.
И после этого всего: Ваше слово, товарищ маузер… Кастетом кроиться миру в черепе… Моя милиция меня бережет…






























