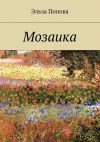Текст книги "Сцены из минской жизни (сборник)"
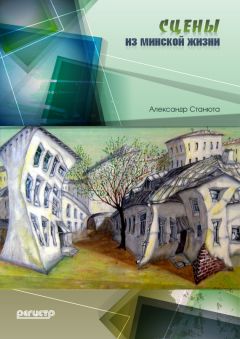
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Здесь, в кухне, темень. И что-то держит, держит, чего-то ждешь в этом подслушивании. Чтобы отбросить подозрения? Или чтобы подтвердилось?
– Ну дай мне. Дай хоть один раз.
– Вадим Петрович, умоляю, перестаньте. Успокойтесь. У вас семья, вы же отец двух дочерей…
– Не заставляй, чтобы я силой… Ну! Ну дай хоть глянуть на нее. Дай ее посмотреть. Ну покажи ее мне, подними халатик… Пушистая, наверное, рыжуля, конечно. Запомню, буду потом утешаться там, на зоне, когда срок определят.
– Пустите! Закричу!
– Кричи! Всем уже все равно. Скинули Сталина и рады, что бардак… Разве ты еще целочка? Или сберегаешь для него? А он что-нибудь может?
– Васенька! Колобов! Вася, соседушка, зайди ко мне сейчас, голубчик, электропробки вырубило! А у меня утюг…
Наверное, форточка открыта, чей-то мужской голос со двора:
– Иду, иду!..
Со злостью, стреляя дверью, проносится Сашин страдалец, ничего не замечая перед собой.
Потом неспешно бухает сапогами, поднимаясь на крыльцо, электрик Вася:
– А где у вас щиток?
XXXІX
Опять автобус, и теперь назад, с северной окраины города на старый обжитый юг, где и вокзал, и поезда, и бесконечные схождения и расхождения, переплетения рельсов, и Товарная станция, а за ней Аэропорт и улицы Аэродромная, Железнодорожная, Суражская, Красивая, Либавская и Каменная, а дальше и левее, еще южнее, улица Артиллеристов и Велосипедный, Первый и Второй переулки, и два базара, Червенский и Суражский, вправо от Бетонного моста, за темно-серой глыбой Пенициллинового завода.
…Или любимый сквер, мы с Сашей называем его театральный, между Домом офицеров и театром. Может, сидим возле фонтана с зелеными лягушками из камня и с мальчиком и лебедем, пускающим из клюва воду, как из брандспойта.
…А может, мы с ней, как всегда в хорошую погоду, сидим себе, посиживаем на солнышке на скамейке стадионной чаши, слева или справа от центральной Западной трибуны, на переходе к Северной или Южной. И она говорит:
– А вот когда ты окончишь свою журналистику, будешь в журналах писать? И будешь этот дурацкий значок носить на пиджаке, университетский ромбик, эту деревенскую игрушку? А может, вот было бы здорово, может, ты будешь писателем? Ведь вас же учат там и на писателей, не только для газет и радио?
– Ну, размечталась… Тормози.
– И может, ты когда-нибудь напишешь…
– Что?
– Как ты меня в театре… тогда. Как мы любились в Оперном, когда Вертинский пел.
– Ну, этого ж не напечатают.
– А если вдруг, когда-нибудь…
Так может, взять и дать, наконец, волю тому, что тайно представляется, но всегда смутно, без начала и конца, неведомо зачем и почему?.. Будто бы тихий, без солнца, без ветра, серый день, как в сентябре, плащ не застегнут, нараспашку, костюм, легкая новая обувь, тротуар из гладких светлых плит. Вперед, вперед, но не спеша, без цели, ни о чем связно не думается, но все замечается. Витрины магазинов, мелких лавочек, кафе, детские голоса, шуршание автомобильных шин, запахи прелых желтых листьев на асфальте, пива, кофе и сигаретного дыма.
А где все это? О, неважно, чувство такое, будто бы закончил, вчерне, приметал все, что снилось и мерещилось. Никто, никто не знает этого, но и не надо, чтобы знали, чтобы спугнули, сглазили. Поймал свои слова, уже не уплывет, не вырвется и не растает, все так, как и хотел. И ничего теперь нет лучше этих минут. Идешь себе один в чужом городе, внутри его жизни, а она тебя обтекает, как река, никого тут не знаешь, и тебя здесь не знает никто.
А что, если это Киев в августе, когда уже без нее возвращался из Крыма, торопясь к 1-му сентября, на лекции, и самолет вдруг без расписания, пошел на посадку в аэропорту Жуляны. Здесь часа три надо было торчать, и тогда троллейбус, центр, Крещатик; на главной площади каскады ступеней вверх, к зданию дворцового вида. Тут ресторан «Украина» на первом этаже.
Пусто, прохладно, начало дня. Бесшумно, как из ничего, из воздуха у Кио на арене, возник официант, и, конечно, котлеты по-киевски, и, конечно, без всякого вина, ведь она уже в Минске. И никого вокруг, а в голове звучат абзацы из оставленного в одной редакции рассказа, первого в жизни. Это, лежащее пока в минской редакции, это же может выйти в печать, на глаза всех! Эти строчки, страницы сейчас, вот тут повторяешь, проговариваешь, и ничего не хочется ни сократить, ни исправить, все правильно, все так и надо!
XL
В автобусе не протолкнуться. Висишь, вцепившись в поручень над головой. Справа окно.
Плавно уходит назад театральный сквер, как Саша его зовет. Он ждет зимы, голый насквозь, и виден голый мальчик с лебедем. Из этого сквера, ближе к проспекту зябким темным вечером удобно было сторожить автобус номер пять с Алиной и Сашей. Остановился он перед фасадом профсоюзного дворца. Там, на фронтоне этого дворца, цементные рабочие, студенты, инженеры. Всегда глазами ищешь и находишь Жору Клебанова с пряменькой спинкой, это он позировал для каменного фэзэушника… Алина с Сашей выходят из автобуса, они не знают, что за ними кто-то наблюдает. Они и вечер, и проспект, и незнакомцы: кто подойдет, кто вдруг захочет познакомиться, что будет потом, как все пойдет, чем кончится? Вот ради всего этого они сейчас живут, по крайней мере, так читаешь на их лицах, а может, только хочешь такое прочитать, ведь далеко же, далеко до них сейчас, не разглядеть как следует. И видишь только то, что хочешь. Видишь издалека, и всякое мелькает, думается, представляется…
У цирка штурмом берут наш ЛАЗ киношники с треногой киноаппарата. Две девушки, сидящие обнявшись, шипят и фыркают:
– А эти оборванцы едут снимать свое кино…
Мост, внизу Свислочь, кинодеревяга «Летний»; на первом курсе, в фильме «Мексиканец» здесь и увиделась впервые Таня Самойлова, она напоминает Сашу, только бы волосы не темные… Круглая площадь… Физкультурный институт… И по Якуба Коласа… Скоро, после Калинина, пойдет глухой забор, это военный городок.
Стоп, красный глаз на светофоре. Но милицейский газик, мигая синим фонарем на крыше, рвет что есть духу справа от нашего автобуса, залез даже на тротуар, идет на красный и проносится вперед… Белые руки на руле, а в пальцах левой зажата сигарета, незажженная. Профиль лица мелькнул и все, не различить.
И вдруг как током: это же он, это же к ней он, к Саше!
Когда автобус, наконец, подходит к городку геодезистов, в окне виден этот газик, он на обочине, возле кирпичных ворот, по-прежнему мигает синим огнем фонарь на крыше, а за рулем никого нет.
Как будто кто под дых ударил… Хочется двинуть ногой в спины выходящим из автобуса. Быстрей, быстрей же!..
Теперь через Логойский тракт промчаться, наперерез машинам. Одна «Победа» тормозит и пошла юзом, другая встала вкопанной. Но МАЗ с прицепом, с длинными досками, ползет, ползет…
Вот и ворота. Вадим Петрович в милицейской куртке и фуражке метрах в сорока, возле крыльца. Скрывается за дверью, значит, она не заперта, а почему? Но тут же вылетает, бежит за правый угол дома.
Крыльцо, распахнутая дверь. Значит, там пусто?..
Саша с черным зонтом над головой, сеется мелкий дождь, она выходит со стороны сараев, из-за дома, слева, с ведром, из него торчат щепки для растопки. Остановилась, что-то раскапывает под дальней голой черной яблоней.
Крикнуть ей?
Из-за дома, видно, обежав его, вдруг вылетает этот. Саша выпрямилась и пошла. Машу ей рукой, видит, или зонт мешает? А этот малахольный настигает ее сзади, поворачивает к себе, прижимается, одной рукой удерживает ее за плечи, другой что-то делает у себя на груди под курткой… Взрываются земля и небо, острый и рваный, красный с белым огонь, и две большие тряпичные куклы отбрасываются в разные стороны, безвольно, некрасиво. Теплая волна воздуха толкается в лицо, в глаза.
Едко запахло, сизый дым.
В земле воронка, пахнет каким-то горелым веществом.
Направо лежит он. Спеченая черная головешка вместо головы, а вместо груди и живота…
Теперь надо смотреть в другую сторону, налево, на то, что лежит там…
2010 г.
Сцены из Минской жизни
Повесть
Шчаслівыя людзі, якія ўбеглі аб бурнага мора
і ў прыстань увайшлі.
Шчаслівыя людзі, якія перамаглі бяду
Непадобныя людзі адзін да другога ні шчасцем, ні сілай.
Мноства людзей ёсць – і мноства надзей.
Іншыя шчасцем канчаюць, іншыя ж гінуць.
Хто сёння шчасліва жыве, таго я шчаслівым лічу.
Глава первая
1960 год.
Стадион, парковая его часть. Заснеженные площадки и аллеи черных деревьев. Ряды остриженных кустов с белыми шапками. Шум города сюда не долетает. Тихо.
Уже недели две местная футбольная команда тренировалась на открытых теннисных кортах, и после лекций он приходил сюда каждый день.
Он смотрел, как игроки, растянувшись неровной цепочкой, сперва пробегали несколько кругов по неплотно утоптанному снегу, почти бесшумно, и как перед каждой фигурой в синем тренировочном костюме равномерно появлялись свои облачка пара, – корты, обнесенные проволочной сеткой, со всех сторон плотно обступали высокие тонконогие деревца туи, и ветра здесь почти не было. Пока они после пробежки разминались, разбившись на группы, туго накачанные желтые и серые мячи лежали в середине площадки и выглядели на снегу очень легкими.
За кортами, в аллеях, деловито занимались своим ежедневным моционом пенсионеры. В их уединенном, сосредоточенном шагании было что-то всегда смущавшее его, какое-то спасительное, но невольно показательное прилежание, – при встречах он отводил глаза. Они же ни на кого не глядели: казалось, они даже и глазами слушают себя, свое дыхание, пульс, сердце, – слушают и следят, следят…
Но он знал, что когда послышатся тугие, глуховатые в снегу удары по мячам – буп, тбуп, – размеренное движение пенсионеров по намеченным маршрутам прекратится, они как бы случайно, между делом сойдутся вместе возле кортов и там уже останутся до самого конца, будут стоять, притопывая валенками в калошах, вынимая носовые платки и негромко переговариваясь. И в независимости их привычного сообщества что-то опять покажется подчеркнутым и нарочитым. Может, как раз та снисходительность во взглядах и улыбках, которыми они скрывают бодрящее их удовольствие от близости к азартной, резкой силе, к той карусели, понукаемой свистками тренера, истошно-умоляющими воплями: «Ну, вышел, вышел на него!» – где молниями мечутся мячи, разрывами взлетает под ногами снег после ударов и ходит ходуном, визжит железная заржавленная сетка.
«Будут стоять здесь, в этом уголке, среди большого города…» – подумал он и вдруг легко представил, как бы увидев сверху, в расширяющем пространство ракурсе: вот эти корты, и мелькание мячей, и рядом – горстка неподвижных фигур в черных пальто, и стадион, весь белый, пусто стынущий, его глубокий, рифленый трибунами овал, а дальше – не догадываясь, не подозревая о странной жизни тут, на скрытом в самом центре островке, – глухо, натружено гудит и будто мерзлым чугуном скрежещет на трамвайных поворотах Минск, ноет моторами грузовиков, что, звякая цепями, тащат тяжелые покорные прицепы по улицам, которые давным-давно здесь звались и Гарбарной, и Извозной, Либавской или трактом Старовиленским, потом – Осоавиахимовской, Слесарной, и вот теперь уже – Гвардейской, Сталинградской… За стадионом в сизом низком небе видны черные толстые трубы ТЭЦ, а дальше, в той же стороне лежат огромные заводы с их новыми, похожими на небольшие города поселками – это все тянется сплошной громадой один и тот же город как продолжение себя не только на местности, но и во времени, в своем другом каком-то возрасте. И там уже не слышится эхо вокзала, которое в безветренные дни все еще катится по центральным улицам, как отцепившийся вагон, пока не остановится, не смолкнет, толкнувшись раз-другой у магазинов, где звонко взлязгивают молочные бутылки, когда их грузят в автофургон, откинув наверх заскорузлый и твердый на холоде, как толь, брезент.
Сколько всего, подумал он, должно было произойти тут, в этом городе, сколько должно было перемениться, чтобы теперь вот так, не объясняясь, не оправдываясь, уживалось в нем такое разное, со своим правом на значение и смысл: и почти школьный звонок башенного крана с близкой стройки, и равномерное кружение стариков в аллеях, и эти глуховатые удары по мячу среди зимы…
Прошло минут пятнадцать или двадцать. За сеткой, видел он, все уже разогрелись и работали с охотой. Уже не слышно было ни ленивого полупритворного нытья, ни капризных жалоб на якобы незалеченные травмы – только выкрики вратарю, чтоб обратить на себя внимание, и хаканье в момент удара. Приглушенные среди деревьев и снега, короткие трели тренерского свистка вспарывали тугой холодный воздух все реже и реже.
Беляева сегодня на тренировке не было.
Можно идти домой, подумал он. Нели сегодня тоже здесь не будет. Скорее всего, они сейчас где-то вдвоем. А он, такой вот умница, опять пришел. Как-то в начале октября, теплым солнечным днем бабьего лета он их случайно увидел на пустых трибунах: она держала на коленях аккуратно сложенный пиджак Беляева, а сам он, сняв туфли и вытянув ноги на скамейку нижнего ряда, шевелил в носках пальцами. И он тогда понял, что они давно вместе, а может, и не очень давно, но старался убедить себя, что это уже не имеет для него никакого значения…
Он двинулся по тропинке в снегу вдоль сетки. Впереди плотно чернела группка уже занявших свою позицию пенсионеров. Если хоть двое-трое из них топтались тут, он не казался себе чересчур заметным для Нели, торчащим здесь в одиночку, специально из-за нее. Можно было кивнуть ей и не разговаривать, если она не хочет. Только следить украдкой за выражением обращенного к площадке ее лица, с чуть припухлыми, какими-то чуждо-алыми от помады губами в поднятом воротнике старенькой цигейковой шубки… Следить за этим выражением, преданным и счастливо-зависимым и восхищенным, – и видеть, как легко и радостно она не помнит, просто и знать уже не знает ничего о том, что было прошлым летом. Если, конечно, это было, – самому не верится. «И никаких следов, и никаких следов…»
Он сделал еще несколько шагов и тут увидел, что Вадим Беляев стоит среди обступивших его черных пальто, и с ним там еще кто-то. Тогда он подошел и стал вполоборота к кортам, будто с начала тренировки так и стоял, сам по себе.
В просвете между спинами он видел и Беляева, и того, другого. Тот был гораздо ниже ростом, в меховой шапке пирожком, надетой набок щегольски неглубоко и осторожно, чтобы не смять прическу. Он улыбался и щурился, зажав в углу рта папиросу, и розовато-желтой полоской отсвечивали золотые коронки зубов. Был он заметно старше Беляева, кожа его худого резкого лица в улыбке трескалась сухими, острыми морщинами, особенно у глаз и возле рта, и тогда в лице еще сильнее проступала усталая, с блатным налетом опытность.
Он знал такие лица.
Вадим Беляев был в кепке с большим мягким верхом и в сером пальто. Привычно и быстро вглядевшись в его знакомое, чистое и порозовевшее на холоде лицо, он с завистью отметил, как идет ему светло-серое, в крупную клетку кашне, и стал прислушиваться. Говорили о прошлогодней игре в Куйбышеве с «Крыльями Советов».
Он слушал и в который уже раз пытался вызвать у себя ненависть или хоть раздражение, злость к этому высокому красивому парню, с которым никогда и слова не сказал, но которого знал уже так, что ни за что не спутал бы ни с кем из тысячи похожих, даже издали.
Он знал его походку, жесты; сидя на трибунах, умел заранее и безошибочно представить, как он сыграет в тот или иной момент. В прошлом году, случайно оказавшись рядом с ним и игроками их команды в фойе кинотеатра «Беларусь», где мать работает администратором, он услыхал и хорошо запомнил, как Беляев говорит: чисто по-русски, быстро и в то же время как-то растягивая «а» в словах, будто нараспев, – непривычно для их города.
Он знал, что Беляев старше его лет на пять. Этот парень вызывал в нем интерес и нравился – как нравится, бывает, человек, с которым даже и знакомиться не собираешься: это не нужно – просто приятно видеть его, узнавать в толпе и отличать среди других везде, где только встретишь. Так было до тех пор, пока не увидел его с Нелей.
Сам он тогда еще не смел к ней подойти, заговорить, хотя она жила в его квартале, – мучаясь робостью, кивал ей как соседке, а потом долго шел следом, боясь, что она может обернуться, и в то же время этого хотел. Высматривая Нелю вечерами на их улице, он увидел однажды, как Беляев провожал ее домой. Той же весной, через неделю, кажется, он выследил ее, когда она спешила к бассейну Дома офицеров, и, обманув дежурную, забрался на балкон.
Дыша там теплым влажным воздухом, пахнущим хлоркой, он стоял, прислонясь к запотевшей колонне, и старался принять равнодушный и независимый вид, а чувство было такое, точно все тут, на балконе, даже и школьники из плавательных секций, сразу же поняли, зачем он оказался здесь, из-за кого пришел. Но когда Неля появилась на краю бассейна, рослая, в черном купальнике, без шапочки, с мокрыми после душа волосами, отливающими тусклой желтизной, у него заныло в груди и он выключился из всего, даже не слышал больше гулких, как-то по-банному звучавших голосов и шумных всплесков. Такой он видел ее в первый раз.
Не отрываясь, с полчаса глядел он, как Неля плавала, как сильными, упругими толчками двигались под чуть зеленоватой водой ее ноги с нежно розовевшими пятками, как равномерно опускалась и снова появлялась над водой ее мокро блестевшая голова, похожая теперь на голову выныривающего котика или морского льва. Но оказалось, что не он один пришел сюда смотреть на Нелю. Он вдруг заметил слева от себя Беляева, и с ним был кто-то узколицый, в малинового цвета пиджаке, почти таком, какие были на музыкантах Эдди Рознера, недавно приезжавшего сюда впервые после войны. И вот он даже и сейчас еще отчетливо мог вспомнить ту ухмылку, с которой этот, в пиджаке, что-то нашептывал тогда Беляеву, поглядывая вниз, – а Неля уже выходила из воды, – ухмылку скрытую и осторожную, но с явно нехорошим, нечистым смыслом. Беляев же не отвечал, только смотрел на Нелю – спокойно и уверенно, будто уже имел на нее право.
Сейчас, стоя у сетки, ограждавшей корты, и поглядывая на Беляева, он думал с горечью и острой стыдной завистью: «И вот она – с ним».
А ненависти к нему почему-то не было. Он чувствовал, что скорее мог бы возненавидеть вот этого его морщинистого приятеля с золотыми зубами – очень уж он напоминал того, в малиновом эстрадном пиджаке, особенно когда усмехался.
Начали мерзнуть пальцы на ногах. Но тут Беляев и его приятель собрались уходить, и тогда он тоже решил идти домой, только немного выждать, чтобы не получилось, будто он идет за ними следом. Беляев, видно, был сегодня освобожден от тренировки.
Выйдя из ворот стадиона, он увидел, что они свернули влево, в сторону гостиницы, и стал переходить улицу. Жесткий, колючий ветер дул в лицо. Он вспомнил, как сейчас Беляев рассказывал пенсионерам об игре минувшего сезона в Куйбышеве, и словно бы увидел все это: серая завеса дождя, раскисшее поле, и ничего не выходит, все огрызаются и злятся друг на друга, и сам Беляев, устало опирающийся о штангу перед угловым ударом возле их ворот – уже не легкий и светлоголовый, а в тяжело набрякшей от воды и пота майке, с грязными, прилипшими ко лбу волосами, и даже номера не видно на спине, не то что капитанской повязки, – а тут опять нужно подстегивать, кричать своим, чтобы скорей оттягивались назад и стерегли настырно лезущих чужих защитников, уже почуявших свой шанс… Он уже столько раз видел похожее или точно такое с трибун Республиканского или в парке имени Горького, со скамеек древнего «Пищевика»…
В какое лето они с Мишушей стали ходить на стадион, сразу не скажешь. Скорей всего, была уже та жизнь: девятый класс, все как-то по-особенному закружилось, полетело и чем-то новым, неизвестным стало овевать.
Пошли уже компании, записочки-записки, серые кепочки с коротким козырьком – знаки отличия своих, из городского центра, от прочей публики, особенно жлобов.
Дни после школы, вечера на улицах, в подъездах запахли остреньким дымком неведомой свободы, не то запретной, не то разрешенной с занудливым условием, с нытьем. Весной лихие сквозняки на лестничных площадках, как сумасшедшие, били стекла (то ли посуда так со звоном билась, падая из маминых дрожащих рук, – если бы к счастью!). Веяло риском, так и пронимало этим колючим холодком. Казалось, вот-вот начнется что-то, чему уже не будет никогда конца. И страшновато делалось, и – не остановиться. Будто пустили карусель, и не сойти.
И тут как-то Мишуша, дядя Миша, мамин брат, позвал его с собой на футбол.
Бурлящий, яростный круговорот стадионной жизни и оглушил его, и показался уже чем-то знакомым. Всю целиком эту жизнь как следует увидеть и понять не удавалось, хотя она как навалилась еще там, на дальних подступах к трибунам, возле касс, так уже больше и не отступала, со всех сторон теснила и несла, держала, ахала над ухом, обмирала и ярко мельтешила – даже начинало рябить в глазах… А в перерыве между таймами перед трибунами понеслись что есть духу бегуны (крепкий и крупный хруст иссиня-черной гаревой дорожки под шипами), а потом музыка из репродукторов, и старый джазовый мотив вдруг неожиданно волнует, будоражит, а вместе с этим чувствуешь и бешеный напор еще неясной, непонятной новизны, и что-то грезится, мгновенное, летящее, что-то зовет, зовет, и ощущаешь сладкую тревогу, решительность, и для всего открыт, так много любишь, все на свете можешь…
Потом Мишуша трогает за локоть и говорит: «Смотри в штрафную, Юра, когда корнер… Ты не на угол, а в штрафную… Видишь, что творится?»
А здесь, в нижних рядах, вблизи от поля, прохладный резкий запах сочной травы, раздавленной ногами игроков, и полукруг дальних трибун напротив уже плывет в синеватой папиросной дымке уходящего дня, хотя предвечернее солнце еще ярко золотит верхушки тополей над краем стадионной чаши.
И в следующий раз все повторяется: опять Мишуша, щурясь, в азарте закусив губу, бросается в кипящую толпу у касс и пропадает, и уже кажется, что все, не вынырнет. Как вдруг: рука над головами и билеты – «Юра!» – ладонь горячая и мокрая, желтые смятые бумажные полоски – есть!..
И давка на контроле, лихорадка, пронзительные милицейские свистки. Мишуша – сама сдержанность, порядок; галстук веревочкой, соломенная вежливая шляпа. И красный, как из бани, контролер во взмокшей тенниске, выставив синюю татуированную руку, злым и довольным от чего-то голосом: «Не напирайте! Дайте ж человека пропустить!» И они быстренько протискиваются мимо него в дыму, в запахах пота, выпивки и семечек.
Потом, когда все кончится, – назад, в тесном потоке медлительных, размякших спин, и кажется: вот этот и вот тот уже тебе знакомы, и сам готов уже с любым заговорить.
А день уходит, и скоро вспыхнет свет матовых шаров в густой зелени скверов, и теплый свет в раскрытых окнах (чей-то там легкий, быстрой тенью, силуэт, задернутая занавеска), – скоро везде будут гореть огни.
Но не сейчас. Сейчас еще вот этот мягкий переход, ни день – ни вечер: воздух сиреневый, тени сгущаются, жара спала; словно очнувшийся после оцепененья, звенит трамвай, и с проводов спадают медленные огненные хлопья…
Или короткий дождь; они пережидают где-нибудь под аркой, а потом он провожает Мишушу в сторону вокзала и там, купив перронные билеты, они устраиваются под полотняным тентом возле первой платформы. Мишуша пьет свое пиво и курит, очень охотно, даже как-то жадно вступая в разговор с незнакомыми людьми, разбирая с ними и смакуя разные моменты недавней игры.
Но всегда кажется, что он слегка подделывается под других, спешит поддакивать и соглашаться, как будто в чем-то виноват, или же помнит, что чем-то отличается от них и беспокоится, чтоб эта его непохожесть не была заметной, чтоб разговор и дальше шел, как начался… А рядом прохаживаются в ожидании поезда встречающие, мокрый асфальт отсвечивает бликами огней, и все станционные запахи слышны в прохладном, свежем после дождя воздухе отчетливо и остро…
Откуда было знать, что все это заполнится вдруг ею, Нелей, и станет вместе с ней чем-то одним, понятным без слов, будто всегда и было так, – только не думалось, не замечалось. Да и сама она – так выступить из всего прежнего, привычного, обыкновенного: видишь, не видишь – все равно всюду она… Жила всегда, сто лет, на той же улице: зимой мелькала в магазине в большом, концами на спине завязанном платке, с авоськой, летом носилась по дворам, когда темнело, сзывая своих меньших братьев и сестер, – светлая челка на глаза, мелькает забинтованная щиколотка, точно второй белый носок не успела натянуть… (Может, и думалось когда про ее ноги, про колени, только совсем не так, как вот теперь, не так). И вот уже – возле кино, с каким-то морячком, совсем чужая, незнакомая, как если бы надолго уезжала, – и поздоровалась серьезно, точно старшая, точно хотела что-то дать понять… И уже раз за разом, когда попадалась на глаза, что-то такое чувствовалось в ней, странно притягивало и смущало.
Шурка Волчок – кажется, он? – первым сказал, что ее видели на танцах в Доме офицеров. А потом школу то ли совсем бросила, то ли сменила на вечернюю.
Все, что было с ней связано, стало вдруг как-то само собой узнаваться. И то, что ее мачеха, Кира Игнатьевна, опять уехала куда-то и что опять у них был скандал, и то, что Неля одолжила денег у кого-то из соседей, а выпивший отец кричал потом, чтоб ей давать не смели, угрожал… Только не думалось об этом почему-то, а думалось, как плавно округляется книзу ее лицо, как видна шея и как слегка наклоняет она вправо голову, когда идет, а темные («пушистые», хотелось говорить) глаза смотрят и весело, и как бы удивленно.
Встречать ее, здороваться с ней уже нравилось. И остро, с чем-то стыдным, волновало все новое, что появилось в ней. Казалось, что она, ходившая недавно, как все они, в девятый, взяла и смело оторвалась от них, вошла во взрослую, без школы, жизнь, уже понятную, но им еще не разрешенную.
И, видно, мать что-то почувствовала (и, как всегда, раньше, чем сам ты успеваешь сообразить и дать себе отчет, – это у них необъяснимое и действует без промаха).
Потому что однажды, как ему показалось, ни с того ни с сего он услышал:
– У них там вся семья такая, что… Если хоть раз тебя увижу с нею – пожалеешь.
Сказала и, сама не зная, обозначила, определила все то неясное, чего и не было еще, не начиналось, но что в тот миг, может, вот именно от этого и дернулось внутри тайной и жутковатой радостью, надеждой, – будто бы только ждало случая и вот дождалось наконец.
Когда свернул после пожарной за угол, на свою улицу, привычно подобрался. Что-то знакомо напряглось внутри, но скоро отпустило. И мимо низкой арки, в вырезе которой, будто сквозь темное нутро трубы, был виден Нелин двор с прикрытой снегом грудой битых кирпичей, шел совсем медленно, не то что видя – заранее каким-то непонятным чувством угадывая и уже точно и спокойно зная, что – нет, опять не встретится, не попадется на глаза, даже и не мелькнет.
А в их дворе стояла старая полуторка, нагруженная торфяным брикетом.
Мишуша, без пальто, с длинно мотающимся шарфом, дергался всем телом снизу вверх, скользил галошами в снегу, стараясь отогнуть обеими руками задвижку борта. А кто-то высоченный, в рыжем кожухе, стоял одной ногой на заднем колесе, вытаскивал шуфель из кузова.
И уже шла от дома мать в накинутом на плечи бабушкином ватнике, в платке, и громко говорила, сдерживая раздражение в голосе:
– Ну, Миша, обожди, откроют без тебя!.. Привез – и молодец, чего так надрываться?..
И была во всем этом такая понятная и приятная будничность чего-то очень своего, родного и всегдашнего, что он почувствовал, как отступает, будто отменяется, все путаное, нерешенное, державшее его в томящем беспокойстве всего лишь несколько минут назад.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?