Текст книги "Сцены из минской жизни (сборник)"
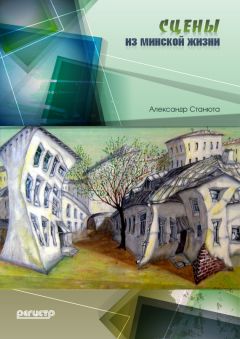
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава вторая
Комната в квартире Антоневичей.
Оба окна выходят во двор. Видны крыши сараев с посеревшим снегом. В черных ветвях берез грузно сидят, словно набрякшие от сырости, вороны. Оттепель.
В комнате серый свет. Все за обеденным столом.
– …и раньше так. От книжек дома не оттащишь за уши, а в школе – тройки вдруг. А был уже десятый класс… Ну что там, в аттестате, могли выставить? Когда-то думала, что на медаль пойдет…
– Черт с ней, медалью, Лида.
– Черт, говоришь? Ну да, тебе и на самого себя махнуть рукою хочется. Я вижу.
– Лида…
– Я вижу, вижу, Миша! Только не хотелось говорить.
– А ты скажи.
– Скажу! Чего ты ставишь на себе все время крест? Вспомни, какой сейчас уже год? Ну, и слава богу. А ты все вихляешься среди людей, как без хребта. Людям, может, и не видно, у каждого свое. Так я же вижу, Миша!
– Лида, ну что ты?..
– Слишком ты мягонький какой-то стал. И ничего, смотрю, тебе не нужно: пусти – повалюся. И эта… Эта доброта твоя… Глаза на мокром месте – выпьешь, не выпьешь – все равно…
Мишуша отвернулся, вскинул голову, смотрел куда-то в верхнее стекло окна. Его кадык опустился, снова стал на место. Мать примиренно, но еще не успокоенно вздохнула:
– Ну, а потом… смотри, от этого, – она легонько вилкой тронула рюмку Мишуши, – еще никому не было добра, сам знаешь.
– Знаю, Лидуся, знаю. И давай прикончим. – Мишуша взрыхлил волосы обеими руками, быстро придвинул ее рюмку, но сперва налил себе.
– Ладно, налей и мне уже чуть-чуть, – мать сделала вид, что ищет что-то на столе и, заметив вопрошающий взгляд бабушки, сказала:
– Хлеба нам хватит, мама? Или мне подрезать…
– Так я сама, сиди, – подхватилась бабушка. – Ты выпей, выпей. И Мише как раз меньше будет.
Она заулыбалась им обоим, очень довольная, что так все кончилось. А он, взглянув на мать, Мишушу и потом опять на бабушку, не мог не улыбнуться ей в ответ – видел, как ей хотелось, чтобы заметили ее ловкую шутку.
Он налил себе в чашку молока. Мишуша ободренно приготовился над рюмкой, мать уже ставила свою на стол, морщась и с плотно сжатыми губами, не дыша.
– Сейчас, Лида, сейчас, – бабушка стала резать хлеб, прижав его к себе, склонясь над ним, – и полбуханки, темно-коричневой, с гладким отливом черного запеченного верха, почти что спряталось в ее переднике, вошло в нее, – и вот оттуда, из самой себя, она подала маме ровный, слегка прогнувшийся посередине ломоть.
Он сделал первый, самый вкусный и большой, холодный глоток молока из своей синей чашки, глядя, как бабушка все нарезает хлеб. «И не порежется…» И вспомнил, как недавно удивился, когда увидел, лежа в гриппу, что она вдруг не то чтобы взобралась, поднялась, а вот прямо-таки взлетела с табурета на край низкого шкафчика у печи, чтобы, вытянувшись, глухо хлопнуть вьюшкой и тут же снова оказаться внизу, – сухонько-легкая, бесшумная, все равно как… «как черт», – хотелось ему в тот момент сказать, но он нарочно повторил про себя дважды, что нет, – как кошка или белка.
«Она еще проворная, проворная…» – подумал он теперь, чувствуя, что успокаивает себя в чем-то, и не желая думать, знать об этом больше ничего.
– …еще б жениться мог, – сказала мать, не глядя на Мишушу.
– А что, а что, я ему тоже говорю, – крутнулась бабушка на стуле и, убрав руки со стола, вся повернулась к маме:
– Лида, я Виктю вчера видела…
– Ну, мама, – с деланным укором густо протянул Мишуша, но бабушка только махнула в его сторону рукой.
– Значит, прихожу вчера я в магазин за синькой…
– Во-во, про синьку лучше, про зеленку, – Мишуша уже смеялся, откинувшись на стуле, уже рокотал своим прокуренным, хрипловатым басом, показывая редкие коричневые зубы, и голос его тоже казался коричневым.
А он допил молоко, вышел из-за стола и прилег на твердую узкую бабушкину кушетку в углу комнаты, под большой пестрой картою Европы.
Круг разговора за столом, тот хоровод привычных голосов, где он, казалось, давно знал каждую нотку, все продолжал свое вращение, то убыстряясь, то перемежаясь паузами; но сами паузы тоже полны были слов, только что сказанных сейчас. И не слова, знакомые здесь всем и повторявшиеся, пусть на разный лад, но уже столько лет, – нет, не слова тут были главным, не они сами. А то, наверное, что было давно забрано в их круг – мамой, Мишушей, бабушкой… И он, наверное, тоже каким-то образом входил туда, включен был в этот круг – давным-давно и навсегда уже, что бы ни случилось.
– Перед войной тогда крутил, крутил все носом, выбирал, – тихо и быстро, как себе одной, бубнила бабушка. – Та не по нем, и эта, и другая. Ну, а теперь что говорить.
– Я и молчу, – сказал Мишуша весело. – Вы говорите.
– Мы говорим, мы говорим… – начала бабушка и что-то оборвала, не пустив в слова. – Потерпишь, мне уже не долго говорить осталось… – Лицо ее сморщилось, она беспомощно заморгала.
– Мама, не плачьте, было бы из-за чего, – Мишуша заскрипел своим стулом. – Ну, а тогда я молодой, дурной немного был… Жить собирался вечно. Помнишь, Лида?
И он опять уже смеялся, глухо и добро бухал, как в кадушку, своим кашлем.
Бабушка высморкалась. На пол со звоном упал нож. Мишуша кашлянул еще, умолк.
– Ты чаю выпьешь? – медленно вздохнув, спросила его мать.
– Конечно. Вы ж тоже будете?
Мишуша встал, пошел по комнате, чиркая раз за разом спичкой, остановился у кушетки, над ним.
– Ну-с, наш студент… И как дела?
– Нормально. А что у тебя?
– А у меня всегда нормально, ты же знаешь, – Мишуша улыбнулся и добавил со смущением и как-то виновато: – Ты, Юра, не особенно уже тут слушай наше все… Я вот опять чуть не завел шарманку про старое…
– Нормально все. Что тут такого? Я понимаю.
– О! – Мишуша выпрямился и с шутливой значительностью поднял указательный палец. – Ты понимаешь. Это главное. И я иду курить.
За окном урчал мотор. Наверное, заехал на обед Макс Миленький, таксист из их двора. Подумалось о том, что как-то рассказал Мишуша: как Миленький чудом остался жив в шеренге военнопленных перед встретившимися на полевой дороге эсэсовцами. Опять представились запыленные фигуры измученных, ослабевших от ран людей в грязных, спекшихся на жаре повязках и потные небритые лица конвойных… И как после команды двинувшегося вдоль шеренги эсэсовского офицера стали выходить из нее те, кто был не «юда» и кому пока давался еще шанс на какую-то жизнь. Увиделось, как отрешенно и отдельно от всего вокруг остались сзади, на своих местах, несколько обреченных и как Миленький, мгновенно решившись, внешне безразлично, не медленно, но и не быстро сделал от них вперед те словно не свои четыре шага и стал с теми, кого поведут дальше. Стал, никуда не глядя, ни во что еще не веря, готовый, наверное, к отбрасывающему назад удару прикладом в грудь или в лицо. «Еще не веря, ни о чем не думая в тот миг», – повторил он про себя и тут же решил, что нет, это могло быть и совсем не так: Миленький в тот момент, скорее, думал, но лихорадочно и сразу обо всем; наверное, в уме его мелькало и мешалось разное и только не было той мысли – «буду жить?» – которую он бы не вынес и этим обнаружил бы себя, пропал, да еще прошел бы перед смертью на глазах у всех через уничтожающее издевательство…
Он подвинулся выше на заскрипевшей бабушкиной кушетке, лег поудобнее. И уже не прислушиваясь к голосам из-за стола, только привычно допуская их к себе и не противясь им, как не противишься всему, среди чего родился и живешь и что всегда остается самим собою, на своих местах, вышел ли ты из дома, уехал впервые в чужой город на школьные состязания или просто лег спать, – весь отдался приятно-монотонному звучанию этих голосов и прикрыл глаза.
Под веками плыли зеленые и оранжевые пятна равнин, плато, горных массивов, что так наглядно, ярко были распластаны напротив, на стене картой Европы. Если б не карту, а по-настоящему все сверху увидеть, при солнце… Все это было бы таким красивым и тогда? Когда вот тех расстреливали на полевой дороге?.. Дорога от жары, наверно, белая была, и небо тоже белое от ослепительного солнца… Неба они тогда не видели, уже и знать не знали. И солнца для них тоже не было тогда…
Мать все твердит Мишуше: «Нет у тебя характера». А он выжил в концлагере. Он говорил, по-разному там можно было выжить иногда… А сам – без никакого «разного», это же сразу видно. Только вздохнул как-то: «Или я смог, или мне просто повезло немного».
Однажды рассказал, что часто приходилось прикидываться на работе жестокими, злыми – лица такие делать специально для Кляйне, помощника их лагерного коменданта. Этим театром, говорил Мишуша, занимались, если заболевали, – чтоб Кляйне не заметил. А то приходит, смотрит, будто изучает, потом кого-нибудь наметит – и давай: «Тибе скоро капут. Яа, яа! Ты уже ест мертвый, – и ставит в воздухе перчаткой крест на человеке. – Сам винофат». И тут начнет свое всегдашнее: «Жизн надо… этто… любить. Надо брать сам. Энергишно, энергишно! Надо: ар-рр! ар-рр! и показывает, как рычит овчарка: вгрызается сам в воздух ощеренным ртом, вытягивает жилистую белую шею, а потом смеется: – Яа, яа! Ха-ха-ха!.. Понимайт?»
Этот рассказ Мишуши сильно так запомнился… Когда пошли классом в музей, он увидел там фотографии людей за проволокой в одинаковых полосатых одеждах и с почти одинаковыми мертвенными лицами, – их головы казались слишком большими для тонких, как палки, туловищ. А рядом был тот снимок длинной очереди мужчин и женщин с детьми: все еще в своей одежде и с вещами, видно, с поезда; их пропускали или направляли куда-то солдаты с овчарками. И он тогда смотрел, смотрел – и вдруг представилось, отчетливо до ужаса, как будто и вправду было: сам он и мама на той станции, в колонне перед сортировкой. И как спастись, как уцелеть? Неужто всем стараться выглядеть там «энергишно» и придавать себе то выражение жестокой силы, которое так нравится этим кляйне с собаками и по которому они, точно по пропуску, направили бы их не в камеры, к печам, а сперва в лагерь, для работы? Но кто бы из людей в колонне смог бы так выглядеть? И мама не смогла бы, не смогла бы. И вот ее рванули бы куда-то в сторону – а он разве бы отпустил, разве отдал бы ее?.. Нет на свете такой силы…
Открыв глаза, он с облегчением освободился от всего привидевшегося, как от жуткого навязчивого сна.
Лег поудобнее, лицом к стене.
– Ох, дети мои, дети, куда мне вас подети, – вздыхала бабушка, бормоча свою вечную приговорочку и переставляя что-то на столе. Тихонько звякали чайные ложки.
Как странно, думал он, сколько всего из разных жизней может и слышаться и видеться в одно и то же время. И даже то, чего и не было, а ты только представил, – даже оно, значит, с этой минуты уже – есть. Иначе бы ты просто ничего о нем не думал. Да, хоть на миг, для одного тебя, но это уже происходит, происходит… И может, как-то добавляется к тому, что существует и для всех?..
Было уже знакомое ощущение какой-то приближающейся и наконец-то поддающейся, посильной для него мысли, готовой разом объяснить, обнять собой так необычно много. Даже вот те мгновения чужих жизней, которые, запомнившись или придумавшись, затем в случайной очередности встают перед глазами – точно и сами хотят знать, зачем их вызвали, зачем их выхватили из всего, с чем они где-то составляли свое целое. Но, как всегда, через минуту это ощущение ушло, растаяло.
Потом, наверное, он незаметно для себя уснул, а может, только задремал – на полчаса, не больше, как ему казалось. Но все равно очнулся уже с легким беспокойством, с которым просыпаешься после дневного неожиданного сна.
В комнате снова были те же голоса.
– Да, Миша, можешь обижаться на меня, – мать говорила тихо, как говорят при спящем в комнате. – Хоть и обидишься, а я тебе скажу: человеку надо уметь себя поставить.
И голос Мишуши, непривычно серьезный и сдержанный:
– Поставить… А перед кем? Зачем?
– Вообще. Что я тебе тут буду объяснять. Даже перед своими – тоже. Я не себя имею в виду…
– Перед своими?
– А что? Хотя бы перед Юрой вот… Ты с ним – на равных, как будто из одной компании. А в доме нет мужчины. Мне с мамой ни заметить, ни сообразить всего, что с ним. Что год – то все как-то отдельнее, отдельнее. Уже семнадцать вот, а что я знаю про него? Он все молчит, куда-то ходит, ходит… А тебя любит, да. Так ты вместо того…
– Что – я?
– Мог бы иначе с ним себя держать. Ну, тверже, что ли…
– То есть?
– Ты вот души не чаешь в нем. А чтобы оказать влияние, надо, наверное, не так уж открыто, откровенно… С достоинством. Даже дистанция какая-то, наверное, нужна. Ах, что тут говорить!.. Ты понимаешь сам.
– Я понимаю, Лида, понимаю. Только понимаю так: если я должен, как ты говоришь, уметь себя поставить даже и перед своими…
– То что? Ну, договаривай же, договаривай.
– Значит, и ставить незачем уже. Не вижу смысла, понимаешь? И не научусь. Мне уже поздновато.
– Как ты умеешь доказать себе…
– Лида, пойми, нельзя же быть к кому-то всей душой и вечно думать, как себя поставить, чтобы не понизиться в какой-то там цене.
А он, слушая это, спохватился, что лежит с открытыми глазами и тут же снова их закрыл. Быстрое, осторожное движение послушных век не прервало, не спугнуло наступившего после слов дяди молчания. Оно все длилось, и тогда он медленно поднялся, двинулся к двери.
– А! Проснулся, Юра…
Он слышал: мать это сказала, чтобы хоть что-нибудь сказать. И притворно-участливые, чуть виноватые нотки ее голоса подействовали особенно раздражающе.
– Нет, не проснулся! – обернувшись, сказал он злорадно-отчетливо, глядя прямо ей в лицо.
Она тут же опустила глаза, и лицо у нее стало таким растерянным и обиженным, что он, как и всегда в похожих случаях, ощутил не свою, а словно бы ее победу над ним. И уже почти жалея обо всем, но зачем-то еще цепляясь за остатки мстительного чувства, он добавил – подчеркнуто не ей:
– Мишуш, не уходи, а? Я сейчас вернусь.
Глава третья
Снова квартира Антоневичей.
В углу, за выдвинутым на середину комнаты обеденным столом, высокая разлапистая елка. Ее еще не наряжали.
В доме предпраздничная суета.
Ждали Мишушу, а тот все не шел.
– Ясно, что где-то застрял, просто не может без этого, – мать вошла из кухни с молотком в руке. – Юра, прибей хоть ты нам эту вешалку в передней… Надоело… И сядешь потом тут, чтобы не мешать. Я мокрой тряпкой пол пройду. И глянь, что с антенной.
Вернувшись в комнату, он сел возле приемника. Шкала уютно осветилась, стало попискивать, трещать. С антенной было все в порядке. Но мать уже была заметно взвинчена, и он решил ей ничего не говорить.
Он нашел музыку, когда из кухни донеслось:
– Мама, я знаю!.. Я уверена! И ты, пожалуйста, не защищай. Он же никому не может отказать!..
«Ну, так и что из этого?» – вдруг захотелось крикнуть за Мишушу, но он не крикнул и через минуту был уже доволен, что сдержался.
Раньше так не было, подумал он с тоской. Раньше все было как-то лучше. Проще, что ли… Он чуть прибавил громкости и двинул стрелку дальше по шкале настройки. Возле «Варшавы» заиграл аккордеон.
…Жили все вместе, в старом деревянном доме на улице, вымощенной булыжником. В том доме было два крыльца, две половины. Одна – некрашеная, с зелеными полосками бархатного моха в черных бревнах, – была домом Мишуши. Тут стали жить, когда освободили город, – мать, бабушка и он. Потом и дядя Миша появился, и получилось, будто не они, а он пришел к ним в дом.
Здесь были две малюсенькие комнатки: это сам дядя так разгородил свое жилье перед войной. («Можно подумать, что жениться собирался», – как-то сказала мать.)
Своего же дома они даже не нашли тогда. Пришли откуда-то из пригорода – кажется, под вечер. Танки стояли на улицах, машины, люди кучками. И кто-то пел. Играли на баяне. Мама и бабушка все повторяли: «Наши!.. Наши!..» Вдруг выбежал на них какой-то человек в комбинезоне с черным, покоробленным ведром – лицо широкое, глаза, как щелки, узкие и длинные – и, засмеявшись, как-то не по-русски, хотя понятными словами, закричал:
– Вада-вада нам нада, панимаешь?..
Бабушка быстро закивала и закрутилась на месте, шмыгая носом и хлопотливо морщась, ткнула рукой в одну, в другую сторону, и сбилась, растерялась. А тот уже и пробежал, исчез.
Потом бабушка пошла куда-то, а они вдвоем ее ждали, сидели на траве в чьем-то дворе, и у него немного кружилась голова. Вернулась бабушка довольно скоро:
– Лида, Юрайка, тут вы?
И мать ей сразу крикнула:
– Мама, ну что?..
А бабушка молчала, села спиной к ним и все прижимала к глазам концы платка, а потом высморкалась, поднялась.
– Я чувствовала… Все равно как знала. И только, это, завернула на нашу улицу – сразу и вижу… Надо теперь нам к Мише, если там что уцелело.
А мать вздохнула и сказала, что хорошо сделали, когда ушли из города, вот и живы остались.
Когда пришли туда, где раньше дядя Миша жил, уже темнело. Стекло в низком окне было разбито, и мать раскрыла створки, влезла в дом. Бабушка вытащила из узла завернутую в марлю застекленную икону и осторожно стала подавать ее обеими руками в темный проем – не маме, нет. И вот он и сейчас все еще это помнит: как он тогда скорей почувствовал, чем увидел, что бабушка, вдвинув свою икону в темень за подоконником, вдруг отпускает руки. «Ну, разобьется же!» – сказал он. И она тихо, быстренько, точно боясь что-то спугнуть, шепнула:
– А там же столик его, там же его столик…
И он еще успел тогда подумать с удивлением: а может, она видит в темноте? Может, вообще все люди, когда старятся, то начинают лучше видеть в темноте?
А дядя Миша, возвратившись, принес с собой в дом какой-то еще неизвестный, прохладно-резкий, почти едкий запах. Казалось, что от дяди пахнет холодной баней и больницей вместе, а потом он услышал это слово – «дезинфекция», которое и обозначило тот запах, и, казалось, чем-то очень подходило к нему.
Работать дядя Миша начал на Товарной станции, в пакгаузах. Ходить ему туда было совсем недалеко – их дом стоял на Железнодорожной, и со двора можно было пройти огородами до той серой бетонной стены, что отгораживала территорию станции и виднелась с крыльца в просветах между высоченными кустами сирени в конце двора и дальними яблонями и грушами. В стене давно были сделаны проломы.
Дядя Миша ходил на работу то рано утром, то после обеда, и тогда возвращался уже с темнотой, не спеша, петляя тропинками между картофельными участками и грядами. А он иногда поджидал дядю Мишу возле их огорода, стоя в густевшей темени среди огромных лопухов. Ноги и грудь обжимало холодной крепкой сыростью земли и зелени, а дядя приближался, приближался, и слышно было, как сперва похлестывает по сапогам ботва, а потом ближе, ближе, уже совсем рядом шершаво трутся о голенища листья огурцов. Тогда он, выскочив под самым его носом, бросался сломя голову назад, к крыльцу, а дядя Миша громко и протяжно охал и оседал там, в грядах, и старался как следует напугаться, прежде чем робко двинуться во двор, а потом еще долго боязливо бормотал что-то, зайдя в уборную.
В тесной и чистой комнатке, которая считалась дядиной и где помещалась еще узкая железная кровать бабушки, на нижней полке этажерки стоял черный чемоданчик патефона. Стопка пластинок на нем, в бумажных конвертах с обтрепанными краями, была покрыта белой салфеткой. Узорчатым своим углом салфетка всегда спускалась ровно посредине патефонной стенки, и эта аккуратность была заботливой и в то же время строгой, запрещающей, – он никогда не смел тут тронуть ничего, хотя, конечно же, ему бы разрешили.
А дядя Миша иногда свои пластинки слушал, чаще всего по вечерам.
Он ставил патефон на столик, на коричневую, вытертую по углам бархатную скатерть, и раскрывал окно – легко и осторожно выталкивал в глубокий синий воздух белеющие половинки рамы. Занавески плавно колыхались от тихого ветра, из вечерней темноты сюда, под красный абажур, влетали ночные бабочки и суматошно кружились, стягиваясь к ярко-белой лампе, а патефонный женский голос, который казался грубоватым и печальным и почему-то нравился как раз за это, – пел:
Была весна зеленая
Под небом голубым,
Мы встретились под кленами
С курсантом молодым
И плавно закружилися —
Играл на мостовой
Военного училища
Оркестр наш духовой…
Сухо, приятно пахло папиросным дымом дяди Миши – дым стлался длинными слоями от стола к окну, покачивался там у занавесок, и все раскачивалась, все кружилась в вальсе музыка с пластинки, и грустный голос пел свои слова:
…Пока война не кончится,
Нам свадьбы не сыграть.
Умолкла наша улица,
Лишь клен шумит листвой,
А мне порою чудится
Оркестр наш духовой,
А мне порою чудится
Оркестр наш духовой.
Вот почему-то всякий раз под эту песню и начинало представляться, как дядя Миша жил раньше, – давно, когда он был таким, как на фотокарточке в альбоме: черные, мокрые, видно, после купанья, волосы гладко зачесаны назад; он стоит, сильно загорелый, в белых брюках, без майки, одна рука на поясе, а другой держится за волейбольную сетку над головой, глаза весело прищурены, а папироса зажата в белых-белых зубах… Или сидит в лодке-байдарке: белая рубашка с широко раскрытым воротом, довольная улыбка до ушей, а весла вынуты, ярко блестят на солнце мокрыми лопатками… Или с какими-то людьми в лесу, за расстеленной на траве скатертью с едой и бутылками, и белокурая женщина притягивает его голову к себе, некрасиво собрав ему складками лицо с торчащей в углу рта папиросой…
И потом, когда уже стали жить отдельно, еще долго нравилось вспоминать ту комнатку дяди Миши, его музыку по вечерам и самого его в майке у раскрытого окна: занавески колышутся на ветру – «этой музыки звуки, полной страсти и муки, и дрожат твои руки, как гитарная струна…» Это все было про чье-то взрослое и давнее, чужое время – так почему, слушая те пластинки, хотелось что-то думать про себя и что-то наперед угадывать с тайным, смешным и чуть смущающим волнением?..
Из той тесной чистой комнатки дяди Миши, что была сплошь выложена бабушкиными узорчатыми салфетками (они лежали на всех полках этажерки и на постельном покрывале – «капе», на больших подушках, на футляре ножной швейной машины и полочке под высоким зеркалом в черной деревянной оправе, за которую было заткнуто павлинье перо), – из той комнатки долго помнилась еще книжка Дос Пассоса с непонятным тогда названием «42-я параллель», с короткими жирными строчками в начале частей или рассказов, и особенно два места: как пахло влажным песком и дождем от мокрых волос какой-то девчонки, когда она и двое ребят укрылись на пляже под перевернутой лодкой, и встреча оставшегося без работы бывшего моряка со своей сестрой на нью-йоркской улице, – серый свет в конце пасмурного дня, и кажется, что от тебя самого, как и от моряка, пахнет табаком и слегка спиртным, и так же тебе зябко, мерзнут руки, нос, хочется вымыться в теплой воде, сменить несвежую одежду, отсыревшие ботинки… А те двое встречались, грубовато-весело здоровались и заходили куда-то перекусить.
Может, в той книжке были и рисунки. Но главное – как странно-близко, как понятно было это, прочитанное в ней. И как он тогда удивился, когда почувствовал вдруг запах дождя и влажного песка. Потому что за окном, в ранних сумерках, уже синел снег, люди осторожно скользили у заледеневшей, оплывшей, как свеча, водопроводной колонки, и все звуки, долетавшие с улицы, казались приглушенными, ватными. А вата с сухими цветами бессмертника между стекол тоже казалась снегом, как и ватные комки в стенных отверстиях возле окон, – в них дядя Миша подавал с улицы засовы, закрывая по вечерам ставни. Концы железных засовов в комнате покрывались за ночь инеем, а днем из этих отверстий, если их забывали заткнуть, дули тонкие струйки холода и при сильном ветре пробивался снег.
Их давнее житье-бытье на Железнодорожной.
Плотно укатанный песок на обочине булыжной мостовой, шуршат слегка приспущенные шины, на раме почти не трясет, а дядя Миша за спиной все нажимает на педали, седло под ним поскрипывает, он молчит, только над ухом слышно затрудненное дыхание. Плывут назад заборы палисадников, стоящие возле калиток люди, воздух шумит в ушах, прохладно обтекает шею, а улица, всегда казавшаяся бесконечно длинной и широкой, теперь невзрачная какая-то и тесная, спешит уйти назад, скорее кончиться, точно стесняется себя, и вот уже пересекается шлагбаумом на переезде…
Или тот серый день глубокой осени, когда лет в девять или десять вышел из дома в первый раз после тяжелой, сильно затянувшейся болезни, – и холодный земляной дух пусто стынущей, обложенной кирпичами клумбы, паровозные крики и приглушенные в сыром воздухе удары вагонных буферов, свистки, шипение с близкой станции, – когда все это знакомое после долгого перерыва узналось опять, но с какой-то особенной остротой, и так тесно обступило, придвинулось, что он с растерянной улыбкой обернулся к окну. А мать в окне смотрела на него и тоже чуть-чуть улыбалась – ободряюще, как в тот момент казалось; но ободрение было лишь в осторожном кивке, а в глазах – со временем это видится все яснее – в глазах была и виноватая, и не желающая обнаружить себя жалость к нему, такому бледному, наверное, и слабому, едва не пошатнувшемуся с первых шагов на воздухе…
То давнее житье на Железнодорожной, за довоенным еще Западным мостом…
Потом Мишуша оставался там уже один.
Как-то само собой установилось, даже узаконилось, что он несколько раз в неделю обязательно обедает у них, в новой квартире в центре города. Мишуша приезжал на тяжеленном и громоздком, собранном из разных частей велосипеде с багажником, фонарем, ручным тормозом и еще какими-то приспособлениями. Полным значения, почти торжественным был его въезд во двор: слегка притормозив на тротуаре и звякая звонком, Мишуша выставлял в сторону руку, предупредительно оповещая о своем маневре, точно мотоциклист на сложном перекрестке; затем – неторопливый, с плавным разворотом спуск к их дому, и тут Мишуша уже не сидел, а ехал, стоя на одной педали, закинув ногу за ногу, так что еще не видно было той зашпиленной бельевой прищепкой штанины, что плоско, как лопасть, торчала вбок, когда он потом шел к лестнице, оставив велосипед внизу.
– Юра, посматривай, чтоб там мелюзга машину…
А что «машину», – этого он не доканчивал, да и не вспоминал о ней ни разу за весь вечер, пока опять не выходил во двор, чтобы ехать домой. Тогда тесный кружок соседской ребятни смолкал и расступался, а там «машина», стоя вверх колесами, беспомощно помахивала в воздухе педалями, мерцали спицы, дозуживал замученный движок, и опрокинутый к земле фонарь еще светился…
Когда по их улице пошли трамваи (они возили у себя на крышах рекламу цирка: КИО и СЕСТРЫ КОХ), Мишуша пробовал и на трамвае приезжать. Но потом снова перешел на свой велосипед.
Обеды начинались поздно, часов в шесть. Мать говорила: «Господи, даже и это не по-людски». Мишуша тут же уточнял, что это по-английски, и можно еще часом позже начинать. Бабушка Каролина ничего не говорила, молча носила из кухни тарелки с едой – чаще всего перловый суп и котлеты с картофельным пюре.
«Традиционное английское меню», – скажет Мишуша, потирая руки, а бабушка взглянет на мать – и потеплевшим голосом, с ворчливым позволеньем:
– Ну, англичан, так начинай уже свою «английку»…
Тогда Мишуша вынимает четвертинку из старого, истертого портфеля, мнет двумя пальцами, крошит белый сургуч на пробке и аккуратно, в два приема выпивает – и перед супом, и перед котлетами.
Бабушка иногда брала портфель, вертела в темных, потрескавшихся руках и говорила, что кожа стала прямо как юфть. А мать опять начинала про то, что Мишуше можно устроиться если не в техникуме, то в школе, и вести там черчение (не мог же он забыть все это начисто). И он в эти минуты представлял себе Мишушу школьным чертежником, и шутливые дядины слова про разное «английское» тогда уже как-то больше вязались с ним и что-то новое давали почувствовать в его прошлой, довоенной жизни. Теперь же Мишуша, уволившись с Товарной станции, работал в обувной мастерской – оказалось, он и это умел. Но маме здесь что-то не нравилось, и очень сильно, а он отмалчивался.
Он часто приносил к ним в дом разные вещи. Так появился, например, большой комнатный термометр с латинской буквой R на треснувшей шкале.
– Где ж ты тепла ему тут столько наберешь! – сказала бабушка. А мать сказала:
– Хлам! – и больше не смотрела.
Мишуша, не смутившись, внушительно проговорил:
– Термометр Реомюра.
Потом достал из портфеля жестянку с гвоздями, сапожный молоток и не спеша устроил Реомюра на стене.
В другой раз он принес длинный рулон бумаги, оклеенный марлей, а когда развернул, оказалось, что это «Физическая карта Европы». Ее повесили напротив окна, и все остальное в комнате стало каким-то тусклым, скучным – столько ярких красок было теперь на стене. Бабушка, вытерев руки о фартук, осторожно дотрагивалась распаренными от стирки пальцами до горячих на вид оранжевых высот Скандинавского полуострова и говорила:
– Во где жара – так жара!..
Приближался Новый год, и было уже 31-е, под вечер. В квартире все вертелось колесом. В углу стояла елка – с таким видом, будто все хлопоты из-за нее одной, а на нее сейчас и не смотрели.
Мишуша появился незаметно, его обнаружили, когда он был уже без пальто, но еще в вечной своей «котиковой» шапке. Топчась в темном углу передней, упираясь рукой в стену, Мишуша медленно освобождался от калош. Стоптав их, наконец, с ботинок, он прошел в кухню, к бабушке, и подал ей сверток в белой бумаге. Бабушка быстро, возбужденно зашептала что-то, будто отказываясь наотрез, даже пугаясь, но так же быстро, благодарно смолкла. Потом сказала:
– Ну иди же к Лиде, – Мишуша обернулся:
– А, Юра! Принимай… – и на ладонь приятной тяжестью лег новенький холодный перочинный нож.
– Лида! Ну, приготовься! Я иду! – крикнул Мишуша и, не входя, поставил через порог черные узкие, на тонких каблуках, новые туфли-лодочки, и они глуховато, скромно стукнули о непросохший после мокрой тряпки пол.
– Английские, ручной работы, собственной, – сказал Мишуша. – В общем, модельные… Носи.
А мать так улыбалась, осторожно подходя к ним, так улыбалась, нагибаясь и протягивая руку, что он, стоявший за спиной Мишуши, почувствовал вдруг зависть и досаду, что вот не он, а дядя, мамин брат, сделал ее сейчас такой красивой, – и поспешил сказать:
– Ну, мама, надевай же!..
Когда собрались гости с маминой работы («Вся городская киносеть!» – торжественно провозгласил Мишуша), мать сидела, надев новые туфли и закинув ногу за ногу. В этом угадывалось что-то ее давнее, наверное, самое красивое и молодое.
А когда гости разошлись, мать поскучнела, туфли сняла, поставила их у стены и вышла в свою комнату. Белая дверь плотно закрылась.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































