Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
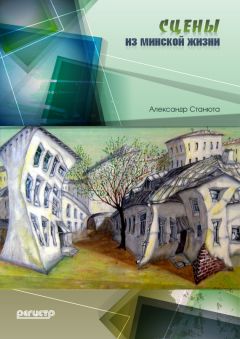
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Фидельсон бредит машинами, так он и вычитал где-то: Маяковский в Париже купил «Рено» – красавец, столько-то лошадиных сил, внутри обивка такая-то – и этот красавец едет с ним в Москву. И еще говорил, что Маяковский был слаб на женщин, в Париже сразу влопался в Таню Яковлеву и стих написал: Нам сейчас нужны такие Длинноногие, чужие. Иди сюда, на перекресток моих рук… И Саша это слышит от Фидельсона, потом мы с ней, в тот вечер у них на темной веранде, и в окно видим знакомый силуэт.
Вообще-то, странный малый был этот лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи, как объявил Сталин. Застрелился из-за женщины. А изображал камень, мужчину на все сто, гремел, рычал. Не пожалел покойного Есенина:
Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Пустота, летите, в звезды врезываясь,
Ни тебе аванса, ни пивной,
Трезвость…
Ах, молодец, рубанул, итить твою маковку, как говорит дед.
Когда нас с Колей захлопнули в мышеловке, в общежитии пединститута, и стали читать мораль, одна студентка, она потом пошла в райкомовские девы, особа эта нам по Маяковскому мозги вправляла:
– Ваша компания из наших окон как на ладони! У вас одна есенинщина! Пьете, курите…
– Крадете, – вставил Коля.
– Не видели, но… И ваши девочки. С виду они приличные. Но ваши танцы по ночам, после волейбола… Ваш этот Лещенко! Он же изменник родины! Пел свои ресторанные песенки в Одессе, когда фашисты ее заняли.
– Это блатное все или мещанское! – крикнул высокий, горбоносый Кайл Майтелл, студент, что был у нас на практике еще в восьмом и вел историю, не выговаривая букву Р в средневековом короле Карле Мартелле.
– А Маяковский – это не Есенин! – снова пилит нас студентка, эта активистка ихняя. – Он же писал: «Нет, не те молодежь, кто, забившись в лужайку и в лодку, начинает под визг и галдеж прополаскивать водкой глотку!».. А вы? Что вы делаете за сараями с десятиклассницами второй школы?
– А вы, Смолевич, все в автобусе номер пять?
– Целуем всех, кто хочет, – Коля усмехается, он не боится, его дом через двадцать метров.
– Кто хочет, повторяю, – Коля начинает заводиться.
– А эти ваши серенькие кепочки, даже летом? Это у вас такая мода или форма, знак отличия?
И так далее.
Мы едва вырываемся из этой ленинской комнаты! А то они уже хотели нас в милицию сдавать, только не знали, за что. Потом мы вечерами обходим улицы и скверы, где с красными повязками народных дружинников патрулируют эти комсомольские вожаки.
Но жизнь, как говорят, идет, и мы на Энгельса живем по правилам, привычкам своей Африки.
Что-то меняется, мы чувствуем, мы видим, но… Не просто поспевать. А в воздухе уже запахло чем-то новым.
– Из Таллинна приезжает Юрка Ратушев! Вот у него пластинки! И записи, магнитофонные, в бобинах. Он же с родителями долго жил в Москве!..
И наступает день встречи известных в Минске африканцев с Ратушевым. По договору, сходка происходит на проспекте Сталина, напротив палат милиции и Эм-Гэ-Бэ, между аптекой и центральной парикмахерской.
Наслушавшись про Ратушева, зная, что это новый современный стиль, мы, люди минского центра, чтобы не ударить в грязь лицом, выпускаем вперед Сондера, как козырную карту.
Но Юрка Ратушев нас подавляет. Мы еще не видели таких плащей. С накидкой, с пелериной этакой, а на плечах погончики; пыльник и для дождя, но вид, но цвет!.. Как будто из слюды, из стрекозиных крыльев и в то же время что-то болотное и маскировочное, что-то военное, армейское, может, американское.
Юрка закуривает коричневую тонкую сигару или сигарету, щелкает зажигалкой. Он без шапки и без шарфика, высокий и плечистый, в темных очках.
Володя Солнцев, Сондер наш, сразу проигрывает. Низенький, в велюровой своей вдруг ставшей старомодной шляпе, с «беломором» в пальцах, с неуверенной улыбкой, должной показать его иронию, но показавшей только золотые зубы…
Пауза.
И Юрка Ратушев, схвативший мигом обстановку, глядя на Сондера сверху вниз, негромко произносит:
– А это Сондер?
Как будто нам сказали, что мы – темная деревня, а Сондер жлоб.
Назавтра в класс заходит Лупинович, тоже из десятого, сын академика; его сопровождают двое. Он спрашивает:
– Правда, что у тебя есть «Звезда Рио», английская? Сменяй эту пластинку, что-нибудь дам взамен. Мы отмечаем приезд Юрки Ратушева.
Никто из наших не приглашен. Еще один удар.
XIII
Поездка к ней, сама дорога, сама езда – это целая одиссея. Хорошее слово, его нравится произносить вслух и про себя, нравится повторять. Надо только внятно, отчетливо проговаривать двойное С. Тогда в последнем слоге будет что-то и от бассейна, и от рассеянности, в которой вечно упрекает Ия Петровна, химичка, строгая полная дама в черном платье с маленьким круглым лицом.
А ей не угодишь. Если встряхнуться и налечь на заданное по истории, на эти вот пробирки с розовой жидкостью и морской бой за полтинник с будущим мореходом Карпиковым, если за все это взяться, как следует, химичка начинает выступать:
– Смолевич Александр, разве вы Цезарь, чтобы сразу делать несколько разных дел?
Тогда сразу бросаешь историю и морской бой и, тупо уставившись на пробирки, опять рассматриваешь, вспоминаешь свои поездки к Саше на Сельхозпоселок.
Большая разница ехать утром или вечером. А это уже зависит от того, когда работает сегодня ее мама, в первую или вторую смену, утром или к пяти дня она уехала на свою картографическую фабрику на Володарского, на другом конце города.
Допустим, утром. Тогда выходишь из дома, как будто в осточертевшую за десять лет школу. На груди, между бортами пальто, завернутые в газету толстые тетради, они зовутся почему-то общими, два или три учебника потоньше, вот и все. Руки глубоко в карманах, там и монеты по пять копеек на автобусные билеты. И никакого другого багажа. Во-первых, такая мода: не ходим по улицам мы, взрослые люди, с портфелями, чтобы сразу видели в нас школьников.
Во-вторых, не окажешься растяпой, не оставишь свои причиндалы ни на первом утреннем сеансе, ни у кого-то дома, где вместо школы перекидываешься в картишки, не снимая пальтишка, – вот и рифма.
Дальше. Выходишь на проспект Сталина из высоченной арки своего нового дома; справа, как уже отмечалось, книжный магазин, а слева «Лакомка», куда женское население Минска слетается, как пчелы на мед.
Последние толчки ошалелого ветра в арке в спину и в задницу, совсем как на выходе из аэродинамической трубы.
Перебегаешь пустой, уже расчищенный от снега проспект, справа уже что-то идет, может, автобус. Кафе «Весна», теперь чуть влево, остановка, и вот он, львовский автобус номер пять, тесный, зато теплый.
Короткий молчаливый бой за право влезть. Дядька с огромным красным носом давит как танк.
– Ну и рубильник у тебя! – смеется кондукторша.
– А ты как думала? Что на витрине, то и в магазине. Знаешь?
Включаются и остальные пассажиры:
– Его за это без билета возить надо!
Автобус мягко катится с горы. Цирк, потом Круглая площадь, чуть вверх, прямо и налево, возле Физкультурного, потом по Коласа Якуба, до конца.
Конечный круг. Уже совсем светло, бело, мартовский снег. Кирпичные ворота колонии или слободки геодезистов, деревянное крыльцо, дверь изнутри не заперта. И в полной темноте, здесь, в кухне, освободиться от пальто, ввалиться в тепло их первой комнаты и нырнуть во вторую за занавески с японским малиновым солнцем.
Тут сонное царство. Она едва видна в белых холмах постели, лишь затылок. Сонно говорит в подушку:
– Замерз? Грейся быстрее.
В мягкой норе тепло, приятно пахнет накрахмаленной наволочкой, ее телом; тонкая белая рубашка сбилась на бок и задралась. Спит на животе.
– Ложись мне на печку… Хочешь побаловаться… Ну побалуйся… Ой, ты как ледышка! Господи, как сосулька все равно…
Просыпаемся после одиннадцати. Будильник в первой комнате мерно тикает. Все тихо, Алина на работе, Тома в школе. Глухо как в вате, едут грузовики, Логойский тракт за окнами слабо гудит.
В кухне прохладно после комнаты. В рюмках у нас розовый спирт с водой, с вишневой косточкой. Похоже на пробирки в кабинете химии. И хрен на белых полосках сала тоже розовый. Вдруг все становится каким-то невзаправдашним. Где-то идет алгебра Зелика Голода, где-то шуруют в сквере лыжами под окриками физрука Ачкина… Где-то идет кино, сгружают ящики у магазинов, звенят трамваи. А здесь вот одни мы, и ничего не нужно. Не нужно больше никуда и никогда идти и ехать. Не нужно больше никакого времени, и его нету, оно кончилось; было, тянулось и бежало, а теперь – стоп и все, как будто выключили. Не нужно даже разговаривать.
– Ну, успокоился, хорошо тебе?
Она не ждет ответа. Смотрит на вешалку, на скатанное под ней в рулон старое одеяло.
– Хочешь, вернемся лучше в комнату?
Смотрит на потолок и улыбается, тихо смеется…
Смейся, смейся, дорогая,
Смейся, смейся, ангел мой.
Я, тоску свою скрывая,
Сам смеюся над собой.
Разве то, что в жизни шумной
Без тебя вокруг темно,
Что люблю тебя безумно,
Разве это не смешно?
Смейся, смейся громче всех,
Милое созданье.
Для тебя веселый смех,
Для меня страданье,
Для тебя веселый смех,
Для меня страданье…
XIV
Совсем другое дело, если надо ехать к Саше в конце дня.
Тогда проводы начинаются в штаб-квартире Африки, у Коли. Весь основной состав как будто только этого и ждет. Подкалывают, вроде бы невинно и наивно шутят, напутствуют, толкают к откровенным замечаниям, наблюдениям. Всем подавай детали поконкретнее, профессиональных донжуанов корчат.
Для настроения включают радиолу «Урал». Конечно, наш любимый Петр Лещенко, ведь он всегда поет только про главное.
…Неразлучная пара и шампанского чара,
И на сердце весна,
Этой музыки звуки, полной страсти и муки,
И дрожат твои руки,
Как гитарная струна.
Теперь Сокольский Константин. Откуда-то из ресторана в Риге, в смокинге, под танговую музыку Оскара Строка он умоляет: «Не надо вспоминать любви, ушедшей без возврата…»
Второе отделение этого концерта, этих проводов на дальнее свидание проходит в синей забегаловке «Голубой Дунай». В Африке это заведение называют попроще, «У Дяди Пети». Этот шалман стоит на левом углу Энгельса и Первомайской, если идти вниз, к трамвайным путям.
У Дяди Пети всегда находится, что нужно. Слюнки текут, когда подумаешь про это. Капустка, сыр минский и российский, сальце, плавленый сырок, колбаска молодечненская, краковская, тминная, кильки и пряного посола, и без всякого, шпроты, томатный сок, соленые огурчики.
Главное место занимает бочка с пивом. На ней насос, которым выкачивают пиво из нее, краник для струи, поднос с пустыми куфлями из толстого стекла.
А дядя Петя – это сама степенность и уважение к любому, кто бы ни вошел. Он за прилавком в заскорузлом брезентовом фартуке поверх армейского ватника, в шапке-ушанке. Уже горит мутная лампочка под потолком. И главный инструмент у дяди Пети – узкий стакан из тонкого стекла с делениями. Кому-то сто, кому-то сто пятьдесят граммов холодной, как со льда, «московской», а кому-то двести. Люди все разные, у каждого свои привычки и причины, и надо сделать так, чтобы каждому тут стало хорошо.
И плохо не бывает никому. Вот завсегдатай из футбольных знаменитостей. А вот заслуженный артист театра Янки Купалы. Мастер участка с фрезеровщиком с близкого отсюда завода имени Кирова. Ребята из 4-й школы, тоже соседи, старшеклассники.
Что ж, такова минская селяви, минская жизнь пятидесятых. Кого только и где только не встретишь! Иной раз кажется, что все, не сговариваясь, только и делают, что рыщут, ищут друг друга, ждут-не дождутся случая мелькнуть перед глазами, напомнить о себе, отметиться. Я тут, я тут! Годы проходят, сталинские пятилетки, и пускай, я здеся! Меняется всего так много, что и за хвост не ухватить, но ведь не это важно и не это главное, а то, что мы опять вот встретили, узнали тех и этих, его, ее, молча сказали всем: а вот и я!
В углу шалмана дяди Пети на табуретке, на двух кирпичах – электроплитка со змейкой спирали. Это уже для особых посетителей. На плите и на сковородке дядя Петя может приготовить яичницу, яичницу с салом, яичницу с колбасой. И яичницу с беконом, улыбается хозяин, показывая пласт сала с красными прослойками мяса.
Именно так здесь любит закусить Виктор Васильев, правый защитник минского «Динамо», номер два на майке.
Васильев легок на помин, он тут же появляется, почетный и привычный гость. Завтра команда уезжает в Сочи готовиться к сезону. Завтра в вагон придется некоторых даже вносить, последние дни отпуска, так что сегодня можно все.
Когда мы вваливаемся, Васильев уже готовится принять от дяди Пети свой заказ, стоит спиной к нам и сосредоточен, стараемся не отвлекать. Зато само его присутствие, его спина в темном ратиновом пальто, шелковое белоснежное кашне, красивое розовое лицо в полупрофиль и серое кепи-аэродром, все это делает обстановку значительной для нас.
– Ребятишки, тряпка возле порога, наступите, – говорит дядя Петя. – Что вы будете?
– Во-первых, три по сто пятьдесят, – распоряжается Коля.
– Так вас же четверо.
– А вот ему налейте только сто.
– Нездоров?
– Он сейчас едет далеко, на Колыму.
– Вернется? – хитро улыбается дядя Петя. – Может, ему яичничку?
Все кивают. Миша Порох, адъютант, телохранитель, серьезно спрашивает:
– Поехать с тобой?
– Нет, это уже лишнее.
– Я к тому, что Колька рассказал.
– А что?
– А то. Амбал, что шляется за вами, выслеживает твою Сашку или вас обоих.
– А ну его. Какой-нибудь больной, страдалец этим самым…
– Если бы так. Она его знает?
– Трудно сказать.
– Будь поосторожнее, посматривай. А то прикрою…
Плотнее придвигается Коля:
– Не хочешь, не отвечай… Ты ее… освоил, свою магаданочку? Ладно, молчу. А приведение, что на Октябрьские засекли?
– Было еще. Маячил.
– Что за херня! Тут думать надо. Как бы не кинулся… И кто такой?
Двигаем к остановке автобуса номер пять. Набит под завязку. Повисаешь. Коля командует:
– А ну, бойцы, поможем! Ощетинились!
И дверцы за спиной со скрипом закрываются.
Все три сестры дома. Младшая, Тома, сидит с уроками. Алина звякает посудой в кухне. Саша между окном и печкой.
– Любишь, когда топится? Садись поближе, кочергой помешивай, чтобы головешек не осталось, а то угорим.
Когда входит Алина, забиваемся в угол второй комнаты, стоим у теплой боковины печки.
– Не трогай меня сейчас. Потом.
– Ну, черти полосатые, к столу идете? Я сделала чаёк, – зовет Алина.
– Ты грейся тут после дороги. А я туда-сюда, буду связной, – и Саша выскакивает из укрытия.
Постреливает в печке. Трещит, как пулемет. Алина разболталась.
– А помнишь, Сашка, того больного вора, клептомана, что к нам из зоны заходил? Шура, ты послушай, не поверишь. Сидит этот крючок у нас, теснимся в теплой комнатушке, болтаем и поем. И только он за дверь, а, батюшки, одной подушки нету! Унес-таки! Это как наркомания, хоть что-нибудь да слямзить.
– Алинка, дай наш чай сюда. Мы тут побудем, ладно?
– Ладно, оставайтесь, любушки.
– Ты ту историю с Валюхой расскажи для гостя нашего. Только без тех словечек, умоляю.
– Для твоего интеллигента будет так. В поселке эта Валюха всем давала…
– Аля, умоляю!..
– А что, твой благоверный целочка еще? Шурик, скажи ей там… Да, не отказывала никому. А вот двум беглым – фигу под нос. Так они, звери, бутылку ей пустую взяли и забили горлышком в самую…
– Алинушка!
– Шура, пойми, это же, как на кресте распять. Не шевельнуть ногой, даже рукой. Никто помочь не сможет, не дотронешься. Ну, и оставили в снегу. Утром уже конвойные нашли…
И это как перед глазами, будто видишь сам. Знаешь уже, чем кончилось, но все-таки:
– И что с ней? Выжила?
– Ну, ты даешь, наивный мальчик…
Так, значит, это было, было без тебя, откуда же тогда такая вот картинка, отчетливая и объемная, даже со звуком? Снег, снег до горизонта, белая синь, холмы и горы невысокие, их зовут сопки, и чернеет в стороне чахлый лесок, зубцы елей, как вырезанные ножницами из черной бумаги, утоптанная снежная дорога, партия заключенных, этап зовется, конвоиры, рядом с дорогой неподвижно лежит женщина, а в небе рожок месяца… Это было, было и прошло, пел тогда в театре Вертинский, а мы с Сашей слушали…
Все прошло и вьюгой замело,
Оттого так пусто и светло…
Эту боль не спрятать, не унять,
Надо жить, не надо вспоминать,
Чтобы больно не было опять…
– Расскажи теперь ему про Козина, Алинка.
Саша уютнее устраивается на диване, показывает, чтобы ложился рядом с ней. Шепчет:
– Подай мне тот халатик. Нет, коротенький…
Алина начинает с удовольствием:
– Вадима Алексеевича все у нас любили, это правда… Витька Фидельсон слышал недавно по Голосу Америки, там выпустили долгоиграющую пластинку Козина, так эмигранты размели в два дня. А в Магадане, в ДеКа, я его видела. Ты, Сашка, еще имела лет тринадцать, дома сидела. Он вышел, и весь дом культуры встал! А осветитель прожектором попал в бриллиант на его пиджаке, тот засиял, точно звезда. Вдруг кто-то, начифирившись, кричит: свободу Козину! И все. В ложе сидел сам Никишов, начальник Дальстроя, генерал. Как рявкнет: «Занавес!» И опустили, Козина увезли.
– Чудный голос, – тихо говорит Саша. – Я люблю.
– Вот интересно, Сашка, его же могли вытянуть оттуда. Родственники были ого-го! Сам не хотел ни в Ленинград, ни в Москву. А в Сочи, говорили, в сорок пятом он выступал, так конную милицию даже вызывали, столпотворение!
– А Тегеран? – подсказывает Саша, прижимаясь и прикрывая пушистые ресницы.
– Ну, это же известно. Когда там Сталин в сорок третьем с Черчиллем и Рузвельтом собрались, у Черчиллева сына был день рождения. И от Советов тот захотел Козина послушать. Сталин команду дал, и Козина на самолете из Магадана в тот же день… Ну, спел он, а переводчица английская ему и говорит: «Одно ваше слово, и вы летите теперь с нами». Опять не захотел.
– Алина, спой нам что-нибудь.
– Ну, слушайте.
Слышна гитара:
Все, что было,
Все, что ныло,
Все давным-давно уплыло,
Утолились лаской губы
И натешилась душа.
Все, что пело,
Все, что млело,
Все давным-давно истлело,
Только ты, моя гитара,
Прежним звоном хороша.
– Эй вы, влюбленные! Вы что, заснули там? Затихли, черти. Спят?..
Нет, мы не спим. Заснуть с ней невозможно. И невозможно просто так лежать, хоть нету уже сил.
– Какие у меня любимые конфеты, помнишь еще?
– «Морской камень». Внутри изюм.
– А как моя фамилия?
– Изюмова.
– Вот то-то… Открыть тебе секрет?
– Какой?
– Сейчас у меня получилось, было все. Первый раз в жизни до конца.
– А раньше?
– Притворялась.
XV
Почему мы здесь? Откуда и куда мы шли, что вдруг оказываемся в этом месте, и так рано, наверное, всего часов восемь. Можно обернуться, глянуть вверх, сразу увидишь эти единственные в Минске башенные часы на гастрономе, угол проспекта и Комсомольской, но неохота даже пальцем шевельнуть. То ли не выспался, то ли собою недоволен, плохое настроение, а может, чем-то виноват?
Застряли тут, на Комсомольской, на бульваре; рядом, с левой руки, проспект Сталина с дворцом Эм-Гэ-Бэ.
Рань несусветная.
Сели на скамейку за спиной этого Железного Феликса, рыцаря революции, Дзержинского, поднятого на метров десять над землей, как Сталин в парке Горького.
Она и говорит:
– Феликс Дзержинский… А в Магадан, в Нагаевскую бухту заключенных привозили на пароходе под названием «Феликс»…
Никого нет вокруг. Нет даже поливалок, машин с цистернами воды; воробьи прыгают, чирикают, копошатся в клумбе под Феликсом, пахнет землей, цветами, зеленью деревьев. Май.
И она спрашивает:
– Ну почему бы тебе прямо не сказать родителям, хотя бы одной маме? Сегодня не приду, ночую в другом месте, у друзей, и все такое. Она поймет. А утром позвонишь, у нас в поселке есть в дежурке телефон, сама с тобой туда пойду, там старик Григорий, он глуховат, он наш знакомый… Мы бы всю ночь провели вместе, мама уехала в Москву, Аля с Томкой не помеха. В конце концов, тебе уже давно семнадцать. Как и мне.
– Видишь, эти воробьи слева от нас…
– И что?
– Ничего хорошего…
– Не поняла…
– А все хорошее маячит, светит впереди, когда птицы справа.
– Это ты открыл?
– Мудрец один был, философ. Если птицы прилетели и сели справа от тебя, то жди хорошего.
– А эти воробьи? Ты видел, как они садились?
– Нет.
– А я видела. Пикировали вот оттуда справа. У тебя нет настроения?
– Наверное.
– Сядь ближе. Так хорошо?..
– А тебе?
– Спрашиваешь.
– Ну, скажи.
– У меня сразу, как только ты меня коснешься…
– Что?
– Будешь смеяться.
– Нет.
– Так у нас говорили.
– Как?
– Моя… писька радуется.
И, она отворачивается.
…Ты смотри, никому не рассказывай,
Что душа вся любовью полна,
Что тебя я в косыночке газовой
Поджидаю порой у окна.
Если любишь, молю, не отказывай,
Об одном только помни всегда,
О любви никому не рассказывай,
Низачто, ничего, никогда.
Вечером возле их дома пахнет жасмином. Окна открыты и освещены, туда влетают ночные бабочки.
– Слушайте, вы, любимцы публики! – Алина подбоченилась, изображает командира. – Я сплю сегодня с Томкой здесь, на маминой кровати. А вы в той комнате, все ясно? Ну, по местам, если не будем ужинать.
Через неделю Троица, престольный праздник.
Саша нараспев:
Троица, Троица,
Земля травой покроется,
Скоро милый мой приедет,
Сердце успокоится.
Алина:
– Уже приехал. Люби его. Помочь?
– Управимся и без тебя. А ты давно мечтаешь, я догадываюсь.
Пауза.
Потом опять Алинин голос:
– Вы, черти полосатые, чего замолкли?
– И возятся, – голосок Томы.
Потом опять Алина:
– Сашенька, сестричка, ты там жива еще?
– Жива, – со смехом отвечает Саша.
– А с вами не заснуть здесь. Сашка, ты помнишь какую-нибудь баюшку колымскую? Или песенку…
В Кейптаунском порту
с пробоиной в борту
«Жаннетта» поправляла такелаж,
Но прежде чем уйти в далекие пути…
– На берег был отпущен экипаж!
– Идут фартовые, а клеши новые, идут бедовые и лезут в раж…
– Еще про Джона Ли:
В нашу гавань заходили корабли,
Большие корабли из океана,
В таверне пировали моряки
И пили за здоровье капитана…
– Но Джон Ли был…
– Но Джон Ли был угрюм и молчалив. Глаза его как молнии блистали… Не помню дальше.
– Мери и Крошка Рита…
Мери и Крошка Рита на вас очень сердиты,
Просят, примите, но заплатите,
Денег у Джон Ли хватит,
Джон Ли за все заплатит…
– Джон Ли всегда таков!
Жарко, хочется пить.
– Алинушка, твоя сестра пересохла, принеси воды!
Алина притворно ворчит, но появляется с кувшином.
Ни сна, ни сил. Ее рука настойчивая и заботливая.
– Я в Грозном родилась, я говорила? Алинка старше на пять лет, она в Москве. А Тома уже в Ларюковом, ей четырнадцатый. А папа наш шатун. На Севере и на Колыме это бродячие медведи. Он приезжает ненадолго. Не может на одном месте. Сейчас вот он в Москве. И мама, как узнала, сразу туда.
Утром за завтраком Алина говорит:
– Ночью вхожу к ним, к тезкам-одногодкам, и картинка: он пузыри пускает в потолок, спит. А она отвернулась от него и хоть гром греми.
…В автобусе все время клонит в сон, все время клюешь носом…
Предо мною вы явились,
Как заветная мечта,
Сердце бедное разбилось,
Победила красота.
Так не буду ждать я казни
От моих безумных грез,
Я люблю вас без боязни,
Без искусства и без слез…
Просыпаешься, когда автобус останавливается.
– Долгобродская, следующая Круглая площадь!
Вдруг выплывает: Алина с Сашей в кухне, слышно хорошо:
– Ты просишь пить, встаю, а окно-то не закрыто. Закрываю, а он там стоит и смотрит, чуть не крикнула от страха.
– Кто?
– Твой военный. Не хотела тебе говорить, ночь портить… И в штатском, как всегда.
– Господи, Алинка, что мне делать?! Я боюсь.
– Во-первых, своему тезке рассказать. И что выслеживает, и что не молодой уже. Твой Шурик мальчик сообразительный, коренной минчанин, что-нибудь придумает. Не подставляй его.
– Убьет когда-нибудь меня, он вроде как не в себе.
– Кто?
– Этот вот тип из эмгэбэ или милиции.
– Так он, значит, оттуда…
– Да.
XVI
Наш десятый Д в самом конце коридора на последнем, четвертом этаже, своими окнами выходит на Красноармейскую. Те, кто сидят у окон, больше глазеют на улицу, чем на черную доску на стене. На улице, как на широком киноэкране, видно все, что едет, и каждого, кто идет. Фоном, задним планом служит четырехэтажная коробка выгоревшего еще в войну здания напротив нашей школы. Каждый год его собираются отстраивать, обновляют перед ним забор, но на этом все и кончается. В Минске еще немало таких мест.
Вот независимо, с презрительной полуулыбкой над всем на свете идет Гера Меладзе. Он в прошлом году был исключен из школы и вздохнул с облегчением. Школа уж сильно осложняла ему жизнь, а жизнь его целиком проходит в футболе. Сейчас он замедляет свой проход под нашими окнами, напоминая, что сразу после школы мы сражаемся с ребятами из 33-й, тоже десятиклассниками, а он, Меладзе, числится в нашем составе до сих пор.
Это фанатик футбола. Меладзе, а никто другой, пустил в оборот выражение «Девятка», объясняя, какие окна в доме, и на каком этаже принадлежат тем-то и тем-то. Именно Меладзе, вечно болтаясь на Красноармейской перед 4-й школой с презрительной усмешкой и дожидаясь своих футболистов из 10-го Д, именно он установил, что наш и бывший его класс, если смотреть с улицы, находится в «правой девятке» школьного здания, то есть, в правом верхнем углу его. Меладзе вообще предпочитал язык футбольный всякому другому и любой дом видел как футбольные ворота, любое же пространство перед собой – как поле для игры.
Упомянув Геру Меладзе, сразу же видишь Яшу Эпштейна, тоже футболиста, но совсем иного толка. Яша в 4-й нашей школе, скорее, футбольный артист, цирковой фокусник.
По два, по три урока подряд он жонглирует футбольным мячом на школьной спортплощадке в кругу завороженной малышни, редко когда позволяя мячу упасть на землю.
Яша подбивает мяч вверх легкими ударами растоптанных желтых сандалий, подкидывает мяч коленями, постукивает лбом, ловит, согнувшись, на загривок, опять вскидывает над собой, на голову, опять с колена на колено, и опять шлепки, удары снизу обеими сандалиями.
Но самый сильный номер Яша отмочил однажды ночью.
Была контрольная по физике. Яша решил исправить свои ошибки сам, перед проверкой.
Эпштейн учился хорошо. Его родители были известные врачи. Отец в больнице номер три имени Клумова считался лучшим специалистом по тромбофлебиту. Яша, как человек из потомственно медицинской семьи, готовился после школы стать студентом-медиком, как Валера Беляцкий. Он болел за каждую свою отметку в десятом, последнем классе, хотел иметь хороший аттестат. И вдруг он понимает, что почти завалил эту контрольную по физике.
Что тогда делает Яша?
В сумятице, в столпотворениях двух последних переменок он работает в поте лица. Он как-то подготавливает одно стекло в стене учительской к тому, чтоб вынуть его из коридора, сделав в стене лаз, раз уж она не сплошняком, но из стеклянных секций. Он как бы для чего-то заходит в саму учительскую, засекает, где выключатель, где шкафы, куда учителя кладут стопки тетрадей для проверки. И он заботливо и незаметно открывает в коридоре окошко, рядом с которым идет снаружи железная пожарная лестница.
Апрельской ночью Яша залезает в школу, потом в учительскую, включает свет, в шкафу находит свою тетрадь и начинает исправлять ошибки.
И надо же! Тут, как нарочно, совершает свой ночной обход сторож, он же и завхоз, он же звонарь, звонящий ручным колоколом, звонком на урок и переменку, колченогий инвалид Квазимодо из фильма «Собор Парижской Богоматери».
Квазимодо видит свет в учительской и отмыкает дверь, чтобы зайти и потушить. Яша прыжком, как ягуар, к окну. А Квазимодо его палкой по спине! Яша за окнами учительской. Балкон над главным входом, белые колонны, архитектура еще довоенная. Для Квазимодо этот подоконник непреодолим. А Яша, чтоб его лицо не разглядели, со второго этажа, как обезьяна, спрыгивает вниз…
Яша неделю конспирировался, переодевался, в школу проникал, минуя Квазимодин закуток в главном вестибюле, рядом с гардеробом. Надеялся, что обойдется как-нибудь. Не вышло. В учительской, когда увидели тетрадь Эпштейна с его исправлениями, сразу все поняли. Плюс к этому ночная детектива, в деталях воссозданная Квазимодой. Яшу едва оставили в школе, пожалели, все-таки выпускник. Сутулый, с крючковатым носом, он мрачно курил в уборной и ни с кем не разговаривал. Его умное, всегда насмешливое узкое лицо с морщинами вокруг глаз, смотрелось постаревшим.
Больше всех обрадовался Яшиному ночному провалу Сапега, новый учитель по Конституции СССР, Сталинской конституции. Яша его возненавидел, и Сапега это знал.
Сапегу сразу невзлюбили все. Во-первых, не понравился его вид. Лицо у него мрачное, с черными кругами под глазами, нос длинный, саблей загнутый ко рту. Темные волосы, темный костюм и темные рубашка и галстук.
Черный ворон, сказал Тедя Березкин, ему виднее всех на его первой парте. И Коля Лазарев это подтвердил, его первая парта еще первее, под самым носом у Сапеги.
Так вот, Лазарев и начал первым изводить Сапегу-Конституцию. Он будто бы что-то запоминал, глядя в глаза Сапеге, Радзивилу Францевичу, но, прикрыв рот ладонью, мурлыкал после двух или трех двоек, уже поставленных Сапегой, мурлыкал «Чубчик», песню Лещенко.
– …И мне бе-бе-бедному да мальчонке, эх, цепями ножки да ручки закуют. Но я Сапеги не боюся, Сибирь ведь тоже русская земля…
Сапеге невозможно угодить. Что бы и как бы ни пел, то есть, ни говорил об этой конституции, ему не нравится и только злит. И что она правильная, и что такой больше нигде в мире нет, и что недаром она Сталинской зовется, – ничего этого у Сапеги не проходит. Мрачнеет, чернеет лицом все больше, раздражается, придирается, затевает скандал.
– Он сам ее терпеть не может. И злится потому, что ему нужно ее вести, эту конституцию, – вдруг говорит Спринджук Володя.
И мы открываем рты. Вот это новость! Вот это мысль!
И неслучайно этот вариант выдвинул именно Спринджук. Уже и раньше думали, а вот сейчас уже увидели: Володя самый у нас умный, только не лезет в корифеи.
Спринджук от всех нас в классе давно отличался, а мы как бы и не замечали. Он как-то культурнее, чем остальные, никогда не выругается матом, очень спокойный, ко всем относится с равным терпением, объясняет все по математике, всем дает списывать решения задач и уравнений. Он не выходит в круглые отличники, но как раз поэтому становится для нас фигурой самой авторитетной.
Бывает, он вступает в долгий разговор с Виктором Зеликовичем Голодом, и этот разговор моментами похож на спор. Никто не задает вопросов больше, чем Спринджук, и всегда Голод терпеливо отвечает.
Володя любит легкую атлетику, прыжки в длину и в высоту. Но главное, в нем что-то есть такое, чего нет у нас, этого мы не можем назвать словами. Его превосходство еще больше притягивает тем, что оно не явное, оно не торчит, не мозолит глаза. А иногда, при всяких подзаборных и уборных шуточках, словечках Спринджук краснеет, и мы тогда как-то особенно сильно чувствуем его непохожесть на нас.






























