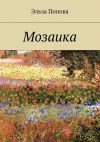Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
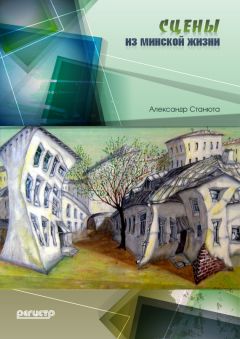
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мистерии XX века
Я бы хотел, чтобы меня кто-нибудь спросил: а что вас очень сильно удивляет в жизни в последнее время? Что вызывает недоумение, оставаясь вовсе не трагическим, не катастрофическим, но, тем не менее, повергает вас в психологический нокдаун? И я ответил бы: мистическая связь места и времени.
…Недавно по одному из кабельных каналов показывали сюжет, и голос за кадром говорил: «Вот квартира, в которой жил Освальд, убийца президента Кеннеди». Камера скользила по обстановке, по лицам людей, которые сейчас там живут. Это минская квартира на 3-м или 4-м этаже с окнами на Свислочь, чуть правее Дома-музея I съезда РСДРП на улице Коммунистической… Боже мой, опять Освальд… Это тянется с 1963 года! И у меня начинает работать сцепление памяти, и я вижу совсем другой сюжет. Минск, улица Толстого, маленькая, узенькая, зеленая. Деревянный дом, там живет моя двоюродная сестра, и там я, ребенком, пережил войну. Калитка, огромные кусты сирени. Мы с женой бывали у нее часто. И сидели за тем же столом, в той же комнате, где сидел в свое время… Ли Харви Освальд! Сначала со своей подругой Мариной Прусаковой, девушкой-блондинкой, – она работала в больничной аптеке возле «Динамо» с моей двоюродной сестрой. Они несколько раз приходили в гости и однажды даже столкнулись с нами у двери… Потом Освальд и Марина поженились и уехали в Штаты. А потом он в Далласе с 5-го этажа склада учебников стреляет в президента Кеннеди! Один ли он был или вокруг него существовали другие, а Освальд всего лишь подсадная утка, – неважно. Меня неотступно преследует другое: тот человек, который сидел за столом на улице Толстого – неказистый, странный немножко, – стал известен на весь мир как убийца!
Потом проходит еще какое-то время. В этом же домике, в этой же комнате мы опять собрались за семейным столом. Работает маленький черно-белый телевизор «Неман». И именно здесь мы впервые увидели кадры, как ведут Освальда, как выходит человек в шляпе и стреляет ему в живот – и его убивают на наших глазах! Того человека, который когда-то входил сюда через калитку, сидел на тех же стульях, что и мы сейчас. Более того, я целый год работал на радиозаводе в одно время, когда там работал Ли Харви Освальд…
Может быть, эта цепочка видна только мне?.. И я задаюсь вопросом, почему жизнь нашей семьи пересеклась во времени и пространстве с совершенно чужим, далеким событием, так до конца и не расследованным?
Проходит еще много лет. Уже, казалось бы, забыто убийство Кеннеди, лишь иногда всплывая сюжетами, как вот сейчас, на ТВ. Вдруг в 1980-х годах в Минск приезжает американский писатель Норман Мейлер. Он пишет документальную прозу – личные расследования и собирает материал об Освальде. Звонит сестра: «Ты его знаешь?» – «Конечно!» – «Уж не представляю, какими путями он вышел на меня, но просит, чтобы я рассказала о Марине…»
Через годы я читаю интервью Мейлера западной прессе. Американец говорит, что побывал в СССР, в Минске: «Это очень бедная и очень усталая страна»… А через некоторое время на имя моей сестры на улицу Толстого пришла из Америки посылка – толстая книга «История Освальда: американская мистерия».
И я снова задаюсь вопросом: зачем, с какой целью твоя личная жизнь, занятия пересеклись с мировыми событиями, зачем их контекст втесался в наши судьбы? Есть ли во всем этом смысл? И вообще, есть ли смысл в случайных пересечениях? Но – прихожу я к выводу – есть вещи на свете, которые ты лучше понимаешь из вопросов о них, нежели из ответов. Конечно, не хочется думать о том, что все вокруг бессмыслица, что все это – просто так, нагромождение случайностей. Смысл есть! Но никогда он тебе не откроется. Разве что единственным: мир – тесен…
И все же зачем, для чего все наше пересекалось, соприкасалось, сходилось во времени и пространстве со всем таким далеким и чужим? С той историей,
которая описана в книге Мейлера,
которую мы листали с моим американским студентом Джефри Брокхаузом,
которого счастливо минул дома, в Оклахома-сити взрыв сумасшедших террористов и который приехал учиться в наш город Минск,
который когда-то рвали на части, испепеляли террористы в армейской немецкой форме с надписями на пряжках: «С нами Бог»…
И так – бесконечно, по бесконечному кругу, по меньшей мере, до того дня, когда стало известно, что Марина Прусакова из Минска, бывшая Освальд, живет где-то на ферме своего второго мужа, а от первого у нее две дочери.
Уже взрослые, подумал я, – что же они знают о прежней жизни своих родителей, как представляют себе эту жизнь – опять-таки во времени и пространстве – и могут ли вообще ее себе представить?
А телевидение в этот момент показывало беженцев на дорогах, спасавшихся от бомбежки, и было все равно, где именно это происходит, потому что это продолжает и продолжает происходить – и не в одном только месте.
– Ты смотришь? – спрашивает позвонившая в эту минуту старшая сестра. – Совсем как мы когда-то, в сорок первом.
И я мысленно говорю себе, что все это продолжает происходить не только в разных местах, но и в разное время: одно и то же, одно и то же…
Так разве же извечную мистерию жизни и смерти, называемую историей, легче понять, если обозначить ее как американскую или какую-либо иную?
И есть ли действительно во всем этом какая-нибудь связь – и что, в конце концов, я ищу, что стараюсь понять? Трудно сказать.
Но что-то опять и опять подсказывает мне, что некоторые вещи на свете можно лучше понять скорее из вопросов о них, чем из ответов, – пусть их и тычут тебе в глаза из телевизора по несколько раз в день.
Свое и чужое
Однажды где-то в «Записных тетрадях» Достоевского бросилось в глаза выражение: «в припадке общежития». Трудно, наверное, найти более точные слова для выражения того, что можно назвать инстинктом коллективизма.
Преданность непоколебимой истине коллектива воспитывалась в нас с детства. Но всегда ли мы достаточно осознаем, что это такое в будничных жизненных проявлениях? Например, разве не синдром коллектива как святого непогрешимого большинства нередко заставлял у нас, людей одаренных, притворятся посредственными, чтобы не обидеть невольно кого-нибудь рядом? Неосознанная и незамеченная забота о том, чтобы быть как все – во всяком случае, выглядеть и вести себя так…
Ничего удивительного, мы с малых лет слышали один и тот же призыв с глаголом повелительного наклонения: объединяйтесь! Но это только бороться лучше вместе. А жить лучше каждому самому по себе. Тогда в результате и будет народ, а не просто население. А то народом нередко только клянутся, а коллектив как нужное для выборов большинство собирают из населения. И именно в коллективе, между прочим, может быть такой мизерной цена жизни одного отдельного человека – он же, мол, существо коллективное: единица вздор, единица ноль, «голос единицы тоньше писка», – убеждал Маяковский. И именно в коллективе можно было так легко управлять людьми по принципу большинства: не хочешь – заставим.
И нас недаром приучали с детства, в школах: чувствуй миллионов плечи, а нет, то: «ваше слово, товарищ маузер!» Когда я, наконец, осознал эту апологетику насилия, то позаботился, чтобы в нашей квартире не оставалось ни одного издания той поэзии.
Обязательная идея обязательного коллектива с наибольшим эффектом реализуется в коммунальном бараке. Как и многие другие, я понял это давно. Но прошло немало времени, пока в зарубежных поездках я воочию убедился, что такое уважение к личной свободе человека в самых простых обстоятельствах. Скажем, когда к нему не придвигаются вплотную, не хлопают по плечу в привычном восторге панибратства, когда сохраняют его пусть маленькое, но приватное пространство, его личную территорию, не вторгаясь в нее и излишне громкими голосами – на улицах и в транспорте, вокзалах и гостиницах, всюду, где человек не один.
Это особенно было заметно, помню, за океаном, в стране, горько названной писателем «страной желтого дьявола». Я припомнил, как кричат наши люди, уверенные, что просто разговаривают, как маются они без оглушительной музыки в санаториях, как мгновенно сбиваются в табор на пустынном пляже, больше всего боясь остаться один на один с самим собой. Вспомнил это и сказал себе, что наши былые вожди могут спать спокойно: «западный индивидуализм» и наш восточный коллективизм – две вещи несовместимые.
В толпу, кроме страха, тянет внутренняя пустота, и всегда есть какой-то магнит, который собирает эти пустые оболочки в некое количество. Какое из него родится качество – неизвестно. Догадываешься только, что от количества этого можно ждать чего угодно. К тому же стихия множества, массы, толпы – это еще иррациональность. И если она начинает персонифицировать, находясь над всем и всеми… – уроков этого в истории достаточно.
Наши привычные представления – что в них остается истинным, а что искажено превратным смыслом, который мы по инерции вкладываем в них?
К примеру, написанное и сказанное у нас о народности литературы и литературного языка. Белорусский язык, как и народ, по характеру своему мягкий и добрый, и он многое прощает авторам. Он будто чувствует, что литературу на нем пишут еще сравнительно недавно, хоть счет и идет на века, он скромен и доброжелателен, терпим. И он терпелив, он ждет, когда пишущие на нем станут менее самонадеянными: ни один другой язык так не спрячет их недостатки, как стыдливо прячет это родная «мова». Так, наверное, она им дана не для того только, чтобы, подделываясь под нее, за нею же и отсиживаться.
Еще один пример привычки к представлениям, в сущности своей превратным: упоминание в одном ряду, чуть ли не как синонимов, свободы и равенства – видимо, с неосознанной оглядкой на известный лозунг французского революционного происхождения: «Свобода, равенство, братство!» Но равенства при свободе не бывает, сколько можно обманывать себя? Как и свободы при равенстве. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть через окно во двор: увидишь ли там на деревьях хотя бы две ветки одинаковой длины? А ведь природа – это свобода в максимальной наглядности.
Не равны, не похожи друг на друга и люди – умом, силой, способностями, красотой, характером. Это большой грех – внушать каждому, что он ровня всем, потому что когда человек убеждается в конце концов в чьем-либо преимуществе, это ему радости не приносит. В свое время уже провозглашался земной рай на основе всеобщего равенства. Хорошо известно, чем кончился этот рай, и как вели себя там люди маленькие, чувствуя и зная, что они не великие. («Все в мире зло от маленьких людей», – сказано у Шекспира в «Ричарде III».)
Равными люди могут и должны быть не между собой, а только перед Богом и законом.
А свобода? Ложно-гуманистические установки делали ее понимание иллюзорным и идиллическим как свободы одного только добра. На деле же при этом свободнее и зло. И тогда открещиваются: нет, пусть опять неволя, только бы не вырастало зло. Совсем как памятные нам: «только бы не было войны». И это еще не говоря о свободе как невыносимом бремени или наказании: как, только мне самому теперь выбирать, думать, отвечать и спасаться?.. Еще в первом веке нашей эры бывший раб, философ Эпиктет рассказывал басню о рабе, которого отпустили на волю, а тот, поплутав, вернулся проситься назад.
«Оптимистическая трагедия» – это название пьесы символично и показательно для эпохи, уходящей сейчас в прошлое, но продолжающей жить в сознании многих и многих. Слова говорят о типе мышления и способе действия. В той эпохе людей всегда успокаивали, готовили к любому варианту: да, но вместе с тем – нет; нет, но одновременно – и да; полностью – но не до конца; окончательно – хотя и не совсем.
Эта уникальная фразеология отражает не диалектику. А уникальную в истории человечества попытку во что бы то ни стало заговорить, заклясть реальность и обмануть самих себя в этой реальности, чтобы сказку сделать былью. И чтобы объявить: идеал достигнут, царство божье на земле есть! Смотрите, кто только ни пробовал, а мы-таки сделали. А про то, что прямое соединение христовых заповедей с земными, житейскими целями есть профанация этих заповедей, – про это молчок.
Зато, сбросив идеал с высоты вниз и накрыв его колпаком социума, – как легко стало любое игнорирование человечности оправдывать социальными причинами!
В коллективной жизни простые, короткие отношения с людьми, приятельство нередко ведут к панибратству. Панибратство же порождает презрение. Поэтому есть смысл сохранять определенную дистанцию между собой и другими. И нужно дорожить возможностью что-нибудь построить для себя в том, что можно было бы назвать кругом своей личной, приватной культуры.
Это далеко не только любимое чтение, впечатления от искусства и тому подобное. Но вообще то, что нравится, что способствует положительному душевному состоянию, стимулирует восприимчивость и одновременно успокаивает. Тут имеет значение все, например, любимые места в городе или стране, время года или часть суток, обстановка в доме, отношение к работе, привычки свободного времени. Но главное – какие люди вокруг тебя, как ты себя чувствуешь с ними.
Все это полезно чаще осознавать как именно свое, для себя выбранное и адекватное. И нужно стараться не изменять этому, а значит, себе самому, не носиться душевно расхристанным где попало, не хвататься за все, что мелькнет, без разбора и не впускать случайно накатившее внутрь себя. Потому что чем больше набиваешь в мешок чужого, тем меньше остается за пазухой своего.
Однако все выбранное и понятное как свое лучше сохранить, не особенно распространяясь о нем. Об этом говорил Тютчев в своем стихотворении «Silentium!»
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью – и молчи!..
Тот день, тот год, тот век
Бывает, это придвигается опять, ближе и ближе. И опять спрашиваешь себя: ну что там, в выцветших обрывках памяти, чего еще не понял до сих пор? Что силишься увидеть нового, в который раз разглядывая их, стараясь задержать перед глазами? Скажем, то, как между железнодорожным полотном и серой стеной, ограждающей станционную территорию, немцы ведут колонну советских военнопленных…
Да, вот это: солнечный жаркий день, ближе к вечеру, и они, как всегда в то лето, идут со стороны дальних, неразрушенных пакгаузов куда-то к Западному мосту.
Почему каждый раз в этом направлении? Непонятно. Но дело не в этом. А в чем?
Они – наши, в выгоревших, белесых гимнастерках, без ремней, в галифе; а на ногах что? Босые, что ли? Уже и не вспомнить. Но и не это главное.
Все мы, ребята с улицы Толстого, уже бежим рядом с колонной, ловкие и настороженные, оглядываясь на конвоиров с овчарками, когда кто-нибудь из пленных собьется с шага, замешкавшись возле нас. Потому что дело уже идет своим чередом, на ходу: мы им – вареные картофелины, огурцы и лук, зеленый, с белыми головками; они нам – деревянные самолетики, раскрашенные и нет, со звездами и без, истребители и бомбардировщики. И те, что садятся на воду, как лодки с крыльями. И те, что похожи на самолеты Чкалова и Громова, летавших через Северный полюс. Но это мы уже поймем потом, да и не все, а лишь те из нас, кто останется жив до 3 июля 1944 года, когда Минск освободят…
Взрослые считали каждый кусок, но все же старались передать или добросить до разгружавших вагоны пленных что-нибудь съестное. И бабушку Каролину Стефановну немецкий конвоир, случалось, толкал в плечо прикладом, осыпая ругательствами. Но пленные, за которыми мы бежали вечерами в то лето, выходит, мастерили свои самолетики, понимая, что получить что-то еще и от полуголодных детей можно за игрушку, и чем она лучше, тем больше на нее удастся выменять…
И как-то почти не замечались тогда в колонне те, что шли, не глядя на нас, без игрушечных самолетиков, а ведь их было большинство…
И еще то, о чем при нас рассказывали тогда взрослые, чаще всего женщины.
Это они, женщины, в конце зимы сорок второго года могли видеть из окон на близкой от нас Московской улице колонны пленных, которых вели куда-то к Товарной станции всю ночь, – и всю ту ночь слышалась стрельба. Утром там лежали убитые, чаще всего ничком. Потому что, наверное, сперва падали на колени от изнеможения – такими исхудавшими они были. И везде была видна замерзшая на утоптанном снегу кровь…
Вот об этом тогда рассказывали дома и соседям женщины, а мы запоминали на всю жизнь.
Три года из всех своих прожитых мы, минчане, родившиеся до войны, жили не в СССР, хотя не уезжали не то что в другую страну, но даже со своей улицы.
Эти три года, с 27 июня 1941-го до 3 июля 1944-го, мы были в оккупации. Все в том же – и уже не нашем Минске. Над Домом правительства, напротив которого ютился деревянный домик деда, колыхался красный флаг с черной свастикой в белом круге.
Наше детское житье-бытье в том Минске никак не вынуть из всего, очерченного судьбой. Оно еще живое, выразительное в мелочах, подробностях. И злое хаканье овчарки, с которой поднимается на наше крыльцо жандарм в подбитых железом сапогах, глубокой каске и со свисающей с шеи металлической полукруглой пластиной. И забрызганные грязью, длинные, тоже чем-то пугающие плащи вермахтовских офицеров, которые нервно курят возле буксующей легковой машины у дома, где они гуляли всю ночь. И тот пожилой, в очках, невоенного вида немец в пилотке, что осторожно несет авоську с гранатами в машину, куда уже ведут подпольщика Володю с нашей улицы…
Все это еще с тобой. И если пожелаешь, снова явится перед глазами. Но как свидетель, который долго и сам побаивался вызвать подозрение. Потому что все уцелевшие в Минске к 3 июля 1944 года, как бывшие во вражеской оккупации, стали для вернувшейся власти в чем-то «не нашими».
В паспортах у взрослых это отмечала особая красная печать: могли выселять и ссылать. Мы же, дети, в школьных биографиях, вступая в пионеры, в комсомол (и даже поступая в вузы в 50-х), скрывали свою «оккупацию» – нам так советовали старшие. И ясный смысл понятных слов – война и мир – для нас, бывало, запутывался или угасал.
Зато так легко понимаем мы теперь цели всякого умышленного запутывания жизни, искажения ясных представлений о ней, особенно если это делается с битьем себя в грудь и клятвами в благих намерениях.
Те три года… Сперва, кажется, пытался вбивать какие-то скобы в крыльцо, чтобы немцы, уже занявшие Минск, споткнулись и упали, заходя в наш дом.
Потом – снежки, которые лепил в оттепель и закаливал на морозе. Ими однажды обстрелял-таки из палисадника проезжавший черный «Хорьх», откуда глянуло озабоченное чем-то совсем другим горбоносое лицо под высокой фуражкой с орлом.
Позже – то утро, когда мы подкрались к неподвижно лежавшему на замерзших помоях немецкому солдату и ударили по каске самопалом, чтобы, если он мертв, а не пьян, считать, что это мы его убили.
И то, как везли на аэродром подорванного миной гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе. Мы, ребята с улицы Толстого, хорошо видели это с травянистого откоса у Западного моста. На лафете огромной пушки стоял гроб, покрытый красным флагом со свастикой в белом круге. Впереди и сзади ехали мотоциклисты, черные легковые машины. Все это двигалось по безлюдной улице в каком-то мрачном, угрожающем порядке.
Это мы видели, но не видели тогда таких улиц, как, например, Беломорская, где дома стояли пустыми, с раскрытыми настежь дверями, потому что все жители были куда-то увезены гестапо – и навсегда. И таких улиц, говорили, было бы в Минске больше, если бы ожидавшей ребенка вдове Кубе местная врач не посоветовала остановить массовые аресты и казни во имя благополучного исхода родов…
Или тот яркий летний день, когда за мной, бросившим камень в дверцу «Опель-адмирала», пришел во двор и стал, глядя на нас с бабушкой, чистившей на крыльце картошку, до столбняка испугавший меня человек в сером пиджаке, галифе и сверкающих сапогах. Он не достал пистолет, только молча смотрел на нас, а потом ушел. Но я в отличие от ничего не подозревавшей бабушки все понял так хорошо, что это уже не забывалось никогда.
А тот зимний вечер, когда комендантский патруль, заметив щелку света в неплотно зашторенном окне, прострочил автоматом нашу квартиру с улицы? Пули прошли между нами, когда мы все были в одной крохотной комнатушке. Пробоины обнаружили в стене и в черном круглом репродукторе.
Все это после 3 июля 1944 года отступило куда-то далеко и стало вспоминаться только много лет спустя.
И ночные налеты наших бомбардировщиков, их «фонари» на парашютах над вокзалом для лучшей видимости. И мы со взрослыми во дворе, восхищенные тяжелыми близкими взрывами. И длинные лучи немецких прожекторов, что, как ходули великанов, перекрещивались в темном небе, иногда ловили и вели для зениток крошечный серебристый силуэт с облачками разрывов вокруг него. И как недели через три после 3 июля немцы прилетели-таки ночью бомбить город, и утром у забора лежали с забитыми землей глазами и ртами братья Ушпянские, с которыми мы вместе играли еще накануне вечером.
А утро того памятного дня – 3 июля – было солнечным, помню точно. Вижу себя на крыше сарая на Слесарной улице. Мы перебрались туда, к знакомым, со своей улицы Толстого за вокзалом, чтобы немцы, оставляя Минск, не забрали с собой наших взрослых как рабочую силу.
На крыше сарая были люди, они поливали ее водой из ведер, рядом что-то с треском горело, а вверху рокотал самолет. Вдруг я услышал:
– Парашютист! Это наш парашютист!
Все смотрели в небо. Теперь я понимаю: ниже Слесарной была улица Пулихова, а парашютист, значит, был примерно над рекой и нынешним концертным центром на улице Октябрьской.
Мне так хотелось увидеть его, что даже глаза заболели. Я вглядывался в небо изо всех сил. Все видели нашего парашютиста, а я – нет. Но разве можно было признаться в этом? И я негромко крикнул вслед за взрослыми:
– Да, наш парашютист!..