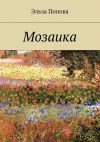Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
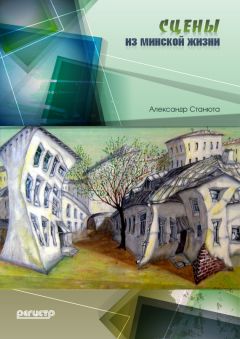
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Начать с Дон Кихота…
Владимиру Слободчикову был 21 год, он учился на 3-м курсе скульптурного отделения Белорусского государственного театрально-художественного института и сделал из бронзы своего «Дон Кихота». Это была маленькая скульптура высотой 27 сантиметров. Знаменитый рыцарь Печального Образа с блаженно закрытыми глазами лежит на спине своей лошади, свесив длинные ноги и положив под острую бородку костлявые руки с выставленным вперед копьем. Старая кляча Россинант, грубый материалист, стоит, опустив голову к траве. А Дон Кихот во власти грез. Не нужно никого и ничего. Ни Санчо Пансы, ни ветряных мельниц. Он, наконец, свободен от образов врагов – и счастлив этим. Он видит то, чего не видел никогда с открытыми глазами.
А шли 70-е: фанфары военных юбилеев, Кобзон и Штирлиц (или Озеров с патриотическим хоккеем), на сцене – сталевары и партизанские мадонны в выставочных залах. Как тогда говорили: «Время выбрало нас» – и «не спится только ветерану». При чем тут книжный рыцарь-идеалист, закрывший глаза на действительность?
Такого Дон Кихота еще не было. Его приобрела у минского студента Третьяковская галерея в Москве. Тогда это была еще только первая из целого ряда скульптур, приобретенных Третьяковкой у Владимира Слободчикова.
Тот его «Дон Кихот» явился из мира детских впечатлений от прочитанного. Такого рода впечатления живут в его творческом воображении неотделимо от воспоминаний, представлений жизненных. Мир реальный, земной и мир культуры, искусства соединены у Слободчикова в одно целое. Они взаимно питают, зримо и объемно поддерживают и как бы выталкивают друг друга из воображения мастера в осязаемую форму, понятную всем: «Спелые яблоки» (дерево) и «Размышление художника» (бронза), «Сафо» (гранит) и «Хлеб» (гранит), «Мадонна» (бронза) и «Черная быль» (бронза, мрамор), «Шагалу посвящается» (силумин, гранит) и «Мое рождение» (бронза, гранит)…
Он родился в Долгиново Минской области в 1952-м. На 3-м курсе института впервые участвовал в художественной выставке. С 1989 года заведует кафедрой скульптуры Белорусской Академии искусств. А работы его находятся в Беларуси, в Государственной Третьяковской галерее, в музеях России, в галереях Италии, Германии, Польши, США, Швейцарии, в частных коллекциях.
Чаще всего свои скульптуры Владимир Слободчиков выполняет в бронзе, шамоте, силумине, мраморе и дереве. Художественная критика отмечала, что к дереву, традиционному для белорусских скульпторов материалу, у него отношение особое. В этом материале выполнены «Кукольники», «Вдовы», «Соприкосновение» и известные «Ивенецкие мастера», где дерево как бы само благодарно отозвалось на стремление скульптора выразить в пластике суть народного творчества.
Он работает в основном в области станковой скульптуры. Но что-то влечет его и за ее пределы. В частности, к работе над памятниками историческим культурным деятелям – С. Монюшко, Ф. Скорине, В. Ваньковичу. В Минске, еще в 1992 году, установлен его памятник Максиму Богдановичу возле дома-музея поэта на Рабкоровской улице.
Обращается скульптор и к библейским сюжетам: «Благовещение», «Ангел с обгоревшими крыльями», «Положение во гроб», «Пиета», «Адам и Ева».
По приглашению из Швейцарии он работал в городке Баден недалеко от Цюриха. Хозяева предоставили материал – превосходное по фактуре и цвету дерево. Он оставил им три работы по два с лишним метра высотой: «Афродита», «Сафо» и «Ахиллес». Я не видел этих скульптур. Но мне думается, что и в них, как и в других работах Слободчикова, можно ощутить то, о чем говорил некогда великий Роден: линий вообще нет, это только границы объемов; жизнь зарождается внутри и выталкивает себя наружу из глубины… Да, все и вся вокруг – объем или рельеф. Мы среди этого. Всегда, везде. Ибо в объемах и рельефах движется или хранится жизнь.
Пой, Марлен, пой
Кто только не писал об этом легендарном образе в искусстве недавнего XX века – о Марлен Дитрих. Был повод: десятилетие ее ухода в мир иной на 91-м году жизни. Но и без поводов о ней писали когда хотели. На что рассчитывать, взявшись писать о ней что-то еще? На свою память? А если никогда ее воочию не видел? На внутреннее ощущение темы, воображение, возможные сопоставления? Начнем – а там посмотрим.
Летом в старинном минском кинотеатре «Победа» с неделю шла ретроспектива ее фильмов. Опять-таки, старинное кино: черно-белое, экран порой слегка рябит. Но звук хороший. И голос Марлен Дитрих мгновенно сокращал дистанцию во времени, будто обволакивал, сближал с далекой жизнью ее героинь.
На третий день показывали большой документальный фильм о ее жизни, снятый Максимилианом Шеллом.
Слышен ее голос, но сама она не видна. Занавес, напоминающий театральный, закрывает левую часть комнаты и большого стола. Справа сидит Шелл и задает вопросы. Голос старой женщины из-за занавеса звучит то ровно, устало, то раздраженно и прерывисто. Идут черно-белые эпизоды фильмов, в которых она когда-то блистала. «Голубой ангел», где она, молодая Дитрих, поет в дешевом кабаре, и «Марокко», «Шанхайский экспресс»…
Приближаются, всплыв из десятилетий забвенья, увеличенные фотоснимки. Она в жизни: грустит и смеется. Она на сцене: поет и раскланивается. Она в остановленном кинокадре: играет, а значит, живет.
Далекое, выцветшее время, наивные, но искренние для тех лет переживания. Сентиментальные, но тогда глубокие откровения. Взгляды и выражения лиц, жесты и позы.
Хотите увидеть, с какой неимоверной быстротой все наше, современное уносится назад? Посмотрите отрывки из прежних фильмов. Целлулоидная лента, запечатлевшая жизнь в движениях и голосах, беспощадно правдива. Но она так быстро стареет!..
И голос старой женщины из-за занавеса раз за разом повторяет:
– Вздор! Все это вздор! Мои роли, мои фильмы… Все!
А тебе за всем этим слышится: «Разве можно говорить теперь о том, что было? О том, чем я жила, кем я была – вот отсюда, из того, во что я превратилась; из того, что мне остается? Какая жестокость – позволить мне говорить о себе, зная, что я не в силах отказаться, но уже не могу показаться! Талант и молодость, слава и деньги – ну где сейчас все это? Руины прошлого и боль воспоминаний. Вздор!»
Часа полтора идет этот фильм. И часа полтора она за кадром занимается разрушением того, что на экране, – и саморазрушением.
– Я не люблю смотреть свои фильмы. Смотреть на саму себя? Вздор.
Она занимается этим самоотрицанием с каким-то даже упоением. И тут мелькает: а насколько искренне? Может, и здесь доля игры, актерства, лицедейства? Потому что так и должно быть – и бывает – у тех, у кого актерство не просто профессия, но судьба и человеческая суть.
И вдруг голос невидимой Дитрих после слов Шелла:
– Этого вопроса в нашем договоре нет.
Но где-то в середине фильма в темном занавесе, который ее скрывает, вырезается небольшой квадрат, и в нем – только на долю секунды – появляется то, что в договоре, видимо, все же есть: лицо теперешней Марлен, 80-летней. Изображение уже не черно-белое, но и не цветное, только чуть расцвеченное. Как если бы женщина, привыкшая оставаться женщиной всегда, подкрасила губы…
Да, только какие-то доли секунды – и квадрат с лицом Дитрих стремительно уменьшается, улетает от нас куда-то в глубь экрана, превращается в светлую точку, исчезает. Это последний кадр, в котором она снялась. Это последняя ее роль – самой себя.
А ее голос продолжает:
– Да, я любила Хемингуэя. Только совсем не так, как думают… Нет, после такого все бы исчезло, пропало бы. Разве это можно объяснить?
Американская журналистка Л. Росс в свое время видела, как Марлен Дитрих была гостьей четы Хемингуэй в нью-йоркской гостинице в 1949 году. Дитрих было сорок восемь. Ее внуку шел второй год, и ее дочь ждала второго ребенка. «Я стану двойной бабушкой…»
«Капуста», как звал ее писатель, рассказала, что живет в отеле «Плаза», но сидит с внуком в квартире дочери, пока молодых нет дома, и под утро едет с узлом детского белья к себе, стирать его. Шофер такси сочувствует ей, принимая за прачку, а она выходит за квартал до «Плазы» и идет дальше пешком.
«Ты это делаешь не для них, а для себя», – говорил Хемингуэй серьезно, оставив свои шутки.
А потом дочь выросла, ее имя стало Мария Рива, и после смерти актрисы она выпустила книгу «Моя мать Марлен Дитрих».
Это два толстых тома в суперобложках. Они продавались и у нас, очень дорого. В них дочь рассказала о жизни матери с типичным ныне на Западе уничтожающим реализмом детей, пишущих о «больших» родителях.
Старость, которую всемирно известная актриса ограждала от чужих глаз, безжалостно обнажена. То ли для эпатажа читателей (т.е. для рынка), то ли по причине любви-ненависти. Возможно, здесь и то и другое вместе. Натуралистические бытовые и даже физиологические подробности, мягко говоря, не украшающие мать, выставлены на всеобщее обозрение. Все на продажу.
Где-то читается: а она сама этого хотела, Дитрих. Хлопнуть дверью после смерти. С того света закатить скандал. Может, и так. Пусть даже и хотела. Но ведь это мать. А дочь: «Я не люблю ее». (Ах, не в твоем же «я» тут дело, безоглядный автор подноготной).
Мать навсегда останется в истории культуры. Немкой, не вернувшейся в Германию после прихода к власти Гитлера. Уроженкой Берлина, выступавшей на всех фронтах союзников в последней мировой войне против нацизма. Ее деятельность в антифашистском комитете, фонде была не ради рекламы. Ее «Шоу одной женщины», с которым она объездила полмира, держалось не на деньгах, а на потребности людей после войны в добре и человечности.
В 1930 – 1960-е годы она была самой популярной актрисой мира – безголосые крикуньи и крикуны нынешней «попсы» так никогда и не узнают, что это такое. Среди ее любимых друзей был не только Хемингуэй, но и Ремарк, тоже антифашист, выведший ее в романе «Триумфальная арка» в образе актрисы Жоан Мадо. Гитлер через Геббельса, Риббентропа и послов звал ее в Германию, обещая триумфальный въезд в Берлин через Бранденбургские ворота. Бесполезно.
У нее были свои принципы. У нее были ценности, которые сегодня звучат для некоторых уже слишком высокопарно: духовные. Она твердо знала, что любит, а что нет, где добро и где зло, что хорошо и что плохо. Здесь ее не беспокоила ныне шокирующая многих интеллектуалов «однозначность». Для нее это была просто определенность. Потому что она была внутренне цельным человеком при всей богемности окружения.
Ее родословная – родословная Марии Магдалены фон Дитрих (по отцу, а после его смерти – фон Лош) – шла от прусской аристократии. И ее тошнило от уголовного сброда и закомплексованных плебеев, собравшихся вокруг Гитлера, чтобы взять реванш, отомстить всему миру за свою никчемность.
Ее отчим, офицер, пал на поле брани в первой мировой. И «днем в мундире солдата американской армии она выглядела так же хорошо, как вечером на сцене», – писал Хемингуэй.
В начале 1960-х она приехала на гастроли в ФРГ, и неонацисты сорвали на концерте с нее платье, угрожали взрывами. Так что уже тогда она знала, что такое ненависть и терроризм. И живи Дитрих сейчас, она, уйдя со сцены, предпочла бы, скорее, испытанный способ – укрыться в одиночестве с воспоминаниями и виски, а не подновлять свое имя демонстративной защитой преступников-сепаратистов, как делает англичанка В. Редгрейв.
И отец, и отчим Марлен были военными людьми. Но в ней самой не было ни жесткости, ни властности, ни муштры. Ироничность, юмор, порой безжалостное острословие – да. Но главное – неслащавая, некукольная женственность и музыкальность. Характер и суть женщины – в ее голосе. «Если бы у нее не было ничего другого, кроме голоса, им одним она могла бы разбивать сердца». Опять Хемингуэй: он знал, что говорил, и не только о голосе: «Она отважна, красива, надежна, любезна и великодушна».
Ни один фильм с ее участием не стал шедевром. И даже ни одна роль сама по себе. Знакомая театральная актриса как-то сказала мне: «Дитрих? По-моему, актрисой она была средненькой. В известном «Нюрнбергском процессе» в кадрах со Спенсером Трэси (судья) она явно ему проигрывала. А вот ее пение, этот низкий, теплый, бархатный голос… Она поющая – вот это да!»
Такими голосами звучит время, где еще нужна была мелодия, а не один ритм. Мелодия тянется к добру. Ритму же все равно – добро ли, зло ли. Мелодия – привилегия тех, кто способен чувствовать; ритм – тех, кому хочется только двигаться.
Голос Марлен Дитрих – неотъемлемая составляющая фонограммы XX века. Одна из звуковых дорожек эпохи, жизни наших родителей и нашей юности.
В нем переливы времени, чувств и настроений. Жажда тепла, печаль, надежда. То хрупкое и неизбывное, что мы и ощущаем, и не можем выразить, и называем просто человечностью.
Пой, Марлен, пой.
Кошмар, Нью-Йорк, 11 сентября
ВТОРНИК, 11 сентября, 2001 года, 12 ночи.
Выключаю телевизор. Кошмар гаснет, но не отступает, уже внутри. Что помнил об Америке, Нью-Йорке – взорвано и горит огнем.
Днем лекции на отделении иностранных языков. Юные белорусики. Шутя зовут себя французами, немцами, англичанами. Почему-то нажал на тему хаоса и бездны в стихах Тютчева. Как будто посерьезнели, насторожились. Или так кажется теперь?
Дома дремал. Вдруг голос жены – и как-то по-народному: «Беда! Беда большая!» Крикнул: «У нас?» – и без ответа. Бросился смотреть.
Какой-то сон компьютерный. Вот-вот появится вровень с дымящимся небоскребом гигантский Дракула? Нет – самолет. Точно топор, пущенный в высоченный человечий улей. Потом еще один – в соседний. А в самолетах, оказалось, тоже люди: много беспомощных и несколько сознательно несущих всех и себя в смерть. Такого люди не видали отродясь. Чувства сначала не включаются, только зрение.
Башни горят и оседают, идут в прах. Как после взрыва храм Христа Спасителя в советской черно-белой кинохронике. Кто-то махал белым полотнищем примерно с 70-го этажа. Значит, мы видели последние минуты чьей-то далекой жизни. Махал, а потом перестал, все понял. И тут до боли натянулась невидимая паутинка: мы и вот эта, еще мгновения живущая за океаном жизнь.
Как хрупко все… И даже сама мощь, уверенность в неуязвимости.
Позавчера на кладбище дятел стучал над головой. Ладонь на ствол – и будто жилка под рукою бьется. Прижался ухом: сверху, по телеграфу от всего живого, беззащитного передают старательное и спокойное тук-тук. А мы? Сатанизм, паранойя на части рвут людское целое, кварталами и городами, но мы все сводим между собой счеты, ненавидим, мстим – и мало все…
Америка в огне. Это война, конечно. Уже не начало, еще не конец. Зато конец прежней истории. Теперь другое будет. Поневоле должно быть. В политике и в представлениях о либеральности, открытости, терпимости, доверчивости. Даже, надеюсь, в отношении к шоуменам этакой суперобъективности в эфире.
Но эти будут стоять стеной. Вот и сегодня, жуткой ночью перекрутил, будто веревки, добро и зло, чтобы уже не разобрать, ведущий судия всех мнений в наши времена на ОРТ. Сочувственно прочел чьи-то слова: Америка, мол, это заслужила. Жаль, что никто не сцапал его за язык: ну, а Россия тоже, выходит, заслужила взорванные дома в Москве и Волгодонске? О словоблуды!..
СРЕДА, 12 сентября.
Валом идет жуткая хроника с экрана. Привыкли: инопланетяне – ах! Может, и добрые, а может, всех нас – бах! Нет, тут «Война миров» Уэллса не при чем. Тут тесно-близкая в электронный век земная антицивилизация. С помощью чуждой ей, казалось бы, техники показывает, как она будет добиваться верховенства, если… если что?
Если и дальше будете, мол, такими сильными, свободными. Если и дальше будете старательно работать и учиться, нести ответственность за семью и любить жизнь. Если и дальше это будет соблазном для зомбированных людей, которыми вы нам мешаете управлять. И не пороки вашей цивилизации больше всего пугают нас. А то, к чему устремлены ваше сознание, образ жизни: свобода личности, а значит, свобода мысли, веры, выбора, надежды. Разве ж управить этим? А мы за право править даже пойдем на смерть. Мы жизнью так не дорожим, как вы.
Вот и пошли, опять. И снова с уровня позднего средневековья.
Тут поневоле вспомнишь Достоевского. Как он сидит в Турине с Сусловой тоже сентябрьским днем, только 1863 года, на террасе за столиком и замечает старого учителя с девочкой. «Ну вот представь: такой старик и девочка, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город!» Всегда так было на свете». Мне теперь кажется, что он тогда сказал: «всегда так будет».
Наполеон был для него воплощением жажды власти. Власть, злая воля к ней в любом проявлении, даже психологическом, «метафизическом» – единственная причина всегдашних человеческих погибелей, гекатомб.
Как любят сейчас затемнять ясное понимание этой истины у Достоевского. Стыдятся тупой, как считают, однозначности. Играют с фразой: «Что есть истина?» Года два назад на одной интеллектуальной тусовке в память Достоевского (он стал общекультурной модой последних лет) один умный человек заметил: «Мы говорим о нем так, будто он с нами. А он не с нами. Он против нас».
Потому что он всегда входил в цепкий диалог с декларациями своего времени. И на сегодняшние заклинания о правах человека он бы ответил: да, господа, только одна деталь: права КАКОГО человека? Того, кто добывает хлеб в поте лица, или того, кто сам себя лишил всех прав, взведя «адскую машинку»? Ему б, наверное, сказали: надо за стол переговоров. Он бы ответил: да, но с кем и для чего? С теми, кто поставил себя вне закона? Чтобы улучшить их условия жизни? Но «зло коренится в человеке гораздо глубже, чем думают господа социалисты». И господа ложные гуманисты – тоже.
ЧЕТВЕРГ, 13 сентября.
Голос с телеэкрана: «Я боюсь за американских арабов. Я боюсь, что начнут их… вы понимаете». Да, понимаем. И где-то уже начали. Люди не ангелы. Но, во-первых, президент сказал стране, что этого нельзя. Во-вторых, главное: а вы уже не боитесь за тех арабов, что наверняка тоже работали в уничтоженных небоскребах? Не боитесь, что забыли о жалости и сострадании, про память обо всех погибших?
Мне кажется, я понимаю фундаментализм немного иначе, чем геополитики или знатоки религий. Это, по-моему, ненависть фундаментальная – буквально. «…Разрушим до основанья, а затем…» А затем – даже любые жертвы со своей стороны, только бы не мир. Мир – не горючее. Он не гонит в кровь адреналин. Да, это фанатизм. А разве он бывает лишь исламский? Возникновение ненависти часто иррационально, вне логики и смысла. Но в ней – энергия самодвижения. Однажды вспыхнув, она находит и изобретает искусственно причины и обоснование себя самой. Так создается тип мышления, поведения и, наконец, идея, ради которой можно пойти на все. Ибо это уже единственная форма существования и самовыражения.
Все чаще голоса: «Не надо мести!» А что надо в войне после удара в твою сторону? Скажите это тем, кто на войне, родным погибших, чудом уцелевшим. Вдруг здравый голос: почему только о мести? Есть же возмездие.
Вот это тема. Нам говорят: смертная казнь убийцам не уменьшает количества убийств. Но ведь она не для того. Она – возмездие, а это справедливость. И справедливость, в свою очередь, – только условие для равновесия зла и добра, если добру уже не суждено здесь перевесить. Оставить жизнь серийному убийце в вечном заточении? Но это же пожизненная мука для родителей и родственников жертв. Каждое утро, просыпаясь, те будут знать, что проснулся и он, но не их дети, сестры, жены.
С юных лет, прочитав «Человека-невидимку» Уэллса, я думал о том, что самым страшным властелином стал бы тот, кто бы мог делаться невидимым. Террористы подошли к решению этой задачи.
Еще немного как бы о литературе. В мире все зло – от маленьких людей, сказано у Шекспира в «Ричарде III». Не рост, конечно, имеется в виду. Василь Быков в «Народной воле» говорит, что моральные ценности современной западной (или христианской) цивилизации, к которой относятся и США, не признаются фанатиками, тоже имеющими свою духовность и принадлежащими к иной цивилизации. «Каждая из цивилизаций имеет свою правду». Внутри себя – да, согласен. Однако разве именно правда какой бы то ни было цивилизации утверждается в актах варварского уничтожения беззащитных людей?
Говорят: это только экстрема, фанатизм. Но отчего тогда эти ликования в телекадрах с Ближнего Востока? Гете настаивал, что человечество не создало ничего выше нравственной культуры христианства. Но потом, увы, при наличии этой высочайшей культуры ничего страшнее и ниже не было, чем гитлеровский фашизм.
И отчего это ликование арабских студентов в аудиториях Минского медуниверситета, когда преподаватель половину лекции тратил на то, чтобы унять восторженное возбуждение этих врачевателей людей от факта массовой людской погибели?..
ПЯТНИЦА, 14 сентября.
Притащил домой ворох газет. В одной увидел долго ожидаемые мной слова о мягкотелой либеральной западной демократии, чья политкорректность и сверхвежливость по отношению к любым «повстанцам» – уже даже не уступки, а почти пособничество. Ибо «повстанцы» эти, скажем, в Македонии, бьются не за свободу, независимость народа, его права, язык, культуру. А за свою только свободу не сеять и не жать, жить лишь военно-криминальной жизнью, освобожденной даже и от страха потерять ее.
В прошлом году писатель В. Аксенов в «Комсомольской правде» сказал: ослабнут Штаты, и нас растерзает ислам. Теперь американцы решили сражаться и за свою страну, и за всю, нашу общую цивилизацию за тридевять земель. Да, в Афганистане не побеждали ни Великобритания в свое время, ни СССР. Но американцы отправляются не побеждать страну, а уничтожать гнезда современной мировой чумы, которая, увы, вне границ и религий. Будь иначе, было бы гораздо проще. Будут слова о мировом жандарме, полицейском и т.д. Но вы хотели бы жить без полиции, милиции? В хаосе жизненном, куда через СМИ добавляют еще и хаос своего сознания различные горе-политологи и горе-интеллектуалы?
На протесты против ведущей роли США в современном мире отвечал в печати известный ученый-медик Н. Амосов. Логика его мысли такая: сперва станьте вровень с этим лидером, тогда и требуйте «многополярности». А во-вторых, должен быть центр в любом живом и развивающемся организме. Да, иерархия – это система и порядок, пусть далеко не абсолютный.
Чтобы Германия стала сегодняшней, совестливо переживающей гитлеровский фашизм, потребовалась ее полная катастрофа после гибели десятков миллионов людей по ее вине. «Посмотрите, что стало со Швецией», – сказал мне однажды Янка Брыль, имея в виду ее нынешнюю, в сравнении с той, которую когда-то Карл XII привел аж под Полтаву. А сегодня слышал: «Возьмите Японию. В чем-то даже впереди Америки. Но Америка ее и сделала такой. Была же мировым агрессором. А перестала быть им после Хиросимы. Да, перестала – но какой ценой?!»
Вот о цене в похожих случаях ясных ответов нет и не было. Может, наше сознание изначально неверно ориентировано на обязательное наличие выходов из любых ситуаций? Может, только в темном кинозале всегда светятся надписи «Выход»? А выхода на самом деле часто нет…
ВТОРНИК, 18 сентября.
От теленовостей, газет не оторвешься. Американцы полны решимости найти главные источники причиненного им зла. Мы знаем, Америка ищет долго и ищет далеко, но утраченного уже не вернуть никогда. Какая беспечность у себя дома, на земле и в небе! Внешняя мощь размягчила страну изнутри? Полный провал систем госбезопасности.
Для нас важна реакция наших людей на эту трагедию. А тут есть и открытое злорадство, торжество. И не могу отделаться от странного чувства, что все, довольные трагедией Америки, пусть и не ведая того, как бы невольно злорадствуют и надо мной. Ведь я когда-то был там, хоть и совсем недолго. А вот противником этой страны не стал. Наоборот, оставил много хорошего оттуда в памяти. Придется жить с этой «виною», с этой доброй памятью о моих друзьях там, незнакомых людях. Что ж, постараюсь пережить эту «вину». Память должна помочь.