Читать книгу "Сцены из минской жизни (сборник)"
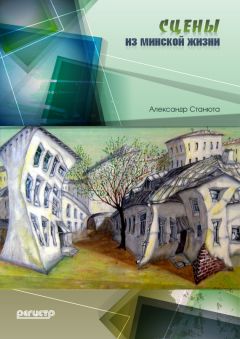
Автор книги: Александр Станюта
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Янка Брыль, магнитом памяти
Трудно представить другого человека, чья внешность так явно, казалось бы, говорила о неизменной «оседлости» его образа жизни, как внешность Янки Брыля. А между тем он странник…
Он родился в Одессе и пятилетним, в 1922 году, был увезен родителями на их родину, в Западную Белоруссию – за границу по тем временам. В сентябре 1939-го в мундире польского морского пехотинца после боев в Гдыне оказался в немецком плену. Померания, Верхняя Бавария – и побег оттуда в свою деревню Загорье возле Корелич осенью сорок первого. Партизанская жизнь, всей семьей, в лесах Налибокской пущи, штабная разведка и редактирование газеты; а в послевоенное время – бесконечные дороги писательских поездок по родной Белоруссии, по всей стране и странам других континентов.
Запах времени
Все его странствия, военных лет и мирных, – от дома и с возвращением домой. И точно так же в творчестве: в автобиографических повестях и романе, в книгах рассказов, лирических записей, миниатюр, эссе. С той только разницей, что странствуют в них память и душа. Брыль путешествует здесь уже не в пространстве, а во времени – над границами, поверх барьеров, если воспользоваться словами Пастернака.
Но и география, когда писатель воссоздает через личную судьбу историю своего народа, тоже важна. И у Брыля она не только расширяет внутренние рамки содержания. Но и питает его всем конкретным и предметным, необходимым для письма пластичного и в то же время аналитического, которое и отличает лирическую манеру этого прозаика.
Не удивительно поэтому, что он такой старательный и жадный собиратель впечатлений жизни. Но и книга, любимое чтение, впечатления от прочитанного – один из всегдашних мотивов, сопровождающих главного героя произведений Брыля.
Явственно звучит этот мотив в романе «Птицы и гнезда», в воспоминаниях Алеся Руневича, парня из глухой западнобелорусской деревни. Явственно, но и вполне жизненно, не книжно. В подобных случаях невольно задумываешься о том, что писателю, очевидно, едва ли не в равной мере необходимы как глубокие жизненные, так и литературные «корни». Вот именно соединение, сплетение всего этого составляет автобиографическую ткань прозы Брыля. Автобиографичны и многие ранние рассказы, и повести 40-х – 50-х годов – «Сиротский хлеб», «В семье» – и роман «Птицы и гнезда» (40-е – 60-е годы), и повести «Нижние Байдуны», «Рассвет, увиденный издалека», книги «Поиски слова», «Сегодня и память», «От сева до жатвы» и другие.
В одной из наших с ним бесед Брыль говорил об этом так: «Все мое – это, по сути, дневник. Чувство такое: огромная Земля, планета и огромна, неизмерима, неохватна на ней жизнь – всех, везде и всегда. И есть моя частица Земли – не только долька земной площади, а частица ее общей жизни, ее общего содержания и смысла. Я и старался познавать это «мое», рассказывать о нем другим. В своих вещах я, может, иногда повторяюсь, а в целом, пожалуй, двигаюсь по спирали… Автобиографичность – склад творческого мышления. Наклонность, предрасположенность. Она не обязательно открыто проявляется все время. Но сомневаюсь, можно ли по желанию вдруг стать автобиографичным. Или, наоборот, перестать им быть. Это органичное, но свои причины имеет. Мы приехали в деревню из Одессы перед самым сенокосом или уже во время него, и запах сена обрушился на меня, пятилетнего, всей своей горячей благоухающей силой. Да, осознавать себя я стал в деревне. И этому способствовали вместе и сельский мир, и первая работа в нем, и, чуть позже, книги. Все сплелось, тесно соединилось. Так же, наверное, соединились во мне с детских и юношеских лет языки: белорусский, русский, польский, украинский. И раннее чтение без разбору. Оно, конечно, давало всему, что я видел, среди чего жил, как бы дополнительный свет. А самому мне какое-то добавочное разумение и чувствование всего этого. Потому-то и неотделимы в моих воспоминаниях звуки, запахи деревенского детства, юности от образов, картин, тогда же и там же пришедших ко мне из книг и тоже заставивших что-то испытать впервые.
Я стал записывать лет с пятнадцати. Уже тогда подсознательно как-то чувствовал, что я читаю и замечаю все вокруг, запоминаю не просто так, а для чего-то… Отсюда то беспокойство, которое переходило потом уже в настоящий страх: а что, если копившееся во мне так и не найдет выхода и я не стану писателем?»
72 километра ада
Художественная автобиографическая литература, по сути своей, в немалой степени документальна. Много сделала такая литература для понимания нынешними и, надо надеяться, будущими поколениями минувшей войны. Для разумения историчности пережитого. Вклад белорусской литературы в это дело не просто велик. Он уникален. В частности, Янка Брыль вместе с Алесем Адамовичем и Владимиром Колесником был создателем всемирно известной книги «Я из огненной деревни…» – этого, как говорил Василь Быков, репортажа с того света.
История этой книги внешне очень проста. В 1970 году Алесь Адамович предложил Янке Брылю и Владимиру Колеснику записывать на магнитофонную ленту уцелевших свидетелей карательных фашистских акций в деревнях республики. В июне семидесятого они приехали к Колеснику в Брест, а оттуда тронулись в путь уже в полном составе на его «Москвиче». Сначала в Пружанский и Ивацевичский районы, потом на Пинщину. Был у них одолженный магнитофон «Весна». С ним работал Адамович, с фотоаппаратом – Колесник, а Брыль с блокнотом: «разделение труда». Первые записи напечатал журнал «Маладосць», потом «Неман». После этого на белорусском радио они брали журналистский «Репортер» и там же покупали к нему пленку. И так вот ездили в летние месяцы с 1970 по 1973 год.
Они записали 72 километра пленки. Рассказы более трехсот человек, спасшихся каким-то чудом от неминуемой смерти. В рассказах тех людей ничто не добавлено и не убавлено. Сокращали только несущественное, переставляли слова, абзацы, снимали повторы. Авторский текст дан лишь в необходимом минимуме.
Это была, вспоминал потом писатель, возможность исполнить обязанность, которая всегда на тебе, помнишь о ней или нет в какие-то дни. Обязанность оставить на время привычный круг близких людей, свой письменный стол, как бы сказав себе: ну, теперь уже не «над вымыслом слезами обольюсь».
И вроде само собой разумеющееся, а не всегда и упоминается к месту: каратели, палачи – они ведь рассчитывали, что в тех деревнях никого не останется. Что после их пуль, бензина и огня никто никогда не узнает, как это происходило. А тут остались, сумели, посмели, нарушили «порядок». Кто-то, простреленный, выбрался потом из рва, из-под убитых. Кто-то, как одна женщина в Узденском районе, с криком: «Господи!» – бросился сквозь пламя и пробежал его насквозь, скрывшись за ним, обожженный…
Во время одной встречи белорусских писателей с гостившими тогда в Минске американскими коллегами, после просмотра фильма «Иди и смотри» по сценарию Алеся Адамовича, Янка Брыль выступал, держа в руках несколько экземпляров книги «Я из огненной деревни…» в английском переводе.
Сказал, не торопясь, делая паузы для переводчика: «Картина напомнила мне те села, где мы бывали в течение нескольких лет, готовя эту книгу. Только случайно спасшиеся люди рассказали нам то, что происходило там тогда. Причем мужчины не могли рассказать о виденном и пережитом так… я боюсь этого слова – «художественно», – так сердечно, правдиво, так по-народному, как рассказывали женщины. И часто это были матери погибших на их глазах детей. А ведь мать умирает столько раз, сколько раз умирают ее дети, и рассказывая об этом – тоже.
Мы дарим вам эти книги как бы от имени тех, кто уцелел. А они тут говорят и от имени тех, кто уже ничего не скажет. Наша писательская роль заключалась в том, чтобы выслушать этих свидетелей и воссоздать их голоса… Сама книга скажет вам обо всем больше, чем я».
Американцы аплодируют – негромко, но благодарно, доверительно. Янка Брыль садится, и вспоминаются сказанные им раньше слова об историчности пережитого всеми, о ком он пишет в своих книгах, в своих «семейственных» воспоминаниях. О том, что и сам он, и семья, и родные его принимали участие в народной жизни, «какое и надо».
Американцы с присущей им восприимчивостью к внешнему облику человека все это почувствовали, не только слушая, но и глядя на Янку Брыля. Они поверили этому высокому широкоплечему пожилому человеку со спокойным открытым лицом, в котором читается по-народному упорный и терпеливый, добрый характер. Поверили его благожелательности интеллигента и достоинству труженика. Встал Дж. Лоуренс из Калифорнии. Он напомнил мысль американского философа Сантаяны: кто не помнит прошлого, тот обречен на его повторение. И добавил: «Если теперь упадет хоть одна ядерная бомба, в сарае, пылавшем в фильме вместе с людьми, окажутся четыре миллиарда человек, и все дети будут убиты, и все женщины будут изнасилованы».
Жизнь в слове
В квартире писателя, где я бывал, рабочий стол Брыля, старый, но крепкий и удобный, стоял перед окном, словно вдвинутый во все семейное, родное, что остается и теперь с хозяином и смотрит на него со стен: справа – фотопортрет матери, Анастасии Ивановны, слева – брата Михаила, Миши, с которым он был с детства «в одной упряжке», как говорила мать.
Все главное в жизни начиналось с ее помощью, поддерживалось ее заботой и благословением. И труд, и учеба, и творчество. Пока он был в плену, она хранила в своем сундуке – еще из-под приданого – его первые, начатые до войны наброски и рассказы. Она была с ним и старшими, уже семейными детьми в партизанах. Там, в Налибокской пуще, среди своей семьи, родни, среди земляков и сверстников, среди войны второй раз началось для него писательство, чтобы уже не прерываться.
Семья – история народа – творчество: все здесь едино и взаимопроникаемо для Брыля. И все переживается им как одна неповторимая судьба. С какой-то даже удивительной наглядностью предстает это на его страницах, и написанных в последние годы, и начатых давным-давно, но тоже сохранивших живым свое историческое время. Страницы эти собраны в книги, стоящие где-то тут, в одном из светлых шкафов, изготовленных знакомым столяром и вместивших многое из любимого Брылем с юности, а может, еще и читанное когда-то маме чуть не по слогам…
Однажды Алесь Адамович, занятый мыслями о «Блокадной книге», смотрел здесь все и вдруг с присущим ему юмором стал прикидывать: «Сперва вот это Брыль начал бы жечь, чтобы не погибнуть от холода, потом вот это, потом – то… А здесь бы взять решился только под самый конец». В том шкафу у Янки Брыля – книги его любимого Толстого, автобиографичность которого служит примером для многих писателей.
«Много раз, – говорил Янка Брыль, – в повестях, романе прятался я за другие имена – Алеся, Даника, например. Но из-за всех этих персонажей, как сказал однажды Алесь Адамович, всегда была видна шапка Брыля. Может, и правда торчал из-за них мой «брыль» – козырек. Потом решил больше не прятаться. И говорю с читателем от собственного имени в миниатюрах, записях. Поддерживает то, что их читают и печатают».
Время летит. Вослед ему, не отставая, движется слово мастера – Янки Брыля.
Шамякин век
…Те лица, бледные, но молодые, в синем дыму издательских, редакционных комнат, как под водой, те голоса, словечки, имена и дружеские клички, те голоса семидесятых и восьмидесятых:
– А ты к Шамяке подходил? Вот он бы вышел на кого-нибудь вверху, помог пробить бы…
Михась Стрельцов однажды так и сказал приятелю, поэту. И Шамяка на кого-то где-то выходил, и дело пробивалось – книжка или квартира. Знали: Шамякин может поддержать.
И в девяностых – то же самое. Он жил в доме над Свислочью, за ней весной кипело море сплошной зелени, скрывая парк. В кабине лифта с деревянными застекленными дверцами была скамеечка с потертой красноватой тканью. Лифт шел неслышно, неспеша, – во всем этом ощущалось что-то от атмосферы и 60-х и 50-х, от жизни деятелей, лауреатов, людей президиумов, съездов, золотых звезд на пиджаках.
А он был в белой рубашке и синих спортивных брюках. Мы сидели в низких креслах, за Иваном Петровичем высился огромный, до потолка, книжный шкаф, и новые книги лежали везде, со всех сторон, куда ни повернись. Выслушав все, задав два-три вопроса, он вышел в другую комнату. Послышалось:
– Костюм…
И голос его жены:
– Куда ты? Что, прямо сейчас?
– Ну, надо, надо. В Союз писателей.
И мы пошли. Вернее, он пошел по моему делу, а я с ним рядом, под его прикрытием. Шли парком. Он рассказывал, как на днях с группой самых заслуженных писателей был в Совмине, как хлопотали за наш союз. А скоро, сказал, пойдет в горисполком, уже один, договорился лично. Наденет свои регалии – и в путь, вперед, как в бой. Значит, подумалось, приколет и свою звезду Героя труда. И тут Шамякин, будто слыша это, опять сказал:
– Ну, надо, надо.
Громко известное имя, писательское и общественное, везде открытые перед ним высокие двери, репутация, влияние и неизменная позиция рыцаря советской эпохи, ушедшей в календарях, но не в характерах и душах его поколения, – все это нес Шамякин без самоупоения, без жеста и без позы. Ему чаще всего просто не смели отказать. И, зная это, он на это шел целенаправленно и постоянно.
Быть может, скажут: тешил свое самолюбие, не упуская случая ощутить славу? Конечно, был честолюбив, как всякий непохожий на других, неординарный человек. Но много ли у нас примеров, когда, доказывая лишний раз свою известность, тем самым человек приносит пользу, помогает, облегчает жизнь другому? Особенно в наш новый, уже не «Шамякин» век?
В начале 90-х, в мутном баре нашего дома литераторов, держа в своей писательской руке тонкий стакан, он говорил:
– У меня на сберкнижке было сто тысяч. Я чувствовал себя человеком, мог купить машину, дачу для внуков. И что от этого осталось, заработанного десятилетиями? Пшик.
Но он после уже смешной этой своей сберкнижки не написал книжки «Хороший Сталин», как делают сейчас предприимчивые могильщики советской литературы для зарубежных распродаж своего товара.
«Торговка и поэт» – называлась повесть Ивана Шамякина 1977 года о далеком времени войны и оккупации. И этими двумя словами можно обозначить важную идею в его неутомимом, многолетнем труде. Да, он был по-своему поэтом в литературе, и он остался чужд духу торгашества в ней, когда она советской быть перестала.
Писатели и читатели, знакомые со свежими творческими веяниями 20-го века, могли относиться к его прозе, драматургии снисходительно или иронично. Но он всегда оставался собой. Мог сказать, что в современной ему литературе, в частности, 60 – 70-х годов, слишком много развелось молодых «хемингуёв». Но его собственная писательская репутация не росла на дрожжах общественной деятельности. Наоборот, его значительность общественного деятеля умело выставлялась властью благодаря его значимости, популярности как писателя.
Шамякин не только носил звание народного писателя, он был им на самом деле, в буквальном смысле. Искушенная в литературе и искусстве публика могла находить в его романах, повестях, пьесах и что-то прямолинейное, излишне публицистическое, функциональное. Да, могла – и может до сих пор. Но не все могут, в смысле права на это, критиковать Ивана Шамякина.
Не могут критиковать те, кто в отличие от него не способен в своей литературе, свободной уже от всего на свете, не то что от цензуры, выстроить и выдержать хотя бы одну сюжетную линию в своих «текстах». Те, у кого убогие заметки обо всем мелькнувшем перед глазами называются сегодня повестями. Те, кто не в силах создать характер, изобразить ситуацию. И те, чьи персонажи безголосы, поражены неизлечимой немотой, ибо им нечего сказать. Такие авторы сегодня отрицают все в прежней литературе потому, что ничего из этого им просто не дано. Долой, мол, все эти оковы реализма, где истина – одна, добро – не зло, а низкое не смотрится высоким.
Наверное, он, Иван Шамякин, замечал, как стремительно летит время, как все труднее за ним поспевать. Интересно, когда же именно он чувствовал это особенно остро? Когда смотрел спектакль или фильм по своему роману? Когда ходил со своей верной Марией Филатовной в пальто и шапке среди молодежи в вестибюле зимней «Ислочи», будто выискивая место перед телевизором и, может, не находя себе места вообще в этот вечер? Или тогда, в больнице, когда сел на кровати, обрадовавшись случаю поговорить, быстро убрав кипу газет на тумбочку?
Без всякого труда можно увидеть в памяти лучших актеров-купаловцев в спектаклях по его книгам: Рахленко, Давидович, Захаревич. «Сердце на ладони», «Тревожное счастье», «И смолкли птицы»… Или вот это: Москва, зима, в окне машины слева мрачно темнеет «Дом на набережной» из романа Трифонова, кинотеатр «Ударник» в нем с рекламой фильма по Шамякину, с фамилиями исполнителей, такими близкими тут. И чувствуешь, как все вокруг, особенно во времени, соединяется, слагается в какой-то сложный, видимый не всеми смысл.
Где-то в 70-х Иван Шамякин, уже очень известный, пришел в деканат архитектурного факультета политехнического института и попросил разрешения присутствовать на совещании-планерке. Сидел часа два молча, незаметно, слушал, речь шла о строительстве жилья в сельской местности. А потом вышел новый роман Шамякина «Атланты и кариатиды», где архитекторы заняты этим делом. Но свидетели его тогдашнего присутствия в деканате до сих пор помнят, как старался Шамякин быть незаметным – наверное, чувствовал, что так больше удастся узнать.
А в свой последний земной путь Иван Шамякин отправился из минского Дома офицеров. Монументальное, уже историческое здание, такой же «титаник» советских 30-х годов, как и «Дом на набережной» в Москве. Но в минском доме – лепнина и рельефы снаружи и внутри: красноармейские шлемы, звезды, знамена. И в этом случае тоже был свой, простой и ясный смысл: Шамякин прошел войну, можно сказать, насквозь, от самого начала, в зенитчиках, артиллеристах возле Мурманска – и до самого конца. В победном сорок пятом он напечатал свою первую (почти из сорока) повесть «Месть» в журнале «Полымя». И вот он уходил – из Дома офицеров – классическим писателем своей эпохи и фронтовиком.
Один лапоть, один чунь
Так названа у Михася Стрельцова повесть.
А чуни – те же лапти, только веревочные, сплетенные из пеньки за неимением лыка. В послевоенные зимы деревенским ребятам приходилось топать и в тех и в других. (Мы тогда в Минске щеголяли: на валенках носили чуни из резины от лопнувших автомобильных камер).
Вот его книги у меня на полках. Стоят, будто чего-то ждут. «Загадка Богдановича» с вопросительным знаком на обложке. Художником этой книги был Борис Заборов. Сейчас он далеко, в Париже.
А Стрельцов тут, по-прежнему у нас, на Чижовском кладбище.
Я познакомился с ним в середине 50-х, на первом курсе отделения журналистики тогдашнего филфака в университете. Бедовые дети города, мы впервые видели рядом сельских одногодков и проводили с ними время. Сдержанные и настороженные дети деревни впервые сидели вместе на занятиях и подымали рюмки в общежитии со своими столичными сверстниками.
У него внешность была совсем не деревенская. Ничего сельского я в нем вообще не замечал. Что замечал он во мне, не знаю. Знаю только, что его ничего не смущало в тогдашней нашей юношеской городской культуре. Даже и та привлекательная для нас смесь внешней интеллигентности с этакой элегантной блатноватостью, которую оставило в нас послевоенное житье-бытье: сперва фантасмагория порочных игр и драк в руинах, потом – футбол, трофейное кино и джаз.
Мы начали как-то сближаться со Стрельцовым. Я привел его однажды к себе. Он смотрел только на книги и молчал. Взял в руки двухтомник «Маяковский. Театр. Кино» – и даже не листал его, только рассматривал красивые обложки. Теперь я думаю, ему было все равно, кто там автор. Ему было просто приятно брать в руки книги.
И он привел меня однажды к себе тоже. После ресторана «Заря», что был тогда напротив кинотеатра «Победа». И я переночевал в комнатке его общежития…
К его фамилии привыкнуть мне не удавалось. Потому что такая же фамилия гремела из Москвы по радио, в футбольных репортажах – Эдуард Стрельцов. «Эдик» – писали мелом на стенах во дворах. «Стрельцов» – слышал я в нашей аудитории, но сразу вспоминался тот, кого прославляли на стадионах от Москвы до Стокгольма.
Да, много чего было – и все сплыло. Прав Александр Вертинский: «Надо жить, не надо вспоминать». Действительно, надо ли вспоминать тот майский день, когда мы со Стрельцовым сидим в привокзальном сквере, смотрим на красные трамваи и зеленые поезда и пытаемся нарисовать к зачету макет газетной «полосы», хохочем или, думая каждый о своем, молчим на языке одного возраста? Молодое, как мы, лето шелестит новенькой листвой, и совершенно ясно, что так вот будет и всегда.
Может, не стоит вспоминать и то, как однажды, ожидая самолета домой, я читал его рассказ «На четвертом году войны»? Это было в симферопольском аэропорту. Пластиковые навесы павильона, серые от пыли щетки кипарисов и дрожащий от жары воздух вдали. Я смотрел на все это, а потом стал читать о том, как однажды в глухой деревне плакали весенним вечером в хате старуха и ее невестка, потому что давно погиб где-то их сын и муж, и мальчик даже не помнит отца. А мальчик видел все это и чувствовал, что теперь надо брать на свои плечи что-то невыразимо тяжкое, недетское.
Это так близко стояло перед глазами, что, когда рассказ кончился, все вокруг вступило в свои права не сразу, будто почтительно ожидая, пока отойдет прочитанное.
Потом, уже в самолете, над белыми холодными облаками я заглянул в рассказ опять. Там все оставалось на своих местах, как и тогда, когда я сидел возле пыльного кипариса. Нет, будто сказал чей-то голос, это не тает, как облако, не рассыпается, будучи перенесенным в другое место и в другое время. Потому что это живой мир со своим собственным временем и пространством, в хорошем смысле замкнутый, самодостаточный.
Летели годы. Давно уже мы были не студенты-однокурсники. Известным театральным критиком, искусствоведом стала наша Татьяна Орлова, поэтами – Генадь Буравкин и Василь Зуенок, кинорежиссером – Виктор Дашук, собкором всесоюзной газеты – Эмма Луканская, а редактором «Витебского рабочего» – Володя Скопа, и в руководстве БЕЛТА был уже Петр Бережков, будущий директор этого агентства. А наш Миша Стрельцов стал настоящим писателем.
Счастливой была его восходящая звезда. Его все любили – и читать и встречать. Опять, как в студенческом мае, в привокзальном сквере, казалось, что так будет и всегда.
Но так не стало. Он замолчал – мучительно, надолго. Пытался вырваться из плена немоты. И был великолепный, всеми ожидавшийся прорыв – «Смоление вепря», но… Тьма отступала, но не уходила, и в ней он потерял себя. Потом, казалось бы, нашел – но жизнь вдруг кончилась.
Никто и никогда не докажет мне, что Стрельцова погубило «время». Эта всегдашняя отмычка в советских толкованиях судьбы творческой личности тут не сработает. И не надо напоминать о «застое». Потому что Стрельцов создал свой неповторимый художественный мир и себя самого именно в этих жизненных условиях. Так же, кстати, как и Короткевич, Брыль и Быков.
Другое дело, что жизнь, которая обступала Стрельцова, все меньше и реже поддавалась его любви – так остро и болезненно воспринимал он весь этот шум и ярость вокруг. Его творческий организм, чрезвычайно чуткий и хрупкий, не охватывал этого, не мог сделать своим и вошел в безысходный конфликт с жизнью.
Мне кажется, после «Смоления вепря» он стал бояться неудачи. (К слову, он больше в прозе ничего не написал.) Однажды я сказал ему:
– После такой вещи надо дождаться, чтобы в душе снова достаточно насобиралось, насочилось…
Он оживился, будто этого и ждал:
– Вот видишь, как ты понимаешь! Конечно, нужно время!
Он замолчал, довольный. А я, грешный, подумал: «Боится риска, проигрыша. Знает: что ни напишет – будут теперь с «Вепрем» сравнивать».
Не знаю, что бы он еще сделал, если бы жил. Зато знаю, чего бы он НЕ СДЕЛАЛ.
Он бы не делал своими героями людей только за то, что они люди «простые», как это делалось из-за уверенности, что нищета чуть ли не идеал. И он бы не тужился «отражать правду жизни», ибо знал, что цель литературы художественной именно в особом перевоссоздании этой жизни, когда только и открывается ее правда.
Он бы не стоял сегодня посреди рынка в позе поэта-нищего, коря своим безденежьем правительство или «демократов». Он бы не устраивал частный апокалипсис или вселенский плач по своим прежним читателям, если бы они соблазнились теперь «романами» из жизни уродов или «текстами» с заборной нецензурщиной, – на кой черт ему были бы такие читатели?
Давайте, наконец, скажем друг другу прямо: читателя никогда нет – и читатель есть всегда.
Массового же читателя имеет только газета. И его не имели на самом деле писатели советского времени даже из первой обоймы. Так только казалось из-за их тиражей, которые были государственными усилителями определенных имен. Массы слышали эти имена – и не читали их книг. А теперь не читатели отвернулись – усилители отключены.
И для Михася Стрельцова сегодня все было бы как раньше. И действительно, что бы он уже такое потерял? Звание, пост, лауреатство, место в президиуме или заграничную поездку? Не имел, не сидел, не ездил.
Он был хорошим писателем. Он смог им стать – он смог им и остаться до сих пор.






























