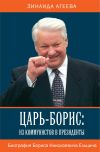Читать книгу "Немеркнущая звезда. Часть 3"

Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вадим назвал среднюю сумму заработков.
– Ни-че-го себе! заработки у Вас! – начальник его поперхнулся даже и, видимо, оторопел от услышанного. – Прямо скажем: не слабые! Таким заработкам даже и директор наш, Валентин Константинович, доктор наук и профессор, позавидовал бы, наверное, не то что я, грешный. Ничего себе, получаете, бизнесмены российские!… Я, разумеется, столько дать Вам никак не смогу, поймите меня правильно, – принялся было извиняться Щёголев перед Стебловым, и голос его испуганно задрожал. – Мы тут у себя на предприятии на порядок меньше Вашего получаем: столько нам государство теперь за работу платит.
– Да Бог с ними совсем, заработками большими, – перебил Вадим расстроившегося было начальника. – Не в деньгах счастье, Владимир Фёдорович, уверяю Вас, совсем даже не в деньгах. Поработав в торговле около года, я это ясно понял. Человек должен уважать себя и свою работу, гордиться ей и собой. Иначе – всё, хана: никакие заработки не спасут от разложения и деградации.
– Ну и слава Богу, и хорошо, что Вы так правильно всё понимаете и готовы деньги шальные, немереные, на работу по призванию поменять, – довольный услышанным, опять засмеялся Щёголев в трубку. – Только супруга-то не заругает Вас? От больших заработков тяжело отвыкать: по себе и собственной семье знаю.
– Не заругает, Владимир Фёдорович, не заругает. Она у меня хорошая.
– Ну тогда и приходите завтра же, коли так: чего тянуть-то? Стол Ваш, кстати сказать, так и стоит свободный и сиротливый, с осени Вас дожидается. Запылился уж весь, по хозяину стосковался… Ничего: завтра же и протрём…
– Ну что, Марин, узрел Господь мои муки, узрел, – поговорив с начальником с полчаса, после этого обратился светящийся счастьем Вадим к притихшей рядом жене, всё до последнего слова слышавшей. – В свой институт я завтра утром иду – на работу туда устраиваться. Сам начальник отдела звонил, Щёголев Владимир Фёдорович, слёзно просил к ним назад возвращаться. Соскучился я по ним, по чести сказать, сниться мне даже стали, черти. Ей-богу!… Ну и вернусь назад, стало быть, если всё так удачно складывается, если сами звонят и просят, почти что кланяются. Хоть человеком себя опять почувствую – а не прохвостом, не торгашом, которого все нормальные люди как клопа вонючего презирают.
– Представляешь, – добавил он гордо и важно, как лампа зажженная весь светясь изнутри. – Опять по имени-отчеству стали звать: Вадимом Сергеевичем. Не то что в торговле сраной: Вадим да Вадим. А то и просто Вадик… Даже и девки-торговки так ко мне обращались, кандидату наук. Не говоря уж про руководство. Это им удовольствие, видимо, доставляло – так фамильярно и запросто со мной всегда обращаться, этим меня унижать и до собственного опускать уровня. Я это нутром чувствовал… Хотя, там у них в бизнесе просто всё – как у шлюшек в притоне…
Жена Марина долго молчала – не знала, что и сказать. Ей и жалко было супруга, конечно же, которого убивала торговля, гробила на корню, – она это хорошо понимала и видела ежедневно всё последнее время. Но жалко было также себя и детей, которых ожидали большие проблемы в будущем из-за катастрофической нехватки денег. И это ещё мягко сказано.
–…Ладно, возвращайся назад, коли уж так решил, коли невмоготу тебе на новом месте, – наконец произнесла она. – Только как жить-то будем, скажи, на твои грошовые заработки? Цены-то вон каждый день скачут вверх как угорелые. И конца и края тем ценовым скачкам что-то не видно.
– Не знаю, Марин, не знаю, – стыдливо ответил Вадим, умоляюще в глаза жене своей глядя. Сказать и утешить жену ему было нечем.
–…Ладно, – всё поняв и без слов, обречённо повторила Марина. – Придётся, видимо, мне на работу свою возвращаться, коли ты у меня такой слабенький оказался, к жизни неприспособленный. Хотела вот, мечтала после декрета ещё хотя бы полгодика дома со Светою посидеть, самой в детсадик её поводить-понянчиться. Да и с Олежкою тем же после уроков хотела позаниматься, присмотреть за ним. Но уж, вижу теперь, не судьба, увы. Рушатся мои мечты и планы… Ладно. Так тому видно и быть. Ничего страшного. Пойду, поработаю, потружусь. Ничего. Олег уже, слава Богу, вырос, в школу пошёл. Со Светланкой вот только возникнут проблемы. Кто её будет из детского садика забирать? – не знаю!… Придётся с матерью по этому поводу серьёзно поговорить. Может, она поможет…
Жена оказалась на высоте: женщиной была во всех смыслах и отношениях уникальной. Может быть даже единственной в своём роде жертвенницей и помощницей, с которой не страшно было хоть в разведку, хоть на плаху идти; хоть даже и к чёрту в лапы. Она, в итоге, сделала всё, как и пообещала. Вместо того, чтобы мужа поедом есть и пилить в такое-то трудное время, ежедневно поносить его и чихвостить, разводом ему грозить и заставлять дальше идти работать в торговле, “шальную деньгу зашибать”, – она договорилась с матерью, тёщей Вадима, насчёт присмотра за младшей дочерью Светой, которой было три годика и которая ходила в садик. Тёща тоже всё поняла быстро и правильно, вошла в положение и согласилась приезжать и забирать внучку каждый Божий день в течение всей рабочей недели – помогать своей дочери детишек поднимать на ноги. И делала она это несколько лет – абсолютно бесплатно и безропотно. Тёща тоже была молодец, воистину уникальная в плане помощи и самоотдачи женщина.
Сама же Марина вышла вскорости на работу в свой Мосгортранс, где ещё до родов трудилась несколько лет – диспетчером по организации движения столичного городского наземного транспорта. Зарабатывать стала там хорошо, и проблему с деньгами они худо-бедно решили…
А приободрённый Вадим уже на другое утро поехал устраиваться в прежний свой институт на окраине Филёвского парка, в котором целых восемь месяцев не был, как ни крути, и от одного вида которого сердце его вдруг защемило так сладко и остро, как от встреченной первой любви. Устроился быстро, за один день: Щёголев лично бегал к директору, всё там, что надо, подписывал и утрясал. Сам же потом и таскал подписанные документы в отдел кадров, чтобы оформили без проволочек.
И получилось, что возвращался наш непутёвый герой ближе к обеду домой уже не зачуханным коробейником-торгашом, всеми московскими бабками презираемым, а новоиспечённым ведущим научным сотрудником института (на радостях Щёголев ему новую, самую высшую должность дал), в белоснежной рубашке, с портфелем кожаным – как и полагается по ранжиру, по статусу. Он ни чуть не скорбел о бизнесе и о деньгах, о достатке недавнем, потерянном. Наоборот – жалел торгашей, считал их ущербными по природе своей, несчастными и убогими… А собою очень гордился опять, чего аж восемь месяцев не было, таким счастливым и гордым в метро по столице ехал, таким изнутри сияющим и улыбающимся беспричинно, что и москвичи, смотря на него, невольно и сами начинали щуриться и улыбаться, и вроде бы как даже мысленно Стеблова благодарить за их приподнятое настроение.
И он в ответ улыбался им – широко, довольно, приветливо! – потому что “почву” под ногами снова почувствовал, радость и прелесть жизни. И одновременно вернулся на свою стезю, в свой мир идеальный, научный, который был ему с малолетства родным, милым, привычным, желанным, и без которого он задыхался и умирал как выброшенная на берег рыба…
30
Вернувшись на прежнее место службы, Вадим не узнал его – настолько там всё изменилось зримо в сравнение с прошлым. Всё те же были стены, вроде бы, добротный интерьер вестибюльный, внутренний двор, стеклянные институтские комнаты; проходная та же, столовая с поварами, тот же старый Филёвский парк за окном и Москва-река внизу под обрывом; тот же серый массивный бетонный забор, наконец, с колючей проволокой по периметру, который по-прежнему хорошо просматривался из-за деревьев и вызывал уважительный трепет у гуляющих рядом с ним москвичей. Но сам институт уже стал другим – заметно обезжизненным и обезлюдившим за восемь прошедших месяцев, осиротевшим, словно после стихийного бедствия разом всеми покинутым. Его можно б было назвать даже мёртвым – если б не распахнутые настежь окна и форточки, в которых покачивались на ветру прежние старые шторы в полоску, да ещё мелькали по временам редкие фигурки сотрудников, свидетельствующие о существовании пусть скудной и скромной, но жизни.
А ведь, помнится, ещё прошлой осенью он буквально кишел людьми, делово сновавшими взад и вперёд по его огромным 50-метровым коридорам – в белых халатах, чистых рубашках с галстуками, платьицах дорогих. Все они были важными как один, холёными, гордыми, неприступными. И все были как бы в работе: носились с бумагами по этажам и отделам с утра и до вечера, согласовывали планы, программы и чертежи; кричали при этом, нервничали, горячились, правоту своих слов и дел с пеной у рта доказывали, глотки заполошно драли, руками театрально размахивали, выкатывали глаза. Шум от их разговоров и споров стоял невообразимый повсюду, от которого голова раскалывалась, порой, и некуда было спрятаться, кроме институтского сквера и парка, куда сотрудники выходили гулять раз от разу – отдыхать от духоты, толчеи и работы, нервы расшатанные лечить, тишиной и пением птиц наслаждаться… На порожках у входа вечно толпились командированные из разных мест. Площадка перед проходной в рабочие дни была плотно заставлена легковыми автомобилями.
А теперь ни людей, ни машин было уже не встретить почти; а те, кто ещё остались, сиротливо прятались по огромным холодным комнатам, не зная, чем себя и занять, к кому и чему притулиться, по привычке пошуметь и поспорить.
Тишина. Пустота. Одичание полное вперемешку с тоской властвовали повсюду, от которых сразу же становилось не по себе – тошно и муторно на душе как в заброшенном доме или на пепелище…
Молодёжи почти не осталось. Нигде, ни в одном отделе. Она, как выяснилось, почти вся и уволилась вслед за Стебловым осенью 91-го и весной 92-го года – подалась осваивать новую жизнь, потихонечку в неё начинать вписываться и вживаться: халявное бабло и “капусту” учиться “рубить”, “новыми русскими” становиться. А если кто и остался из молодых – то совершеннейшие трутни, бездари и лежебоки: так называемые “блатные” или человеческий “хлам”, ничтожество. Те, кто трудиться совсем не мог и не хотел по причине полной умственной и физической неполноценности; кто даже пойти воровать и торговать “за ограду” не был способен, деньги шальные “лопатой грести”, которые под ноги падали.
Но в большинстве же остались лишь те горемыки, кому было за пятьдесят, и кто новой жизни элементарно боялся, для кого она была смерти сродни, или стихийному бедствию, если помягче и покультурнее, с которым уже не было сил справиться. Так что вернувшийся 35-летний Вадим попал как бы в дом престарелых, готовившийся к закрытию, к эвакуации…
Другим неприятным моментом было отсутствие всякой работы: старые заказы по Марсу и Фобосу были завершены, а новых правительство им не давало. Про новейшие военные разработки, главную их тематику, вообще надо было забыть: заокеанским хозяевам Ельцина оборонная мощь России была, мягко скажем, без надобности.
Все сидели и ждали поэтому, чем закончится такой балаган. Перспективы были самые мрачные. Было видно со стороны, что российский космос – любой: гражданский ли, военный ли, – был новой власти не нужен. И она поставила цель угробить его, развалить – подчистую… Но сделать это махом одним новая власть опасалась: уж слишком много народу было задействовано в космической и, шире, оборонной отрасли. И выкинуть всех разом на улицу, оставить сотни тысяч здоровых и всё ещё крепких людей без дела и без зарплаты для Ельцина и его камарильи было очень и очень опасно – грозило социальным взрывом.
Им, молодым кремлёвским дельцам, хозяевам новой жизни, легче было поэтому всех инженеров-конструкторов из оборонки держать без работы, без тем и без какой-либо на будущее перспективы. Но пока что, пусть скромно, кормить и поить. И ждать, когда они сами все до единого вымрут или же разбегутся.
Поэтому-то зарплату в их институте платили. Пусть мизерную – но регулярно…
31
Неудивительно, что в некогда могучих и славных КБ и НИИ, напрямую или же опосредованно связанных с советским военно-промышленным комплексом, протестные настроения день ото дня крепли и разрастались: там быстрее всех поняли, к чему клонит новая российская власть, и что она из себя представляет. Именно там, в сугубо-засекреченной ещё совсем недавно научной и инженерной среде, и зарождалась антиельцинская широкая оппозиция, регулярно поставлявшая на антиправительственные митинги и демонстрации по всей стране огромные толпы людей. Из инженеров-оборонщиков же состоял в основном и Фронт Национального Спасения, громко заявивший о себе в Москве уже с весны 92-го года и ставивший главной целью отстранение Первого президента России Ельцина Б.Н. от власти. Отчего его, Фронт, злобная ельцинская пресса и телевидение сразу же окрестили сборищем красно-коричневых. Понимай – законченных идиотов, негодяев и мракобесов в демократическо-либеральной трактовке, мечтавших, якобы, возродить кровавый Красный террор, охоту на ведьм и прочее.
Но это была обычная ельцинская пропаганда, состоявшая из вранья, страшилок и лицемерия, на которые новая власть оказалась горазда. В ФНС не было ни коммунистов и ни фашистов – совсем. Активный “фронтовик” Стеблов мог бы это клятвенно подтвердить перед любым судом и собранием. Там активно себя проявляли и заправляли делами по преимуществу заслуженные советские учёные и конструктора, отдавшие всю свою жизнь, обширные знания и талант созданию советского ракетно-ядерного щита, как и советской непробиваемой оборонке. А потом грудью дружно вставшие на защиту того, что с молодых лет было им дорого, любо и свято. По зову сердца вставшие – не по команде свыше, заметьте себе! И не за гранты и подачки соровские, тем более, какими расплачивались с защитниками Белого дома в августе 91-го года. Что теперь уже ни для кого не секрет…
Разумеется, не был исключением и институт Стеблова в деле сопротивления и борьбы, где главным бунтарём-заводилой, противником Ельцина и его реформ, стал Садовский Владимир Александрович – великий советский инженер и большая-пребольшая умница, самородок, светлая голова, на ком их институт собственно и держался.
Владимир Александрович был старше Стеблова на 24 года, то есть был ровесником мамы Вадима, Антонины Николаевны, и работал в Филиале с первого дня, дня открытия. А до этого он успешно закончил мехмат МГУ им.Ломоносова, там же и защитился, стал кандидатом наук; после чего, выйдя на работу, сразу же занял ключевую в их институте роль первого и единственного поставщика всех главных идей всех институтских проектов. Потому что мехмат, он, как говорится, и в Африке мехмат: его выпускники в Советском Союзе ценились везде на вес золота, про что вкратце уже писалось. А Садовский был у них единственный его представитель долгое время, ибо не желали, брезговали выпускники славного университетского факультете связывать себя с оборонкой и техникой, какими бы деньгами немереными кто бы их туда ни манил. Инженерия, где чистая наука заканчивалась, и начиналась нудная практика и бытовуха, меркантилизм, была для большинства из них заметной ступенькой вниз. И опускаться до практиков-прикладников идеалисты-мехматовцы не хотели…
По этой и только по этой причине выпускник МГУ Садовский, пришедший в инженерию исключительно из-за денег (у него было трое детей, родившихся достаточно рано, которых надо было кормить), был у них на голову выше всех по образованию и умственному развитию. Держался он в институте особняком, никого не воспринимал всерьёз даже и из руководства, и мало с кем разговаривал не по работе, спорил, общался, дружил: время впустую не переводил, не тратил. Спорить на производственные темы с ним вообще ни один человек не мог: малоспособные, все они ему только в рот покорно смотрели и ждали готовых решений, твёрдых команд. А на посторонние от работы темы он уже и сам категорически не желал ни с кем говорить по причине природной замкнутости и деликатности: всё больше молчал и слушал, когда в курилку иной раз вынужденно забегал по дороге из туалета, устало головой кивал, неизменно поддакивал собеседнику и быстро ретировался. Про личную его жизнь и семью, как и про внутреннее состояние, душевные чувства и переживания знали, поэтому, в отделе немногие. И не потому, что он сослуживцев своих презирал – такого, в принципе, не было. Просто он считал их всех про себя детишками малыми, неразумными, которых можно и нужно было лишь по головке гладить и утешать, помогать по возможности, морально и материально поддерживать, – но не по душам говорить, не исповедоваться: кто ж исповедуется и жалуется перед детьми?!
Так, во всяком случае, Вадиму со стороны казалось, такое он с первых рабочих недель про своего замкнутого начальника составил мнение. И с годами не поменял тех первых своих заметок и впечатлений.
Он видел, что лишь одно-единственное дело на свете Владимир Александрович всегда с удовольствием и жаром делал – фанатично трудился изо дня в день, правительственный план выполнял; согбенный, сидел за рабочим столом безвылазно – и думал, думал и думал, не останавливаясь, алгоритмы и формулы космических перелётов изобретал, бесконечные писал отчёты. Друзей у него в институте, строго говоря, никогда и не было-то…
Но не всегда Садовский был живым роботом и дундуком, как про него за глаза говорили. Был он по молодости и бунтлив, и драчлив; и даже, выйдя после окончания МГУ на работу, попытался сразу же навести на новом месте порядок. Ему очень не нравилось на первых порах, новоиспечённому старшему научному сотруднику, что “на одного человека с сошкой у них приходится семеро дармоедов с ложкой”, что очень много в их институте уже и тогда болталось бездельников и блатных, штаны за здорово живёшь просиживавших, зарабатывавших, как он говорил, “свои жопочасы” – и только.
Не будучи никогда членом КПСС, он, идеалист безнадёжный, попробовал даже и за чистоту её рядов побороться. Ему, беспартийному, видимо, очень не нравилось, больно кололо глаза и терзало душу, что в партию лезли, начиная со второй половине 1950-х годов, по преимуществу бездари и проходимцы. Чтобы занять потом с её помощью все командные ключевые места и определять в недалёком будущем стратегию развития их института сперва, а потом и всей ракетно-космической отрасли. Этого он выносить и терпеть по молодости не мог, тотальное засилье серости и убогости: трубил и кричал про сие безобразие на всех углах, собраниях и планёрках…
За это его невзлюбили, как водится, объявили всеобщий бойкот. За малейшую провинность наказывали рублём, лишали надбавок и премий, которые отдавали тем, кого он чихвостил-клеймил – блатным бездельникам-дармоедам, то есть.
Он обиделся, что его не любят, не ценят, держат на вторых малооплачиваемых ролях; даже и должность начальника сектора не дают, самую первую и пустяшную: всё он-де в эсэнэсах ходит. Обиделся, плюнул на всех – и уволился. Говорили, что докторскую диссертацию захотел написать, в родной Университет вернуться…
Но не получилось у него, в итоге, ни с диссертацией, ни с Университетом – и винить его за это не стоит, не надо. Для него и самого это была беда, трагедия всей его жизни. Ибо у него очень рано, в этот момент как раз, умерла от лейкемии жена, от рака крови, если по-русски, оставив ему трёх малолетних детишек на попечение, которых пришлось воспитывать и растить уже ему одному – одевать, обувать и кормить их всех, зарабатывать много денег. Да ещё и старшая его дочь была инвалид с рождения: плохо ходила и говорила, была недоделанной и недееспособной. В роддоме ей, по слухам, голову защемили щипцами при родах злобные акушерки, чем девчонку напрочь испортили, ну просто совсем! Какая уж тут наука и тишина, мудрёные формулы и идеи, абстракции и диссертации?! С голоду б не пропасть, не сломаться душевно ему, вдовцу бесприютному и беспризорному.
В общем, пришлось достаточно рано и так некстати овдовевшему Садовскому, как-то сразу обессилевшему и обмякшему после похорон, боевой настрой потерявшему и победный дух, несгибаемый стержень внутренний, ни с чем возвращаться назад, в свой институт постылый. А про чистую науку забыть – думать про хлеб насущный…
Его с радостью приняли. Но жёстко предупредили при этом: «больше не умничать и не бунтовать! И на рожон не лезть, не в своё дело не вмешиваться! – только наука и творчество, только план!» – после чего взвалили на бедного все дела, за которые за время его отсутствия никто так ни разу и не взялся, которые никто б и не сделал кроме него по причине умственной слабости.
Побитый жизнью, судьбой и совсем не старый ещё мужчина-вдовец Садовский безропотно принял условия и потащил, не ленясь и не брыкаясь уже, их институтский воз: а что ему оставалось делать-то?! С той поры его участью было только “пахать” и “пахать” за всех бездельников-дармоедов с дипломами инженеров, быть этакой ломовой лошадью. И при этом при всём получать за свою работу каторжную, сверхквалифицированную и ответственейшую, зарплату хорошую, безусловно, – но не великую, не ахти какую! Не ту, во всяком случае, которую он по своим исключительным знаниям, способностям и самоотдаче заслуживал, которая доставалась другим.
Начальники всех отделов, к примеру, даже и подсобных отделов электрики и сантехники, пьянчужки горькие и неучи в основном, получали больше него. Не говоря уже про администрацию институтскую, про руководителей парткома, профкома, месткома и всех остальных тузов. Их ежемесячные заработки ему и не снились даже. Куда там! А должность начальника сектора, которую ему через год после возвращения всё-таки дали, сжалившись, – начальная руководящая должность в НИИ, самая муторная и энерго-затратная, и самая неблагодарная из всех, – стала тем максимумом, по сути, чего он в жизни достиг. И это – будучи кандидатом наук и гением инженерии, повторим, как и всего советского приборостроения и космоса, волоча на себе работу их института, фактически, зная её как никто.
Ни Королёвым, ни Келдышем, ни даже тем же новым Пилюгиным он так никогда и не стал, увы! Хотя по задаткам природным и дарованию не уступал, вероятно, ни тому, ни другому, ни третьему: именно так… Он ведь прекрасно разбирался в технике, в технологиях космических перелётов, поверьте, любил и понимал всё это, как мало кто понимал. И, обладая плюс к этому незаурядными математическими способностями, мог запросто и без ошибок описать обыкновенными дифференциальными уравнениями работу любой детали ракеты, разгонного блока, гироскопического стабилизатора, “отфильтровать” при помощи полиномов Лежандра технические помехи на старте. Мог играючи делать то, одним словом, чего не мог никогда сделать ни один технарь, выпускник той же Бауманки или МАИ, что было для простого инженера сродни чуду. Этого, к слову сказать, даже и Королёв никогда не мог: для этого ему нужен был великий математик и аналитик Келдыш… А тот, в свою очередь, технику не особо жаловал: всю жизнь тяготел к чистой науке, к абстракциям.
Садовский же был уникум уже потому, что одинаково любил и хорошо знал и то и другое. А не достиг на службе и десятой доли того, чего бы мог и хотел достигнуть при его-то знании и умении, при его выдающихся способностях и потенциале: судьба в этом плане с ним очень жестоко расправилась и обошлась. А почему? – Бог весть! Попробуй теперь, разберись, почему к кому-то она – добрая мать, а к другому – злая мачеха!
Дело тут, как автору представляется, было даже и не в нём одном и его личных качествах и характере, той же трагедии семейной, связанной с болезнью дочери и смертью жены, а в веяниях самого Времени. Ибо славные королёвские времена прошли, прошли безвозвратно. И заведённые им, Королёвым, когда-то принципы, порядки и начинания были уже не в моде в 1970-е годы, и поэтому как-то сами собой зачахли, свелись к нулю.
После смерти Андрея Павловича его неуёмный творческий дух фаната, аскета и великодержавника-победителя из советской ракетно-космической отрасли стремительно стал выветриваться и убывать. А единый некогда научно-производственный организм его приемники безжалостно разорвали на части и растащили по своим “квартирам”, или “углам”, пытаясь стать самостоятельными и “большими”, ни от кого независимыми – этакими кичливыми царьками от космонавтики, вознамерившимися лишь жирные пенки снимать с богатого королёвского наследия, беспрерывно пьянствовать и тусоваться…
И получилось, в итоге, что на смену королёвскому новаторству, подвижничеству и фанатизму приходили нажива и непрофессионализм, и какая-то беспросветная серость, убогость и тупость. Командные хлебные должности и посты в профильных институтах тихой сапой занимали дельцы с мохнатой и длинной лапой, прибиравшие деньги к рукам и власть. Да ещё и подхалимами-лизоблюдами плотно себя окружавшие, бездарями и ничтожествами по натуре, что тоже жрали и пили в три горла, не делали ни черта сами и не позволяли что-то новое и передовое делать другим: “умничать и рисковать, искать приключения на свои задницы” – как все они с презрением говорили. Чем славный советский космос гробили на корню, лишали перспективного будущего. Таким талантливым, но “беззубым” и не блатным работникам, каким был Садовский, их уже было не растолкать: сорняки от науки и производства, от Дела большого и важного, они к началу 70-х годов успели пустить везде глубокие мощные корни…
Видя и понимая всё это, и сильно переживая, наверное, собственное своё бессилие, невозможность что-либо к лучшему изменить, болея душой за институт и страну, а в целом – за отрасль космическую, Владимир Александрович с годами всё больше и больше кис, в себя как в бездну, пучину морскую глубоко погружался. И становился замкнутым и одиноким от этого, предельно скучным со всеми, холодным, угрюмым, сухим. Потому что чувствовал всё острей и отчётливее, старик, что упускает он жар-птицу свою, своих лихих вороных, скверно Богом данным талантом распоряжается; что КПД его нынешний как-то уж больно скромен и мал – до неприличия, прямо-таки. И ему от этого было очень и очень плохо и грустно…
И, будто бы ото всех силясь спрятаться, виновато глаза от сослуживцев и знакомых прикрыть, – он инстинктивно пригибался к земле как в старой детской игре в догонялки. Становился сутулым и маленьким по этой причине, и каким-то несолидным, невзрачным на вид, не кандидатом наук, не гением космоса; да ещё и беззубым вдобавок, неряшливым и несимпатичным. И только седая огромная голова всегда выдавала-высвечивала его из толпы, что лет с сорока уже за версту как фонарная лампа матовым светом “светилась”…
32
У него, правда, был один достаточно реальный шанс вырваться из душного и маленького Филиала на “большую космическую орбиту” и сделать головокружительную карьеру в НИИАПе – после того, как к ним В.Л.Лапыгин внезапно работать пришёл в конце 1970-х годов, правительственный секретный заказ выполнять по выводу спутника-шпиона на геостационар. Но он этот шанс не использовал, дурачок, упустил. И почему? – теперь уже хорошо понятно.
Потому что филиальское зажравшееся руководство было целиком за Пилюгина, которому было обязано всем – местами хорошими и доходным, карьерой и всем остальным. Поэтому-то и встретило Владимира Лаврентьевича и его команду в штыки, считая Лапыгина карьеристом и выскочкою. Справедливо опасаясь, к тому же, что ежели он придёт к власти в НИИАПе, – то устроит там глобальную чистку, чуть ли не кадровую революцию совершит. А попутно разгонит и филиальских сидельцев, лишит их будущего и мест насиженных, тёплых, которых в Москве ещё было надобно походить, поискать.
А поскольку без работы никто из них не желал оставаться, даже и в главное здание на Калужскую никто не планировал переходить, за здорово живёшь покидать уютную и родную уже 4-ую площадку, больше похожую на санаторий, на райский дом, – то руководители Филиала, объединившись, дружно принялись Лапыгину гадить, вредить. Понимай: откровенно саботировать 330-й проект, за который тот взялся.
Втянули в это вредительство и саботаж и главного филиальского светилу Садовского, предварительно его исподтишка науськав и накрутив, на нового директора крайне негативно настроив. Что он-де такой и сякой – сукин сын, негодяй и карьерист бессовестный и циничный. Выживает-де с рабочего места старого заслуженного человека, пионера космоса и королёвского дружка, академика и дважды Героя, которому, дескать, и так жить не долго осталось, с которого уже и песок сыплется. А он, Лапыгин, коварный ученичёк его, вместо того, чтобы поберечь старика, не оставляет его в покое своим ежедневным нытьём и подсидками, жизнь его укорачивает, тихо умереть не даёт. Разве ж правильно это, Володь, ответь, дескать, нам?! разве ж справедливо и честно?!
Слыша подобные наущения, благородный и пылкий Садовский рассвирепел тогда и нахохлился, ощетинился, встал на дыбы – ну и попёр на Владимира Лаврентьевича буром, не разобравшись в сути вещей, в подоплёке проблемы. Также работу стал саботировать вместе с другими дельцами от космонавтики, за которую новый директор головой поручился перед кураторами из министерства, и которая нужна была позарез, кровь из носу, что называется. Да ещё и повадился наш филиальский самопальный герой на всех совещаниях новому директору прямо в глаза говорить, что он про его “безнравственное” поведение думает и как оценивает его. В самом негативном и мрачном свете, разумеется. Словом, во всей красоте решил себя показать, мужичок, во всём ораторском шуме и блеске. Вот я, дескать, какой, говорливый, высоконравственный и отчаянный! Никого не боюсь!… А кому такое понравится-то?! какому руководителю?!
Лапыгину слушать подобные проповеди и нападки при всех было и больно, и очень обидно. Не заслужил он, Герой Соцтруда и доктор наук, подобного к себе отношения. Да ещё и со стороны подчинённого, который про подковёрные битвы на высшем ниаповском уровне ничего не ведал, не знал – а поднимался и вякал как знающий и посвящённый…
Владимир Лаврентьевич, надо сказать, отнюдь не робкий был человек, не мямля и не слюнтяй по характеру, не дипломат совсем. И тоже был злой на язык, и на расправу скорый: пропускать и прощать такие наскоки и дерзости был не намерен. Да ему это и по должности не полагалось – добреньким и бесхребетным быть. За такое безволие и “демократизм” подчинённые в два счёта его заплевали и затоптали бы.
Поэтому раз за разом он прилюдно давал говорливому и дерзкому Садовскому “по ушам”, на место того быстро и умело ставил. Частенько и матюгами в него запускал, за откровенный саботаж обещал даже уволить к чёртовой матери!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!