Текст книги "Пицунда"
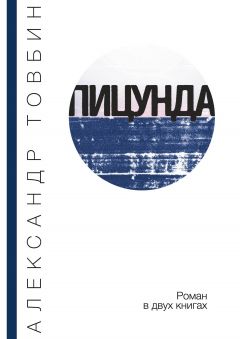
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
8
– Крепость сосуществовала с большим торговым центром, который имел тесные связи с Малой Азией. Грабители-варвары многократно зарились на богатства цветущего города. Набеги совершались с севера, варвары пытались взять приступом окружённый огромной стеной и имевший удобную гавань Питиунт. Но римский гарнизон умело защищал город на границе империи, на краю Понта. Позднее, с третьего века участились также набеги пиратов, которым предоставляло суда и гребцов Боспорское царство. Ставя под удар Питиунт, боспорцы таким неблаговидным способом хотели освободиться от пришлых соседей. Кроме мощных крепостных стен и сторожевых башен в Питиунте были сооружены храмы, дворцовые покои, казармы, зернохранилища, винный погреб, античная баня с замечательной мозаикой. Мозаика, которую упоминают многие авторы эпохи эллинизма, изображала молодую светловолосую женщину. Мозаика стёрлась, поблекла, только камушки фона оставались яркими, небесно-синими…
Недомерочек, – кривится Милка, – а на высший титул расщедрились для неё. – Ну да, – откликается Воля, – куда ей до прославленных длинноногих див… Конечно, конечно – кукольная, небольшого росточка, но ладненькая, златокудрая, сероглазая, с правильными чертами, загар бронзового колера лежит ровненько, гладенько, словно нанесён фабричным распылителем, и на розовой пятке есть не стираемый пемзой треугольный штампик строгого ОТК: ничем не запятнана, что могло бы сойти за изюминку. Породистая, холёная, приятная во всех отношениях, – загибает пальцы Воля, подбивая, как секретарь жюри, плюсовые баллы и заодно опротестовывая пристрастность однобокой из-за однополости критики. А Милка всё фыркает: калиброванная богиня, а Милкины подружки, Риммочка, Лизанька, оберегающие морально-нравственную Митькину чистоту, ревниво клевещут: воображуля, чистоплюйка, гуттаперчевый пупс. А Вахтангу побоку бабий гам, умора, серьёзность напускает, как профессор, председательствующий на консилиуме. Трёп трёпом, а чует, что с душком золотая рыбка, принюхивается, принюхивается, раздувая крупные ноздри, – ему, преуспевающему самодеятельному физиономисту, осведомлённому в азах психоанализа, не составляет труда сорвать с мисс-мыс маску притягательной сексуальности. Поводив за носы побочными наукообразными домыслами, Вахтанг ставит нелицеприятный диагноз: изгиб губ её даже при невиннейшем наклоне головки выдаёт компенсирующий порок фригидности, спустилась на грешную землю и притворяется, что не насытится никак на пиру наслаждений, хотя игра это, игра ледяной принаряженной статуэтки. Тут закипает новый тур отгадывательной вакханалии. Воля крутит шарманку про дивный росток евгеники, дабы сгубить, то бишь спасти красотою, мир, сбежавший из лабораторного сосуда и прижившийся в естественной курортной теплице. Что правда, то правда – дивно цветёт у моря.
Шустрый ли бесёнок притворяется статуэткой, наоборот ли – статуэтка подвижна, но оказывается она быстрой лёгкой теннисисткой, с Ожохиным перекидывается, а стиль плавный, техничный, будто у Неша брала уроки. И укрощает с первой попытки виндсёрфинг, водные лыжи, по плечу ей самые загибистые асаны йоги, и всё по верхним стандартам, ни промашечки в жесте, ни вкусовой издержки, а упаковка… Святая правда, отменно принаряжена статуэтка. Владик вдохновенно прикидывал, прикидывал – караул каких монет стоит её одежонка в салонах Пятой авеню, тем паче на чёрном рынке. Прикидывал, да в знаках запутался: гардеробчик празднично-пёстрый, броский, рекомендованный для утех лазурных берегов молодёжно-спортивной, распалённой экстравагантными фантазиями, но при этом чтящей добротность и респектабельность модой, будто для неё созданной. Странновато-холодная, оторванная от почвы, вся она – до ноготка, кнопки, камушка, вправленного в кольцо, – некое концептуальное озарение, экспонат гипотетического быта, гениально выдрессированный биоробот с широченным диапазоном умений, мимики, хотя и поставленный на стопор, блещущий лишь по чьему-то благословению. Молчаливо хранит некую исходную тайну: что там за душой у неё, какая она, есть ли вообще душа у безупречной гостьи из будущего, или, может быть, без оной, без души то есть, всем удастся вскорости обходиться, а она, обогнав все прогрессы, и сейчас обходится. И умеет ли она стенать, рыдать, кусаться или постоянно заведена на улыбку?
И ткань ли, фасон обрамляют движение, или движение, меняя рисунок ниспадающих-взлетающих складок, лишь выгодно подаёт фактуру, цвет, линии её воспетых «Вогом», перепетых «Кобетой» мимозно-жёлтых ангорских кофт, сине-голубых, с белёсыми проплешинами, присобранных у плеч жёсткими буфами, расшитых люрексом блуз, дырчатых, узорчато-выпуклой вязки свитеров из альпаки, полосатых красно-чёрно-белых фуфаек, широкие, как крылья неведомых летучих существ, рукава которых, если не стекает ещё предвечерняя зябкость с гор, повязаны мягким узлом у пояса. С солнечным венчиком волос, в подвёрнутых выше щиколоток хлопковых белых штанишках, держа в одной руке бесформенную холщовую сумку и изящные бело-лайковые лодочки без каблуков – в другой, она дефилирует по набережной, наслаждаясь каждым шажком, ступает по тёплым плитам маленькими босыми ножками с опаловым педикюром. А едва сгущается послезакатная темнота – стиль меняется, успокаивается гамма; в баре, где карнавальная яркость, которая так ей к лицу, была бы ещё и к месту, она появляется в пригашенных, блёкло-светлых, облегающих маленькую рельефную грудь и расклёшенных книзу, старомодно женственных, взятых из романтических костюмерных прошлого или у новейшей Шанели гипюровых, шёлковых, шифонных платьях. Их мягкость, тональный покой, оттеняются явной несообразностью, когда к по-детски припухлым губам её, смутившим подозрительного, обличительного Вахтанга, прилипают сигарета или соломинка. Тень болезненности ложится на неё в баре, улыбчатую, бедовую мисс-мыс подменяют: будто провинившаяся в чём-то, смущённая, она анемичным покачиванием точёной головки отклоняет робкие приглашения на танец случайных, ничего не знающих о ней ухажёров, битый вечер просиживает спиной к залу на высоком вертящемся табурете у длинной стойки, потягивает приторный зелёный напиток из высокого замороженного стакана. Вперясь в просторное, во всю торцовую стену, зеркало, в глубине которого средь запелёнатых в морщинистую фольгу горлышек шампанского, облепивших стойку раскрасневшихся выпивох, сверкающих по углам зеркала больших, словно медали, латунных заклёпок механически дёргается задымленное веселье, она гипнотизирует, возбуждает его, это неугомонное веселье, этот танцующий и гомонящий хаос, зрелищем оголённой своей спины, тепло светящейся в удлинённом, почти до копчика, треугольном вырезе зеленоватого, с жемчужным отливом платья. Из стройной шейки, из тени золотых завитков, разделяя ложбинку между нежными подвижными лопатками, струится тонкая, едва заметная цепочка позвоночечков. Их так хочется потрогать, пересчитать, но последняя маленькая горошинка пропадает в облегающей, будто бы приклеенной ткани. А при лёгком повороте тела размётывается, поблёскивая, материя, божественные линии, продолжаясь, вылетают уже упругими обводами икр, тонких лодыжек, серебристых, с косыми пряжками бальных туфелек – танцует она нехотя, избегая рискованных па, с какой-то внутренней скованностью. Да-а, фокус-покус: на солнце – одна, при лунном, электрическом свете – другая, сонная, словно силы ушли, странно… И никто не знает быстро сменяемых невзрачных наперсниц, кивающих своими изъянами на её выпуклые достоинства, неведомы никому штампованно-благообразные, в серо-стальных костюмах, с проборами, рыбьими взглядами провожатые: молча, как вышколенные лакеи, подольют боржоми, пыхнут зажигалкой, она вскинет невесомую ручку с сигаретой, тронет колечки причёски, обвиснут полупрозрачные проймы необъятных облачных рукавов, лишь на запястьях стянутых чёрными манжетами, твёрдыми, как наручники. Она есть и отсутствует, рядом, на виду у всех, а никак не соприкасается с коллективным курортным бытом. Вахтанг с ленцой отпивает апельсиновый сок, опять муссирует свои психопатологические наветы, Илья роняет вполголоса про символ, живущий отдельно от телесности, сам по себе, и опять, опять догадки заруливают в затемнённые закуточки плоской фантастики, где отлаживается искусственное производство человекоподобных или разлагающе орудуют обворожительные инопланетные диверсантки. Хотя, если по совести, можно было бы попроще её тайночки высветить, ну, допустим, голышом поджаривается она в дальних бухточках, вот и загар у неё завидный, ну где-то за закрытыми дверьми развлекается, коли публичный бар удостаивает нерегулярно и словно выложившись до этого в другом месте… А что сезон-другой пропускала, пропадала, так не зря Владика отделом кадров зовут: разведал, что вывозил её за кордон британский мультимиллионер, владелец острова с замком, но неисповедимы пути, вернулась, чуть ли не краше стала. Балует времечко, наклюкалась Жануленька эликсира молодости, Лета ей теперь по колено, лялякает Воля, и толкут, толкут море в ступе – каково ей после островного покоя в стрессовой столичной давиловке… Не деньгами ли едиными всё у неё тип-топ… Бьётся в Региночке художественная жилка, вот и шьёт концертные платья эстрадным звёздам. А Владик всегда готов: крутанув ручку кассовой машины, высовывает дурашливо язычок, будто фининспектору чек показывает. А Воля хлопает себя по лбу – сталкивался с ней в коленчатых мосфильмовских закоулках, спутывающихся у цехов реквизита… Но толку-то, толку разрозненные фактики собирать, если абсолютная ледышка она, не зацепиться, не отогреть! На шуточки, закидончики, вполне дружелюбные, мисс-мыс лишь снисходительно улыбается с немой холодностью иностранки или королевы помоста, улыбающейся не кому-то, ею избранному, её достойному, а всему безликому скоплению почитателей, отчего улыбка, смахивая на гримаску сфинкса ли, Моны Лизы, остаётся дежурным, предписанным международными стандартами довеском походки, поз, туалетов. Идут годы, ещё пройдут, народятся новые амбициозные претендентки, но и их она победит играючи, самое придирчивое жюри признает, что она по-прежнему вне конкуренции.
Время самодовольно, свой незримый путь помечает памятниками.
Каковы они, памятники самому себе, для отвода глаз лишь культурные формы увековечивания варьирующие?
Жития святых?
Чудеса любви, героизма?
Вечные книги?
Соборы?
Допустим.
Когда, изнемогая от жары, Милка прячется под красным своим зонтом, розоватый загар её наливается огненно-алой яркостью, будто Милка кипятком обварилась, и плывёт, плывёт перегруженная тряпками и пляжными аксессуарами скамья, как ковчег, сквозь фовистскую синь, вечнозелёную тропическую многооттеночность с неряшливым бордюром из чайных роз. «Завидую, Илюшка, завидую белой завистью, у тебя всё впереди, а мне в слякоть, под мокрый снежок лете-е-ть, – жара банная, а не прогреть никак косточки, сызмальства промёрзла, продрогла, до сих пор толстый блокадный иней снится ей на обойных цветах. – Лежу, – говорит, – закутанная, как кокон, в бабкином барахле, стужа в комнате, зуб на зуб не попадает… Вот и подгоняет память, тороплюсь на солнышко из питерской осени, мочи нету отпуск оттягивать, а сейчас психую, что пора сматываться, ни одним дождичком небо не пролилось, и надолго, на весь октябрь лето обещано. Тиме отличную метеосводку отстукало пароходство, да и сам видел, у госдачи подводная лодка якоря бросила… – припекает, горячо дышит набережная, откуда взялись мокрый газон с улиткой, бурные свинцовые озёрца в углублениях плит? – Да очнись, проснись, – тормошит Милка, – тут громкой популярностью затмить мисс-мыс может Любочка, барышня-динамит, застойный курортный быт подрывает. Ещё Натан Наумович из новеньких выделяется, тибетский иглоукалыватель, у бурятского ламы стажировался, в возрасте, пузатый, а спортивен, как Неш, водными лыжами командует, но без дистиллированной крови, так, пузатый плейбоец, на лету бабочкам подмётки срезает…»
Мастодонтистая, с едва поместившимися в лицевом лошадином овале носом и ртом… Если б Милка окаменела, околдованная злым духом, то грубой неотёсанностью превзошла бы изваяния острова Пасхи. Вообще бегло глянешь – безнадёжнейшая дурнушка, дурында, нескладная дылда, хотя жестикуляция, живейшая мимика сбивают резкость. Уголки рта скачут вверх-вниз, растягиваются, изгибаются, кромсая щёки, беспокойно отыскивая, не находя, но не теряя надежды найти совершенный абрис; утиный нос вдруг так вздёргивается, кончик его так задорно, весело тянет за собою губу, что рот получается вопросительно полуоткрытым и кажется, что даже сквозь негодующие гримасы она улыбается и удивляется, что-то убеждённо доказывая. А иногда говорит, говорит – и так мечутся вместе с носом, подбородком торопливые губы, что мимическая неугомонность, редкостная эластичность лицевых мышц вконец отменяют отпугивающую резкость первого впечатления. Да ещё блестят, искрят из-под горящей спутанной огненно-рыжей чёлки тёмно-серые, как влажная галька, глаза – излучают приветливость, бескорыстие, доброту, а незащищённость, внутренняя беспомощность её странно уживаются с порывистостью, природной готовностью лететь, скакать, будто пришпорили, на край света, кому-то на выручку…
«Кони сытые бьют копытами», – кричит, приветствуя, Воля: вечно Милке невтерпёж обдавать несфокусированными эмоциями, припускать туда, куда вдруг её потянет. Ко всему – шляпно-ленточные нелепости и пикантность, приперченность, лизнёшь – так сильнее, чем огнём обожжёшься, ехидничает Вахтанг, словно распробывая на вкус её веснушки. Итак, печётся, поджаривается, мало что не может за всю жизнь свою согреться, так с её темпераментом долго ни за что не усидеть под зонтом. А кожа издевается над солнцем, остаётся бледно-розовой, прозрачной – голубенькие жилки просвечивают, угораздило поросёночком уродиться, наградила бабушка рыжим геном, грешит Милка на проклятую пигментацию, а коричнево-румяные веснушки, трогательно срастаясь в разновеликие пятна, на удивление её красят. А волосы… за волосы и впрямь бабушке воздать надо: тяжёлые, густые, поблёскивающие, как слиток, но чуть ветерок затеребит, затреплет – костёр. Если же Милка, исхитрившись и подобрав пламя сзади, перехватит кончики волос лентой так, что бант падает с затылка на плечи поникшим цветком, то сразу разрастается, сферически пушась, нечто невиданное, многократно превосходящее то, что беллетристы называют копной волос, а историки парикмахерского искусства – ретроначёсом. Сама же Милка, нахлебавшаяся горя с непокорной своей волосяной достопримечательностью, виновато лепечет, что её «Бабетта» с первого исполнения побила достижение экранного прототипа. «Не бывает, на куски режьте, топчите, но не бывает, – измывается Воля, пожирая Милку притемнёнными очками с диоптриями, как бы тщась ощупать всю её, как похотливый слепец. – Дивная кожа, непревзойдённые волосы, колоссально!» – выкрикивает он, расставаясь вконец с рассудком, который не приучен к абсолютному совершенству. Милка смущённо отбивается – подумаешь, кожа, волосы, но Воля-то, причмокивая, крадётся к главному лакомству – гордой, высоко поднятой, сильной груди, к глубоким чашам синего купальника, в коих покоится округлое упругое чудо, поставляющее обильную пищу для пляжных пересудов. Митька, косясь на это восьмое чудо света, над которым у шелковистого, плавно растянутого до ключиц высветления благоговейно замирают веснушки, симулирует слюнявое возбуждение, дёргает припадочно головою, путая Волины тембры с акцентными интонациями Красавчика, пеняет Милке пышную неумеренность, словно она сама себе бюст лепила, прихватив не по праву лишнего материала, обделив других, оставив, как доски, плоскими. А стоит Милке размечтаться о радостях верховой езды – Владик, острослов-математик, ещё о лошади в квадрате сморозил, – так Митя, серьёзно насупясь, разубеждает в седло садиться, мол, не годится Милка в амазонки из-за смещённого вверх, к груди, центра тяжести. Заодно приплетает Митя легенду о славных античных всадницах, выжигавших груди, чтобы удобней было стрелять из лука, а Воля певучим Митиным голосом ему же оппонирует по всем пунктам: знай наших, античная лишь у неё закваска, и взахлёб нахваливает барочную полновесность, без ложной скромности помянув своё безошибочное эстетическое чутьё, убеждает честной народ, что вдобавок к редкостному двухкупольному плотскому органу Милка обладает ещё и визуальным сокровищем. Удаляясь в область политизированных предположений, в которой не тепло и не холодно, Воля, хотя с ним никто не спорит, доказывает с утомительным красноречием, что живи Милка в порядочной стране, где красоту ценят в твёрдой валюте, а не выставляют напоказ бесплатным приложением к нищенским радостям профсоюзной здравницы, грудь её следовало бы застраховать как минимум на десяток миллионов долларов больше, чем сделала это в своё время незабвенная Джейн Мэнсфилд.
Время олицетворяют метафоры.
Довелось вычитать в старой-престарой книге будто материей времени служит прах умерших.
Извращённый идеализм?
Или вульгарный материализм?
Не знаю какой философской инстанции было бы по рангу квалифицировать жутковатую фантазию древних, нашедшую во мне живой отклик.
Если же забыть про строгость аттестующих дефиниций, то, излагая прочитанное пошлейшим нынешним языком, можно сказать, что временная материя накапливается в теле жизни, что высший разум посчитал расточительством не пускать её в ход и закольцевал на потребу времени в мировую безотходную технологию.
И ещё в той книге было что-то про жертвенный конвейер, мерно движущийся к алтарю Хроноса.
Впрочем, словечки из новейшего лексикона небезопасны для темноватой образности старого текста.
Лучше поэтому сказать всего-навсего, что материя времени сыплется, пронзает, саднит и опять невидимо откуда-то и куда-то сыплется-просыпаетея, как прозрачный пепел нескончаемого, неостановимого извержения.
Эпоха по колено – вот уже и по пояс, а то и по горло? – в прахе…
Медленно гибнут невзрачные помпеи, геркуланумы, не дождавшиеся театрализованных катастроф.
Бестолково-хлопотливое, растревоженное пернатое – взлетает, садится, хлопает крыльями и тут же перерождается в копытное млекопитающее: взвивает пламенем гриву, заливисто, палец покажи, ржёт – дикая лошадь, которую не обуздать. Ясно, эта неуправляемая сверхэнергетика хрупкую семейную сферу быстренько в пух-прах расколошматит, но Милка клянётся, что отчаянно склеивала брачный союз, из-за Варьки хотя бы…. В отличие от прочих курортников Милкина биография открыта настежь, гадать не приходится, всё всем ею же добровольно и досконально выложено, пожалуйста, секреты, секретики, нюансики разных там многозначительных мелочей семейного быта непроизвольно и доверчиво всем желающим выдаются. Все наслышаны про даровитую дочку Варю, выводящую в юннатском кружке редких пёстрокрапчатых хомячков, про мизерность алиментов, про колечки, бусы, которые прижимистая, боготворимая бабушка схоронила ей на приданое, не выменяла с блокадной голодухи на хлеб или мороженую картошку. Эти колечки и бусы Милка ежегодно закладывает в ломбард перед отпуском, а совсем уж припрёт нужда – так загоняет цацку-другую, чтобы на плаву удержаться или пусть редко, но прикупить у спекуля какой-никакой импорт. И все знают, что из волшебного бабушкиного сундука вытащен оперённый оперный веер. О, когда наезжают в Ленинград гости, Милка вываливает напоказ кучу забавных, неупотребимых ныне, в ускоряющемся абсурде, вещиц, безделушек, какими кичилась послевоенная барахолка, хохоча, напяливает алчно дожираемые молью пелеринки, боа, а гримасничая, поводя перед зеркалом меховыми плечами, может вдруг разреветься, поминая убитого под Невской Дубровкой отца, замёрзшую мать-блокадницу, обожаемую бабушку, её, Милку, дистрофическую сироту в холод, голод выходившую, воспитавшую и расхаживающую – до сих пор скрип половиц слышен – по Милкиной памяти доброй нечёсаной обрюзглой старухой в засаленном халате, шлёпанцах, толстых, кусучих, связанных из козьей шерсти носках и попыхивающей вонюче тлеющей беломориной, которая зажата в углу испачканного помадой рта.
По-детски размазывая по лицу слёзы, Милка зарывается в залежах афиш, сценических фото с бубном ли, картонным ножом, составляющих большую часть наследства: бабушка когда-то пела в Мариинке, за ней ухаживал трагический поэт, тенор эпохи. Столь дивную зарубку на генеалогическом древе Милка приняла близко к сердцу, пустилась в смелые разыскания, уточнения, обобщения и была вознаграждена: помимо мёртвых реликвий ей теперь принадлежит, к примеру, догадка о происхождении гениально раскачивающихся в мозгу страусовых перьев. Путаясь в датах, но на глазах вдохновляясь, Милка сводит поэтические начала с концами реальности, побивает вежливо усомнившихся вещественным доказательством, эффектно раскрывая достопамятный веер. Не зря зарится на него, раритетный веер этот, литературный музей-квартира. Так вот, мечтая перенести в зиму нравы приморской субтропической вольницы, скрасить бодрящими отсветами юга нудные долгие ленинградские сумерки, Милка зазывает в гости, звонит, засыпает к красным дням календаря поздравительными открытками. Как на постоялый двор, заваливается к ней в коммуналку на Большую Конюшенную иногородний, попавшийся в её пляжные сети люд, и всегда к услугам гостей кушетка, раскладушка в комнатушке, превращённой Варькой в живой уголок. Не приведи господи травмировать нежные, в крапинках, существа, остроумная селекция которых произвела фурор на научной конференции в зоопарке. Хомячки, морские свинки резвятся на бесклеточном содержании, ночью не дают истомлённым гостям сомкнуть глаз, сучат по паркету когтистыми лапками, а когда выскакивают ненароком из-под мебели, то попискивают испуганно, жалобно– беззащитная мелюзга мельтешит в темноте, созерцая будто нарочно, для устрашения, подсвеченного врага. Шелапутный Милкин кузен, Варькин дядёк, бороздящий на корабле академической науки экзотические моря, вывез с необитаемого острова, привлёкшего исследователей-мореплавателей потухшим вулканом, едва вылупившееся из серого яйца чудо-юдо. Да-а, надул Красную книгу, таможню, притащил в потрескивающем, вспухающем тут и там чемодане с дыркой – восторги на дне рождения, к которому подгадал вручение живого подарка, визг! – премерзкого детёныша варана, дабы пытливая племянница-дарвинисточка холила, выкармливала выродка биологической эволюции, почему-то не погубленного катаклизмами естественного отбора. Так вот, экзотичный заморский подарочек быстренько вымахал в прожорливую и отталкивающе жуткую тварь, нагоняя ужас на мелких опрятных травоядных, угрожающе ворочается в круглосуточно обогреваемом – счета за электричество – зашибись! – многоваттными лампами загоне из оргстекла: трясёт в своей парилке мешковато-обвислой бородавчатой кожей, свирепо бьёт, вздымая песок и ворочая черноморские камни, имитирующие естественную сроду, уплощённым чешуистым хвостом, разевает зубастую пасть, желая поскорее схряпать на брекфаст живую мышь. А амбре, амбре гуще, чем на передовой звероферме, рекламирует комфорт домашнего Милкиноге отеля Воля. А Милка за утренним пориджем смущённо талдычит в-тесноте-не-в-обиде, но оживляется, напутствует гостей на дневные подвиги. С чувством облегчения невыспавшиеся постояльцы усвистывают в магазины и культурные очаги. Милкины связи с миром театра отнюдь не порваны, исправно выколачивает контрамарки на «Историю лошади», к тому же служит Милка в Эрмитаже экономистом-плановиком, что гарантирует включение в список избранных, допускаемых к осмотру Золотых кладовых. Так вот, так вот, слёзы, которые брызжут, когда забавы ради примеряются бесценные бабушкины обноски, приливают не только из далёкой печали, но и из близкой, скорей всего именно из неё – невидимую плотинку самоконтроля сносят безжалостные ассоциации, ведь не одна бабушка-Кармен от свободного чувства на сцене гибла, Милкин экс-муженёк тоже небесталанный актёр, по тарифной сетке – герой-любовник, на выпускном спектакле свежо сыгравший Ромео. Воля спер его фас в мосфильмовской фототеке, показывал по-сутенёрски из-под полы, подняв большой кривой палец, а рассмотрел на кинопробе – охаял: хорош собой хлыщ, а за душой – ноль, одной фактурой берёт, но внешних данных его ненадолго хватит. Однако накал Милкиных чувств не зависел от глубины лицедейского дара суженого, она верила в счастливый жребий, желала любви до гроба, оглядываясь в зеркало сказки, примеряла вместе с трачеными пелеринками флёр бабушкиного романа – охапки влажных роз, Аи в станционном буфетике «Озерков»… Но всё вышло не так, не так, сперва – дура дурой – ревновала к поцелуям на сцене, перед камерой, дальше – больше, бабы, карты, питьё по-чёрному, истерики, объяснения на голосах потащили её к разводу.
Многие пожелают потом утешиться на её груди, хотя бы временно, но дудки: обштопав Джейн Мэнсфилд, возможно, и в решающей для иных из знатоков прекрасного компоненте, по комплексному критерию Милка не проходит в секс-бомбы. Похоже, эротический заряд, недобирая до критической массы, вхолостую перегорает; серьёзны ли, нет намерения претендентов, а Милка, расхоложенная превратностями замужества со смазливым театральным распутником, с ходу отвергает видных, напористых. Рен и Красавчик и вовсе не в счёт, это ж только Воля, гегемон словоблудия, подначивает, что не кавалеры, а загляденье – всесильны, богаты, с внушительными рубильниками. Милка в ответ оскорблённо пожимает пятнистыми плечами, зонтом закрывается, может и вспылить, унизить насмешкой местных божков с ублюдочными затылками, пусть и не пытаются лезть, остерегаются схлопотать. Но ведь и высоколобые, заслуженно именитые посланцы двух столиц обхаживают, бывает, даже рыночные розы подносят, а сердце не трогают, не котируются. Зато добрый глаз кладёт Милка на вздыхателей с физическими изъянами; какого-нибудь хилого, хромого, заикающегося комплексанта, вожделенно истекающего в подпольном сумраке, вдруг – фортуна! – накрывает её шумное покровительство. Упиваясь странной благотворительностью, Милка великодушно вводит в компанию новенького Эдика, Рудика, Стасика… В обнимочку с изнемогающей жертвой, словно хвастаясь добычей, прошвыривается по набережной. «У любви, как у пташки, крылья», – заводит Воля, чмокая-шлёпая губами, точно Варькин варан, выпытывает: обнимает она или душит жертву. А ей плевать на Волю, на всех, подкармливает плюгавого фаворита на своей скамейке самодельной, обжигающей специями баклажанной икрой, намазывая её толстым слоем на белый хлеб, а про прочие радости забывает, ни-ни, просто нянчится, нянчится, как с испуганным голодным птенцом, сосунком. Такой вот жалостливый гибрид перелётной дичи и норовистого млекопитающего. Пропадает в Милке мать-героиня, ей бы рожать, воспитывать… И пропадает ни за что детский доктор, дважды проваливалась она на экзаменах в Педиатрический, остаётся компенсироваться облизываниями, тешиться, что чистая ласка, забота достаются тем, кто больше всего в ласке и заботе нуждаются. Как-то на кругах танцвеселья за её благосклонностью охотились гребцы из сборной команды, а она потянула Илью в шумную толчею, прерывисто горячо-горячо зашептала, что худо ей, от самцов воротит, и долго в глаза глядела, туманясь слезами, тесно прижавшись. И Илья сообразил, что выпало ей навсегда любить только непутёвого мужа, хотя он давно с другой и безнадёжно спивается.
Ну пока, пока, близнецы, – прощается и вдруг вскакивает со своей скамьи Милка, вот уже она на парапете набережной, кричит: – Натан Наумович, миленький, бессовестно пропадаете, а смерть как прокатиться хочу, – и галопирует к берегу, где наставляет водных лыжников бритоголовый толстяк, и вот уже вместе с лыжниками, ждущими очереди своей, вопит, хохочет, и вот её, выдернув из воды, тянет глиссер, пожаром мечутся волосы.
Бесспорно, такое незачем притягивать за уши, Митя действительно похож на Илью, не зря их близнецами зовут, тоже тощий, седоватый, носатый, но ведь и отличия в глаза бьют: Илья сдержан, суховато хранит дистанцию, а первый же Митин взгляд, первое словцо атакуют открытостью, широтой натуры. Вспарывает оливковую Митину физиономию рафинадная обаятельная улыбка, слепит, ободряет, тут же горячее рукопожатие, и он – свой, близкий. Пронзительные угольные зрачки, густо-чёрные, будто нафабренные усы, вурдалачий красно-губастый рот, а никаким злодейством не пахнет. Чудом умещающаяся в первом впечатлении вся гамма его улыбок забавно закругляет моментальный портрет чертами опереточной неотразимости – цыганский барон, точнее Воли не припечатать. Хотя ещё котярой зовут: непоседливый, скорый – и вот уже неторопливо-вальяжный, и худоба замещается вдруг упитанностью; мягко-кошачье в нём проступает, не зря женщин тянет его по шёрстке погладить, взъерошить пушистую шевелюру… Непостижимо лепят личность противоречия! При бесшабашной моторности, которую паузы мягкой медлительности только подчёркивают, голос у Мити всегда проникновенный, внушающий; вкрадчивыми суггестивными интонациями обволакиваются даже простые отчётливые слова, речь – мелодичная, словно у сладкоголосых сирен учился. Стоит ему увлечься, музыкальные фразы изливаются из гортани бархатистой, баритональной напевностью, а увлекается вмиг, воспламеняется от слабой случайной искорки, Илья застёгнут на внутренние пуговицы, Митя живёт нараспашку, точно визитная карточка его – курточка-разлетайка. Что-то колобродит в нём, рвётся наружу, кровь смешана с молодым вином, бежит, спешит… Огневой темперамент отнимает у Мити редкие минуты покоя, вот и порывист он, скор, хотя хромает, волочит слегка ногу после детского полиомиэлита, в насмешку над печатью болезни танцует до упаду, как марафонец, молния сверкает на курточке, глаза жгут… И угорело носится из конца в конец курорта, особенно в последние годы, когда Адочкиными стараниями оказался он вынужденно – по её мнению, «удобно» – прикованным к «Литфонду» цепями режима. «Нашего Прометейчика, – трясётся Воля, – не так-то легко приковать». Пилит, позавтракав, километров пять пляжем, чтобы в родной компашке позагорать и потрепаться, потом обратно, обедать в режимный срок, потом… Соревнуется с Гешей в стайерской выносливости, а с Владиком – в спринте, горяч, кеды быстрее всех снашивает и выкладывает, торопясь, рублевки-трёшки Цезарию. Тот-то не против по старой памяти – цистерны выпиты вместе, – но новенькая жена Цезария, бойкая, стервозная – пробу ставить негде – молодуха из Подмосковья, нашедшая финансовое счастье в браке с кротким горцем и теннисным заправилой, прибирает к рукам власть над кортами, упирается, будто деньги пахнут, когда разрядники в белом фирменном прикиде томятся в очереди; не хочет престижное спортивное предприятие компрометировать неуклюжими пируэтами безнадёжного неумехи. Однако Митя правдами и неправдами просачивается сквозь сетчатую ограду кортов, и Ожохин издевательски хмыкает всякий раз, и Виталий Валентинович деликатно советует начинать с азов, методично осваивать приёмы нарастающей трудности, артистично показывает, цепенея в плакатных позах, упражнения для плечевого пояса: короткие такие взмахи туда-сюда, туда-сюда и сразу – длинные, плавные, и припоминает в передышках гимназические годы и преподавшего ему первые теннисные премудрости, застрявшего в революционном Петрограде старенького англичанина. И Митя в рот смотрит Нешу, кивает сообразительным школяром, а всё наоборот потом вытворяет, просимулирует ученическое терпение – и сразу в бой, в бой, словно поклялся сверхдинамику Владика переплюнуть. Однако слабо́. Владик, конечно, тоже не заботящийся об эстетике эксцентрик из ряда вон, и энергия у обоих через край хлещет, но Митя-то ни на йоту не имеет игровых данных, навыков, просто любые, самые неловкие движения ему в радость. Всё у него неэкономно, расхлябанно, но не стыдится нелепо выглядеть, координации – ноль, ракеткой машет – воздух просеивает, а не сдаётся. Тут-то добровольные советчики, сочувственно улыбаясь, на подмогу спешат, хотя Неш в ассистентах нисколечко не нуждается, не надо его перетолковывать, божьей милостью педагог, но всё не впрок Мите, как ни натаскивают. Мало дефекта фигуры, так ещё левша Митя, да не явный, а промежуточный, правая рука тоже у него не отсохла, вот и перехватывает, перехватывает сам у себя ракетку, отнюдь не противника этакими финтами обманывая, но потеет классно – насквозь промокает. И всё равно ему, во что поиграть; корт ли занят, жена Цезария победила – так пусть волейбол, баскетбол, футбол, лишь бы, очумев от счастья, побегать, попрыгать. А когда выгоняют, потому как всю игру портит, – смотрит, болеет, азартно мазил ругает. Чуть мяч укатится, – догоняет в припадке ребячества ногой поддать, чёрт-те куда запуливает: то стекло в кегельбане кокнул, то с пижона-немчика тирольскую шляпу сбил, будто нарочно в перышко целил… И хоть бы хны, очаровательные белозубые извинения, расшаркивания – ну как на него сердиться? Шалун в летах, которого не перевоспитать. А какая закрутилась-завертелась потеха, когда Милка попробовала – всё-таки хромой мальчик – навязать опекунство! Не вышло, быстренько из-под крыла выпорхнул, уж больно суматошные оба, чтобы ужиться. Уж Воля-то на этой историйке всласть отоспался: да-а, мать, бойкий птенчик, в глазках амурчики мельтешат, вдогонку оторвам-кралям стрелы пускают, а ты с ним, за ручки взявшись, гулять собралась. Вот и кажется, что стопроцентная ошибочка – нет с Ильёй ни внешнего сходства, ни внутреннего, совсем никакого, лёд и пламень. Скорей, с Волей надо бы Митю сравнивать – у обоих языки длинные, но Воля болтает без умолку, даже если его не слушают, нутро выворачивает исступлённой монологичностью, монотонно-завывающими интонациями подавляет любую встречную мысль, а певучий Митя ответного блеска глаз ждёт, ему чуткого, заинтересованного, как Илья, слушателя подай. Вот и вместе они, вот и напрягается поле притяжения между ними, диполь, элементарный диполь, берётся объяснять Владик, но спотыкается – их не только заряды разных знаков притягивают, ещё что-то, скрытое, но существенное. Многие ведь, присмотревшись, не без удивления обнаруживали замаскированное отличиями родство, которое Милка первая уловила, хотя уточняли придиры, что близнецы-то они близнецы, однако же разнояйцевые. Вот уж подгадал случай – родились в один год, месяц под общим знаком, совпадений в анкетах более чем достаточно, несколько лет, пока в Москву Митя с родителями не переехал, в одной школе, в одном классе учились, а когда на мысу повстречались вновь, слоняются из года в год ясными осенними деньками по вытоптанным маршрутам; трогательная парочка, водой не разлить…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































