Текст книги "Пицунда"
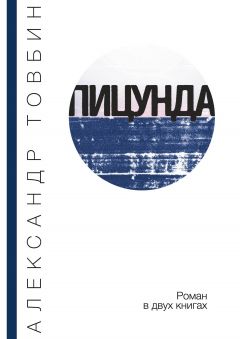
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Ошеломлённый светом, его проникающей плотностью, ты беспечно запечатлеваешь на чувствительной плёнке души шифровки будущего, чьи тайные планы проявятся потом, в потливых искупленьях бессонниц, хотя что-то уже теснится в тебе, что-то зреет, ворочается. Но не фиксируя слабого художественного позыва – он лишь забродил в тебе, – не ведая ещё маяты повёрнутого внутрь зрения и посматривая размагниченными глазами по сторонам, ты всё чаще непроизвольно, как бы из любопытства, поглядываешь в себя. Когда начинают переполнять пугающе-смутные ощущения и нет места для новых чувств, тебя время от времени посещает всё же престранное желание сосредоточиться, укрыться от внешнего благолепия, и всё чаще ты, как окажется, забредаешь на ночной край сознания, продолжая привычно шагать по солнечному пути вдоль моря. О, тебя по-прежнему омывает ясная ярчайшая безмятежность, но хмурая бессмыслица всё настырнее толкается в голове, немотивированные тревоги сжимают сердце – наверное, так физиология реагирует на интуитивный позыв к чему-то, что тебе пока что неведомо. А между тем позыв этот самоопределяется в синкретичный творческий импульс, включает двигатель таинственной мощной тяги, о природе которой ты пока что тем более не догадываешься. И вот импульс этот уже мытарит, ищет выход в направленное развитие, оформление в материале, жанре… Но переживание внутренних мытарств будет потом, потом, а пока ты лишь испытываешь беспокоящее внутреннее давление, и шестое чувство косноязычно подсказывает тебе, что лишь выражение в особой форме этого беспокойства сулит преодоление, освобождение от него. И мания выразиться-освободиться завладевает тобой, не отпускает и больше никогда не отпустит – дикая силища поднимается, растёт, распирает пугающе-радостной неопределённостью приготовлений к чему-то неизвестному, влекущему. Ещё нет элементарного анализа смутных тревог, тем более нет позиции, но сколько поз ты уже перебрал, бессознательно пробуя голос, нажим пера! Не ведая, что творишь, ты, быть может, выращиваешь магический кристалл, гранишь его в невнятных, невротичных трудах души. О, – избавление от давящего, гложущего, счастливого неудобства?! Ну что за странность? Все предощущения твои опережающе высоки… Ты ещё не понимаешь, что именно с тобой приключилось, что и как тебе суждено сказать-выразить и будет ли в этом потянувшемся к ещё нераспознанной красоте высказывании мизерная хотя бы польза, однако – долой прагматику! – упорно, пространно, выспренно проборматываешь случайные звуки многосмысленного, аффектированного, заносчивого молчания. Ты позёрствуешь, по-ораторски выпячиваешь грудь, выбрасываешь руку так, эдак, и невесть когда выросшие лирические крылья дивной подъёмной силы трепещут, возносят выше птиц, ангелов, внутренний голос завывает, как поэт на эстраде… Ты досадливо морщишься, но знай себе форсируешь, немилосердно фальшивя, произношение вещего слова, которое ускользает, как эхо, как отражение в чёрном зеркале, издевательски оставляя вместо себя тома пустых общих слов, прикинувшихся синонимами ускользнувшего чуда…
Зафырчала подводная лодка, ударили звонко склянки.
И на табло с шорохом выскочил новый час.
Чёрт-те что с тобою стряслось, казалось бы, вот-вот дёрнет током, потянет в изнурительную страну нафантазированных чудес, сотворяемых, будто Создателем, тобою самим, а ты всё ещё заточён в распаляющей безысходности вероятностей. Не подозреваешь даже, что скоро, совсем скоро на границе этой вожделенной страны тупая центробежность примется разрывать, разбрасывать твоё сознание по кускам, распылять но каплям, и эта экзекуция станет ценой, которую придётся платить, как платят у нас за визу, и скоро придётся тебе признать, что защитная нравственная подслеповатость оборачивается хоть и временной, но непростительной льготой: засасывает естественное позорное желание спастись, сохраниться, укрыться от повседневных ураганчиков в укромном сочинительском уголке. Да-да, ты готов твердить, обращая бегство в иллюзорный акт мужества, что это – твой путь, да-да, разве даже сейчас, радуясь приморской субтропической сказке, ты инстинктивно не сопротивляешься распаду ума, воли, который пострашнее распада биохимического? Бесспорно, ты испытываешь себя, многократно симулируя гибель всерьёз и возрождаясь, хотя, конечно же, ты не вырываешь из груди сердце, чтобы подарить его заблудшим, слабым. Нет, тебе органически чужды театральные жесты на людях, и вообще искусство потребует от тебя, как ты убедишься, совсем других жертв. А пока, в теребящем ожидании предстоящего, ты лишь охраняешь цельность натуры кастрирующей любовью ко всему сразу, выливающейся в пренебрежение к простой каждодневной жизни и выборочное внимание к её вечным драгоценным осколочкам, которые разлетаются, увы, вперемешку с сокровенными твоими частицами. И тут же подсказка свыше: чепуха всё это, мелочи неизбежных потерь, а важно то, что ты слышишь внутренний гул, что тебя бросает из жара в холод пробных борений с самим собой. И пусть ты решительно ничего не знаешь о происках демонов, засевших глубоко-глубоко, и, стало быть, не можешь знать сколько дней, лет предстоит тебе додумывать, кромсать, клеить этот бесконечный роман романа, алчно пожирающий твою жизнь и этой простой единственной жизнью, её узорчатой подоплёкой заманивающий тебя в свободную даль, – что ж, пока ты всего-то перебираешь физиологические и психические курьёзы, смущённо примиряешь внутреннюю вялость с незнакомой досель интенсивностью воображения. Сомнамбулически медлительный от природы, ты вдруг и вовсе обмякаешь, как паралитик, или, напрочь потеряв власть над телом, над элементарнейшими его движениями, можешь дёрнуться, встрепенуться – смахнуть со столика кофейную чашку, решительно шагнуть в витрину вместо стеклянной двери, натолкнуться на пластмассовое креслице, подняв страшный грохот… И это тоже ты – вдруг, ни с того ни сего возбуждённый, летящий, поди разберись…
А пока, пока в соответствии с утешающей, как отсрочка от боя, льготой отнюдь не в себе ловишь ты досадные симптомы распада, а только по сторонам. Бросая отвлечённые взоры поверх человеколюбия, нет-нет да рассеянно вздохнёшь: ну и расплылась вчерашняя девочка, сколько лет-то минуло – семь? Восемь? Неужто десять? Вот уж с кем круто обошлось время, припечатало синяками расплывшиеся переспелые бёдра… И всё ещё элегично вздыхая, наблюдаешь ты за натиском ухоженных длинноногих созданьиц, отформованных новой модой, – вот оно, спортивное и витаминизированное младое племя, которое своего не упустит. И пусть, пусть, таков закон! Ты утопаешь в радостной передышке, внутреннюю мелодию ведёт колебательный меланхолический лейтмотив, и поэтому влажной грусти как не бывало. Высушенным солнцем субтропиков взглядом провожаешь ты красавиц, которых когда-то знал, – тускнеют, сникают, иные в попугайских нарядах делаются отталкивающе активными, желая жадно догулять бабье лето… Но с какой всё же стати, подумаешь ты, блекли красавицы и лысели, испещрялись морщинами трепливые ухари-современники из твоего пляжного круга, когда год на год здесь похожи как день на день, которые при всех бризах и морских треволнениях словно не смеют шелохнуться в жаркой истоме? А-а-а, до чего ж сметлив! Вздохнув вновь, ты втолковываешь себе, что подлые перемены творятся временем вне этого отвоёванного у разрушительных сил мирка, творятся не здесь, а там, за тридевять земель, там-там, в изводящей служебно-бытовой хляби. Здесь-то всё прекрасно, неизменно и безопасно, здесь время ласково оберегает тебя… И как ни странно, лёгкие касания трансцендентности вконец расхолаживают душу коварной ленью, тебе всё труднее даются даже малюсенькие открытия – плоско, пошло выучился ты претворять морские дуновения в спёртый дух метафизики: да-да, се ля ви, да-да, так было, так будет, зачем грустить, коли не нами заведено… Но ты-то, шаря восхищённым взглядом по успокоительной вечнозелёной округе, веришь эгоистически, что исключительно тебя не коснётся жизнь смертельным своим порядком или коснётся когда-нибудь, в безопасно удалённом тумане глубокой старости, твой срок не пришёл и придёт не скоро, впереди столько всего ещё, и дни, дни, все эти дни – твои, и вовсе не позолоченная календарная осень, а неподдельное ясное лето горит, сверкает. И светило, расщедрившись, греет, припекает, жжёт, старается вовсю для тебя – бронзовей, слепни от буйства красок, всё, что сияет, – твоё: капельная радужная завеса поливального распылителя, замедленные манёвры облака, истома пальм, все шелесты, гудки, всплески…
Последний вечерний полёт над волнами?
Плюх, плюх – забавно плюхает акульим брюхом, отрываясь от воды, падая, пилотируемый Борей-Борухом глиссер, и сам ты, кажется, устремлён, глотая ветер, вперёд, по волнам, как шустрое, заострённое судёнышко, и нет преград, и чудо, ради которого ты появился на этом свете, вот-вот наградит все твои усилия. А если кольнёт – возможно ли? Состоится ли? – гонишь никчёмные сомнения, как невралгию. Да, солнце ещё исправно вращается вокруг тебя одного; любуясь в кучке зевак очередным закатом, ты беспечно думаешь, что чудо просто-напросто откладывается на завтра…
Ша, корешата, – властно окуривает сведущим обаянием, точно восточными благовониями, Тима, – вы бы, умники-разумники и эстеты хреновы, уписались от закатов-пожаров, какие в настоящих тропиках полыхают. Что здесь? Плюнуть и растереть, – и покачивает, покачивает дальше вольную беседу на волнах злободневности. То, сё, все покорно слушают щедрого гостеприимного капитана, он спохватывается, что в посуде сухо, разливает за коньячком шампанское – редкостное, мускатное, из запломбированных подвалов: по кондиции-то с лёгким брачком, не прошло к столу на госдаче, так выбросили в открытую продажу, удача! Тима даже пяток бутылок впрок прихватил – лучше нет после какой-нибудь крепкой мерзости и даже после сносного коньячка наводить на кайф полировку. И Раечка подносит сливочные шарики, ванильной пылью обсыпанные, последние наскребла, для Тимы старалась. А блудливый болтун ноль внимания, облизнул молоко с толстых губ, ладошку бугорком Венеры к груди прижал, как оперный принц, «пока, пока, моя королева красоты» пропел, ножкой в наклонном прыжочке-полёте дрыгнул и, звякая авоськой, с троицей развесёлых мурловатых морячков, возглавляемой старым знакомцем, мичманом-свехсрочником с балаклавской подлодки, отпущенным в увольнение – морячки давно уже усердно семафорили зовущими знаками, – в темноте растворился. А куда перебазировался с братвой продолжать поддачу – леший знает. Раечке неспокойно: с Тимы в заводе станется не только бутылки прихватывать, может и девок-профсоюзниц под сурдинку использовать, их только помани… И выдыхается без Тимы гудёж, хачапури закончились, Баграт в румынских кремовых кримпленовых штанах со стрелками и турецком кожаном пиджаке шествует с пакетом под мышкой к своему яично-жёлтенькому «Фольксвагену», Рая гремит пустыми бидонами… Сумеречная увертюра оборвалась на разбередившей ноте, а настоящее вечернее шоу не закрутилось ещё, вон, профсоюзная масса потерянно у лестницы курзала чернеет, маята, когда ещё пора придёт к Элябрику завалиться, чтобы спустить с деньгами скопленные эмоции. И вдруг в этом неприкаянном провальчике времени Воля подхватывает брошенный Тимой штурвал беседы и круто курс меняет. То ли ударило, осенив, лёгкое головокружение от мускатного газированного напитка, то ли Илюшкин кондуит, придавленный сумкой, подсказал темочку, на которой в самый раз отоспаться, но, как бы то ни было, Воля лоб морщит, за стёклами очков глазами вращает – напрочь забыв о неприкосновенности свободы воли и совести, допытывается святым инквизитором: не летописец ли в стройные ряды затесался, не берёт ли слова, поступки на карандаш, уподобленный скрытой камере. А Илюшка, не расставаясь с беззащитной улыбочкой, мгновенно обезоруживает, наугад открыв, из тетрадки зачитывает про барокко, помпезно заболевшее рококо, про истошный вопль рефлексии, которым отзываются на мировые передряги художники… Милка уже граблями машет, хватит, мол, хватит, головная боль от твоей учёности… Короче, показал Илья любопытствующему Воле нос, ясное дело – вряд ли что из тетрадки его выжмешь для развлечений, лучше уж шары катать в кегельбане. И компания, обходя столы, удаляется, оставляя Илью в покое. Вот, собственно, и все посягательства. Илья достаёт из сумки фейхоа, чудесно замышленный и исполненный Богом плод, похожий на зелёную сливу.
Только у сливы кожица гладкая, тонкая, а у фейхоа – потолще, грубее, пожалуй, не кожица – кожура. И форма фейхоа посложнее, чем у калиброванных слив, с наростами, ложбинками переменной глубины, кривизны, и кожура старательно их обтягивает, чередуя матовые участочки впадин с тускло блестящими, кое-где чуть ли не глянцевыми, словно отшлифованными, смазанными каким-то проникающим лаком, который впитали выпуклости, отчего кожура на них кажется окрашенной на всю толщу безукоризненно чистым, глубоким и густым цветом молодой хвои. Лишь местами, если плод переспел, в еле заметных царапинках и ранках защитного слоя отливает буровато-йодистой темнотой, на дне же ложбинок, где кожура ещё грубее, толще, чем на поверхности, а где-то и вовсе бугристо-твёрдая, она усыпана голубовато-дымчатыми пупырышками. Илья отщипывает присохший кончик завязи, откусывает половинку плода, медленно пережёвывает, дыша букетом хвои, земляники и ананаса, волшебным, как фантазия французского парфюмера, разглядывает нежно-салатовый, тончайший, копирующий все-все микроскопические наружные неровности ободок между кожурой и терпким бледно-кремовым равномерно-крупчатым эпителием, плавно переходящим затем в кое-где тронутое желтизной желе – питательную обойму для серцевинной, сладко-сочащейся тёпло-розовой плоти, в крохотные вмятинки которой симметрично вставлены чуть поблёскивающие белёсые зёрнышки.
Да, сумерки сгустились, огни зажглись, но как же медленно раскочегаривается вечер! Глиссер Бори-Боруха уже подхватил подъёмный кран, чтобы отправить почивать на ночной стоянке – между задней стенкой кафе и бетонным забором госдачи, а страждущие ждут открытия баров…
Пока в пустеющем кафе Илья упивается ароматизированным творением Бога, Воля, бодро вышагивая, треплет образы бумагомарак разных рангов и профилей, в том числе и притязающих на бессмертие, мнёт, теребит тонкую, но суровую материю искусства, бросающего на одержимые лица отсветы воображаемых драм. И мечутся в Волиных очочках огни, берегись! «Ещё один большой учёный на наши головы, погибель от умников», – фыркает, кутаясь в кофту, Милка, виски трёт, будто с мигренью борется. «Мать, это ж не тот фонтан, что можно заткнуть», – напоминает ей скороговорочкой Владик и тут же вырубается, чтобы разучивать на ходу модный дыхательный комплекс: медленный вдох – быстрый выдох, быстрый вдох – медленный выдох. Воля Милкин фырк с колкой репличкой Владика пропускает мимо ушей, он уже захвачен диалогом с бессловесным пространством, вздувающимся чёрными сосновыми космами, как по писаному читает-цитирует, настырно внушая кому-то невидимому, что и при внешне отрешённой, чуть ли не монастырской жизни занятие искусством порождает такую избалованность, утончённость, усталость, нервозное любопытство, какие едва ли может породить жизнь самая бурная, полная страстей, наслаждений; иллюзорный мир сулит своим избранникам неожиданные повороты судьбы, кажется, за иными из таких поворотов поджидает настоящая гибель, но стоит лишиться мнимых радостей, страданий, угроз…
Митя, благо на ужин литфондовский опоздал и терять ему нечего, покорно внимает лектору-экзекутору и заодно к модуляциям скрипуче-хрипловатого Волиного голоса примеряется, чтобы при случае похлеще передразнить. Да-да, ребятки, негуманно тоску на вас нагонять в такой дивный звёздный-презвёздный вечер, вдруг соглашается с Милкой Воля и опять за своё: пусть пишут, что взбредёт на ум, на здоровье, пусть взваливают на себя творческие грузы, корчат из себя мучеников пера… Накрывает мягкой тяжестью роща, тускло блестит мозаичное мощение аллеи, струящейся вдоль сетчатого забора, душит банной эссенцией хвоя, дурманят цветы – как только справляются обоняние, лёгкие! – вспыхивает киоск, пятнисто залепленный грузинскими и гэдээровскими журналами, снова густеет сумрак. Воля задевает рукой стволы, ритм отбивает, а уж войдёт в ритм, заснуёт между частностями и обобщениями – так долго не остановится. Точно, точно, перебирает он «про» и «контра», и убеждённо бормочет, бормочет, но уже головой в сомнениях вертит, как внезапно потерявшая след ищейка: не так уж творчески нагл, не так уж артистичен Илья, чтобы хватать эти крупные звёзды с неба, но… И опять головой направо-налево и, прикидываясь скромником, признаёт, сколь далеко ему до умений Вахтанга прозорливо читать по лицу приговор судьбы, он боится ошибиться, гадая, ведь не вяжется с полётами фантазии вегетариански-бесстрастная Илюшкина анемия. А Милка не терпит, когда за глаза обсуждают и обижают, тревожится, что бедняжечка за своим угловым столиком в кафе икотою изойдёт. Забежав вперёд, Милка кидается на Волю, вопит, что он хуже клеща впивается-вживается в тихого человека и по-шулерски про вегетарианский вид передёргивает, хотя Илюшка мясоед, в «Руне» чанахи с бастурмой уминает… И чудо! Пищевой аргумент ослабляет Волины сомнения в наличии божьей искры, даже Владик обрывает шумные вдохи-выдохи, когда Воля поднимает, сдаваясь, руки и бубнит виновато, что, конечно же, внешность Илюшкина чересчур загадочна для окончательных опознаний, такой орешек и Вахтангу до ядра не разгрызть, похоже, непознаваем Илья, как этруск, что-то в нём светится, а что – поди раскумекай…
Редкий случай, но вдруг отказывается Воля гнуть свою линию, так как навязчивых идей сроду не исповедывал, и, резво снижаясь, сожалеет о явном переборе высоких слов в толковании простецкого хобби или какой-нибудь функциональной повинности. Полез в иеобъятную трепетную сферу искусства, а хотел-то всего-навсего крохотную точку над прописным «и» поставить. И вот она, эта точка, извольте – при общем согласии, выраженном утомлённым молчанием, Воля доверительно сообщает, что, надо думать, кропает человек урывками на курортном досуге запоздалую диссертацию, скажем, семья перепиливает и нету мочи сопротивляться, многие ведь к его годам уже успешные доктора с портфелями, а у него, хоть свинца и хватает в заднице, чтобы степень высидеть методично, диссертабельная идейка в целости никак не проклюнется, он между барокко с рококо рефлексирует, по осколочкам узор случайных догадок складывает, не ведая, что получится. Если же служба абсурдом давит, а к сорока даже на кандидатскую не сподобился, чтобы худо-бедно престижно выглядеть и безбедно стричь какие-никакие прибавочные купоны, ох как загрустишь, глаза ранами загноятся, свет мил не будет… Махнул Воля рукой, как плетью: точно, архитектор лишь по старой памяти профессия видная, ныне мало шансов в ней выразиться, но он-то совсем сглупил, вместо возведения дворцов из аллюминия и стекла взялся что-то крупноблочное гуманизировать, да невмоготу зажало-защемило его в коридоре ограничений. Вырваться бы, бежать, а ты апатично бредёшь, бредёшь, одолевая новые и новые бюрократические барьеры, по этому коридору, с натугой огибаешь в воображении коробчатые шедевры, рождаемые тупостью конъюнктуры, эмоции твои чахнут, но инстинкт самосохранения всё же выбрасывает тебя в мечту. А пока тебе надо проверить, на что ты способен сам по себе, один на один с собой, без непрошеных безответственных соавторов. И вот ещё одна попытка вникнуть в смуту, которая тебя посетила, ты отталкиваешься от противного, доказывая себе, что не смят сопротивлением материала – тебя просто-напросто отвратили его конкретность и диктат конструктивности, этого жупела земной реальной пространственности, вне которой распадается взаимодействие трех проекций. Да, до тебя донёсся вдруг клич свободы, заглушавшийся досель долгом, привычкой – мало ли чем ещё? А сейчас тебе захотелось дикой упоительной дисгармонии, становления чего-то, чего ты ещё не испытывал, захотелось, как хочется солнца после сумрачной гриппозной зимы, и потянуло в деструктивность, в сыпуче-текучую стихию необязательных слов, лишь бродящую потенциальными смыслами, – стихию плотную, но неосязаемую, непреложную, как самоё время. И в этой прихотливой стихийности ты тщишься обрести волшебную компенсацию, обманываешься якобы ненаказуемым счастьем лепить форму из ничего, подобно тому как лепит её небесный импровизатор ветер. Легко, вольно несут тебя в голубом полёте просвеченные лучами крылья, ты летишь бок о бок с парящими облаками, вдохновляясь их праздничной неутомимой изменчивостью… Расквитываясь с профессиональным прошлым, хоронившим живую изначальную пластику в умозрительных прямоугольных решётках, ты даже напрочь забываешь о форме, уходишь с головою в бесформенность, точно в бескрайнюю ласкающую отдушину в угрюмом мире запретов, и, проваливаясь в беспамятство абстрактного поиска, ты не знаешь ещё, что самыми жёсткими ограничениями на свете будут для тебя те, которые ты сам себе продиктуешь. А пока, пока тебя влечёт, вздымает что-то, что ты условно назвал крыльями ли, мечтой и что много сильней тебя, и эту подъёмную силу скорее всего даёт не бунт характера, который устал терпеть, не геройство, не трусость, нет тут, пожалуй, твоих заслуг или упущений – эта сила вообще вне тебя, ты ощущаешь лишь слияние с каким-то вечным течением, которое тебя выбрало, потянуло вверх и которому ты преданно покорился.
Но кто же сможет вникнуть в твоё, самому тебе неясное возвышенно-смятенное состояние? Здесь трудно усекать тонкости, не грех напомнить, что здесь, в этой стране субтропической безмятежности, нет места и времени для серьёзных задушевных бесед. Правильно Милка наставляет свою банду общаться легко, весело, вскачь, ополчаясь на любое омрачение настроений: каждый пусть в одиночку свою лямку тянет, а отдыхать вместе будем, взахлёб, в шальном компанейском темпе. Что ж, тихими своими странностями Илья никого не обременяет, без трений входит в вечерние развлечения, куролесит под общую дудку, хотя и не очертя голову, и шутке подыграет, добавит точную реплику, и выпивает со всеми, дёргается под музыку, если есть настроение. Не то чтобы душа общества, до этого, конечно, далековато, но и не бука. Что же до неопределённости, этрусской бесплотности, питающей разговоры о грустных глазах и пресловутой тетрадке, то тут Воля и называет Илью внезапно, когда казалось уже, что до дна исчерпали тему, внештатным актёром труппы, без которого не обойтись. Милка ладони отбивает в восторге, до чего точно – внештатный актёр, и вдруг губу закусывает, не иначе как театральные аналогии возвращают её в личную разбитую жизнь. Но так как она не может себе позволить горевать и расстраиваться, когда другим запрещает распускать нюни, то сразу выкрикивает замечательную идею: погрохочем в кегельбане шарами и спасём Митьку от гнева Адочки, раз уж он к ужину опоздал? «Ура!» – радуется Владик появлению цели, да и Воля не прочь встряхнуть творческую обитель: хотя, по слухам, в обители письменников и дохнут от скуки мухи, пора завалиться в «Литфонд», навести шороху.
Наутро – на загляденье – пучится облаками небо.
Бесшумный шабаш воздушных течений.
И – ватные соборы, дворцы, виадуки грузно ползут на север, за мыс, сталкиваются, сминаются над ультрамариновыми струпьями моря, продавливая горизонт запылёнными романтическими руинами: далёкие волны плещутся под эфемерным мглисто-розовым хаосом, который громоздится небесным землетрясением.
А чуть выше дымного оседания стен и башен заморского небесного города мнутся, еле-еле подвигаясь к горам, новорождённые, вспухающие на воздушных дрожжах зефирные существа – горы наваливаются на горы.
И сразу, не истратив ещё только-только обретённую энергетику, газообразные клубы и хлопья разъедаются лазоревыми прорехами, размываются невидимыми струями, превращаясь в бледно-голубеющую марлевую полупрозрачность.
Те же, что успевают до расползания-растворения видимых форм коснуться твёрдых холодных хребтовых граней, опять сбиваются в аморфное шафранно-сахарное сверкание, застывающее в сомнениях – во что воплотиться?
Тяжёлая текучая гуща пара нехотя отлипает от мрачно-фиолетовых горных круч, вздувается буграми плоти, в томных колыханиях формуются и гибнут пышные, глубоко вздыхающие тела.
Зримые потуги творения?
На старте – неуклюжая сильфида, ещё одна, ещё…
Согласными, чередующими жар с прохладой светотеневыми толчками, которые заставляют море искрить и гаснуть, многолико-подвижные фигуры, спутав, как в невесомости, где верх, где низ, неловко ворочаясь, корчась, раскидывая пухлые, опушённые солнцем члены, сносятся к югу на косматых серо-землистых спинах и животах.
Как быстро обретают они самоуверенную дородность!
Как полновесны уже эти самодовольные небесные странники, как хвастливо выпячивают они свои недолговечные, живущие минуту-другую выпуклости, красуясь над водной равниной, пыжатся, раздуваясь, клубясь, испаряясь до опасного истощения; и вот уже, тряпично-сморщенные, они прополаскиваются, как бельё в синьке.
И уже тащатся за уплощёнными телесами дырявые кисейные рукава, истрёпанные до нищей бахромы полы, кто в чём, чем не сюжет? Эвакуация по воздуху некогда мастодонтистых жертв стихийного бедствия, которые вдруг стряхивают с себя прохудившиеся одежды под бело-синюю мажорную музыку: пышущая здоровьем женственность опять вселяется в них, заряжает распирающе-бурной, плотской энергией.
Вздымаются могучие груди, неправдоподобные, вылепленные с кучевой материальностью роскошные бёдра – не снимал ли Феллини своих тучных эротичных матрон, поглядывая на небо?
Но ветер снова меняет замысел.
А я, заворожённый метаморфозами, смотрю во все глаза…
Рыхлые небожительницы растерянно пучатся, бессильно снижаются, оцарапываясь о хвою, застревая в острых прорезях пальм, и, переформировавшись, устремляются из-за почерневшей рощи назад, к порушенным очагам.
И опять встаёт над морем фата-морганный город, припорошенный снегом, позлащённый солнцем.
И причудливые сооружения опять легко спутать с причудливыми телами, опять и опять слепая самоубийственная бесшабашность гонит новоиспечённую ватную рать, не жалея себя, крушить всё, к чему ей суждено прикоснуться.
Тяжёлый бесполый торс, угрожающе наплывая, меняя очертания свои, сшибает вычурные уступы, сметает клубящиеся останки башен.
Таранная одержимость дрябло-округлых плеч, бицепсов.
Зажатые в рваных кулаках палицы.
Сколько напыщенности и робости, имперско-величавых поз, лёгкой грации, беззащитности, сколько пластических фантазий рождает и губит оргия ветреных немотивированных метаморфоз, которая не может наскучить?
Что за прибыльные колёса крутит расточительная в формотворчестве своём суетность атмосферы?
За какими богатствами, куда намылилась, развеивая клочья отвоевавшейся плоти и лихо меняя галсы, обречённая флибустьерская флотилия с надутыми парусами?
Любознательность ротозея, понимающего, что такие вопросы задавать неприлично.
Лучше уж напоследок, прежде чем уткнуться носом в тетрадку, посмотреть ещё выше, туда, где в синеющей пропасти, углубляющейся над дрейфом мягких армад, там и сям курится сиреневатая пелена.
Чуть было не упустил из виду заоблачные дымки.
Их медленно разносит ветер по сторонам.
Они едва различимы в лучистом флёре.
Блекнут.
Тают.
Как траченная временем прекрасная ткань.
Ловлю эфирную образность – непонятливо разлетаются сознания разных людей, которые хотелось бы сплотить, уплотнить, сведя в прозе.
Всё ещё смотрю, задрав голову.
Уношусь бог знает куда.
А оказывается, всего лишь слежу за метаньями замысла, ищущего – по аналогии с облаками? – для летучих содержаний прочные формы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































