Текст книги "Пицунда"
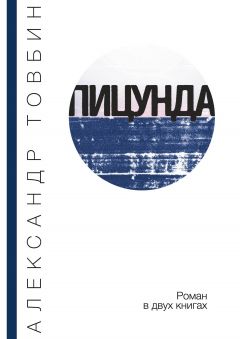
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Предположим.
Но это – город, стихийный и упорядоченный, а при чём здесь литература?
И разве не хромают все аналогии?
Откажемся от «придуманной» компоновки строк, пусть из абзацев непреднамеренно соберётся какой-никакой узор – быть может, текст сделается живым, естественным…
Или присмотримся к опытам авангардистов – вовлечём, к примеру, в компоновку читателей, используем их пожелания: сначала об этом, затем – о том; а вот – варианты конца, на выбор…
Подобные новации почему-то не прижились.
Фокус, однако, в том, что возможность пространственного путешествия по развёртывающейся во времени прозе обеспечивает совсем другой, чисто городской принцип взаимодействия элементарной (в киоске купленной) схемы и самостоятельно постигаемого городского многообразия.
Схема (сведения о плане, топографическая картинка), последовательно дополняясь, усложняясь и реконструируясь по мере узнавания города, хранится в памяти и активно (но незаметно) корректирует наши намерения, пока мы бродим по улицам, смотрим (не глядя) на пышную лепнину фасада, натыкаемся на подсказки афишной тумбы, вздыхаем у дорогой витрины.
Как же – по аналогии с прогулкой по незнакомому городу – воспринимается не написанный ещё текст?
Не успев довериться общей ли схеме, избранным «методом тыка» фрагментам, деталям плана, можно даже незаметно схему сложить-убрать и писать-гулять на свой страх и риск, но также можно мысленно (когда пишешь) увидеть невзначай более подробный рисунок характера или действия, увидеть новый дразнящий намёк на приём и тут же – прикрыть рукой или спрятать от самого себя за спину написанное, и снова писать, и так ли, иначе заводить себя многократно, усложняя игру, развивая схему, меняя её масштабы, степень подробности, широту охвата, заглядывая (условно) то в центр, то в пригороды, овладевая системой лишь намеченных (в городе – замеченных) ориентиров, боясь заблудиться, но решаясь на прогулки по не освоенной ещё странице-местности.
Так пишется (со скрипом) роман или – прыжок через сколько-то сот страниц – уже читается?
Ну да, в самом процессе письма зашифровывается ведь и процесс чтения…
По сути, приступая к чтению спонтанно возникавшего, не следовавшего хрестоматийным правилам письма, мы, словно очутившись в незнакомом городе, интуитивно готовимся к захватывающему путешествию, которое вообще-то вольны начать с любой (даже первой) фразы, самонадеянно почувствовав, что готовы понять тайнопись, и если всё же заблудимся, то не будем звать истошно на помощь, постараемся своим умом сориентироваться…
И визуальные ориентиры дополняются образными, общезначимыми и личными, текст, развёртываясь во времени, наполняясь и заряжаясь символами, связями, смысловыми параллелями, обживается, как городское пространство: дома, двери, окна, дворы, улицы, фонари, аптеки, булочные, трамвайные остановки окрашиваются воспоминаниями, надеждами, отношениями. Путешествуя (читая), мы ввязываемся в диалог с собственным прошлым, каждый раз переносясь в него заново: на этом углу – забегаловка, в которой… Ох уж эти поводы для лирических отступлений… Вон там, за разросшимися деревьями, – стадион, когда-то (клякса)…… ………………… А по той улице в трескучий мороз взад-вперед вдоль ограды чёрно-белого Таврического сада… А там – проходной двор с Литейного на Моховую, промерзавший насквозь, с пухлым инеем на стенах лестничной клетки, флигель снесен, следа не осталось, а старый клён в исчезнувшем закутке светового колодца жив до сих пор, да… ……………… Столько лет вытекло в арку подворотни! Домашняя (для себя?) выставка, абстрактные композиции, струящиеся мазки широкого флейца; и представим: в длинном душном зале Дома культуры Газа стоял перед совсем другой картиной, с зеркалом, вмонтированным в неё ………. ………………………… (клякса, ещё одна), последний раз на этом вернисаже говорил с Лерой – прижалась к плечу, провела рукой по виску, смотрел на неё, смотрел, будто чувствовал……………. И дальше, дальше, на последнем этаже Толстовского дома, в большой комнате с боковым окошком – Лина, угловая тахта с полосатым пледом под книжной полкой и каплановской литографией с каким-то архаичным, бесхитростно счастливым еврейским семейством, циновки на полу, полумрак, за окном дурашливо мечутся по небу НЛО; откинув устало голову, Лина затягивается сигаретой, ярче раздувается огонек; розовый подбородок, будто высвеченные фарами на повороте горной дороги гроты ноздрей, и опять – что-то ищут на груди губы; и никого больше… И валит толпа из «Авроры» сквозь анфиладу мрачных дворов… Что смотрели в тот вечер с Кирой, «Зеркало»?
Всё позади, но, может быть, она помнит?
Позвонить, спросить?
Город полон людей, но город одухотворяют История и женщины, вернее, истории близких женщин. Что Троя (нам!), когда бы не… Да-да, всё так, однако, чтобы решить большую художественную задачу (роман?), ее, задачу, для начала надо бы ограничить.
Как?
Понял это ещё в то мартовское утро с неожиданной, не по сезону, радугой, когда заворочался вдруг эмбрион замысла.
Ограничить – это тоже задача, и, может быть, более сложная, чем задача расширения и охвата.
Но Соснин эти противоречивые задачи объединял, он ведь всегда ставил перед собой предельно сложные (мягко говоря, спорные) задачи, вступал в соревнование (мысленное) только с великими (архитекторами, художниками, писателями), и если в конце концов ничегошеньки не решал и никого из великих не побеждал, ибо так и не касался пером ли, карандашом бумаги, то по крайней мере духовные максимы вкупе с грандиозными замыслами давали бездействию весомое оправдание.
Так вроде бы было с ним и сейчас, здесь: напишет настоящую (?) прозу или… потерпит крах.
Однако уже в то ясное утро с радугой, когда нахлынули смыслы-картины, вызывающе перемешанные с бессмыслицей, почувствовал, что напишет.
А пока – отбор (до полного исключения того, что называют «жизненными реалиями»), в том числе отбор (из чего?) женских портретов, всего нескольких, непохожих, но символически значимых, образно сопоставленных.
Как в романе поэта, где сердце героя разрывали (и разорвали) два разнесённых в пространстве и времени магнита – Тоня и Лара, попеременно меняющиеся местами жизнь и муза?
Нет.
Иначе.
Женщин-амплуа должно бы быть не две (на разрыв аорты), а три, и каждую из них, представляющую треть его самого, стоит поместить в вершину в корне отличающегося от традиционного любовного треугольника.
Чувствуя, что через него одновременно проходит слишком много границ, Соснин жил в среде смутных образов, колеблющихся настроений, желания были изнурительно противоречивы, и, пытаясь приблизиться к познанию своей внутренней жизни, он (ещё одна странность) не находил ей лучшего образного уподобления, чем загадочный трепетный мир колдеровских мобилей – в принципе стационарных, вполне уравновешенных конструкций, которые, однако, вдруг поворачивали лёгкие коромысла и лопасти, принимались беспричинно жужжать крохотными пропеллерами, дребезжать и трепыхаться мембранами или звякать, донося лёгкое дыхание ветерка, какими-то замысловатыми, точно старинные серьги, подвесками, вырезанными из чёрного металлического листа.
Всё, что в порядке подготовки к (главной!) работе говорил, писал, рисовал, проектировал, отражая и выражая свой взращённый в пограничных тревогах характер, несло на себе печать двусмысленности, у каждой буквы и линии дрожал контур; щедро одарённый композиционным чутьём, он тем не менее сомневался в своих способностях, стыдился заурядных фантазий, с опаской придумывая что-то из ряда вон и тайно надеясь на чудесные озарения, боялся самому себе показаться мелким (и недалёким) позёром.
Но едва он, нащупав «приём», уточнив в первом приближении цель, погружался с головой в стихийные противоречия сочинительства, как обретал уверенность, становился жёстким, прямолинейным и, находя себя в схеме-знаке, не задумываясь, жертвовал киселём грёз.
Так и здесь, сейчас, в случае особого любовного треугольника: ход рассуждений был витиеват, а вывод из них – прост.
Чтобы привести в движение художественное сознание, его надо сфокусировать на объекте.
Предположим, такой объект найден (выбран? Создан?).
Тогда он (объект) не сможет существовать в одиночестве, его надо с чем-то сравнивать, определять через другие объекты.
Если костью, брошенной художественному сознанию, оказался мужчина (например, очаровательный любвеобильный циник), то почему бы его не окружить соблазнёнными (и покинутыми? Очень мило) женщинами?
Резонно: роман без любви неполноценен, как откровения евнуха о прелестях оберегаемых им наложниц, – задохнется в занудстве, скуке.
Однако продвинемся дальше: почему двух возлюбленных было бы для романа Соснина мало?
Он избегал обнажённой ситуации выбора, метаний взад-вперёд, напомним – его и до получения конверта с вызовом раздражала простейшая оппозиция «или – или».
Но четыре, пять, шесть… – это уже почти бесконечный, достойный потенции Дон Жуана ряд, а в прекрасном ряду механистичного количественного приращения убывает ощущение качества.
И поэтому возлюбленных должно быть три, именно три: они, разумеется, тоже разнесённые во времени и пространстве, образуют силовое – да-да, треугольное – поле взаимосвязей, в котором и начнёт резвиться создавшее его для собственных фобий и забав художественное сознание.
Сколько возможностей!
Влекущие женщины – зеркала; к ним-зеркалам – Нарцисс оживает, притягивает неизбывное любопытство к себе.
Разве самопознание предосудительно?
Ничуть.
Законспирированная под театр явка, он – резидент, держит в голове агентурную сеть, к нему по очереди (иногда вместе? Ого!) являются, кокетливо заслоняя лица свои зеркалами, которые держат перед собой на вытянутых руках, три восхитительные Маты Хари и показывают (пароль) по одной трети его «Я» (отражённого), а он средствами образного совмещения трёх долей (варианты поисковой комбинаторики) складывает с помощью визитёрш внутренний свой портрет… Попеременно ли, одновременно смотрится он в три зеркала и заодно… О, заигравшись, он ещё и ввязывается в приключения – придумывая сюжет, трудно обойтись без трюков, залётов в прошлое и будущее, прыжков из окон (а верёвочная лестница?), погонь; вчера преследователи накрыли за утренним туалетом, он, взбешённый, с намыленной щекой, не выпуская помазка из левой руки, эффектно отстреливается… Закрутить сюжет, однако, не сложно – потрогал порез от бритья, крест-накрест залепленный пластырем, – куда сложнее подобрать хороших и преданных хотя бы на время агентов, когда отвлекают собственные отражения в зеркалах, однако глазки, фигурка (главное – грудь, талия, ножки) и, конечно, походка.
Отбор – не что иное, как акт создания – выделения из толпы типажей и превращения их в индивидуальности.
Так, отбросим реквизит, мишуру; возлюбленных – три.
Одна воплощает цель, устремлённость, протянутый через всю жизнь, подчиняющий себе побочные, включая любовные, желания порыв.
Другая – цветение, радость кружения в дрожащем, разогретом воздухе минутного счастья, воспринимаемого как постоянное.
Третья – доверие и надежду (на что-то неопределённое, туманное), зависимость от воли и желаний других, отсутствие чёткой ориентированности.
Соснин, конечно, был достаточно искушён, чтобы понимать: душевную жизнь не покрыть условной схемой, конгломератом схем или даже их, многих схем, взаимодействием. Однако его и не волновали задачи романного психологизма, благо их, задачи такие, превосходно решили классики. У него была иная задача.
Короткая, но интенсивная школа абстрактной живописи научила ценить очищенную от «содержаний» форму – цвет, линии, плоскость, фактуру, объём…
Однако слова – не краски, слова при всей многозначности их конкретны: словесная форма обречена играть какими-никакими смыслами.
Мелодично жужжит пропеллер, возбуждающе звякают пресимпатичные безделушки (подвесные мобили аккомпанируют?)… Оттолкнувшись от схемы, изживать её в свободном полёте, чтобы, ощутив вдруг неуверенность и трогательную угловатость эскиза, при достижении подлинного итога (точка: уф! Дело сделано) задрожал (ну да, дрожь – признак жизни) контур каждой детали и всей вещи в целом, а пока – передвигаться по сторонам воображённого треугольника от вершины к вершине, шатаясь (от неуверенности), оступаться в неразбериху треугольного магнитного поля или в периферийные, смежные и удалённые зоны спящего смысла, с мелочным упрямством вспоминать и придумывать: он в тексте уже? Огонёк сигареты, рефлекс на подбородке, цвет и подвижный абрис волос, убегающие за вагонным окном снежные палантины елей, нарезанные кружками огурцы на тарелке, солнечный зайчик (зайчик вышел погулять), да (вдруг охотник выбегает)… А ещё он рассматривает весь текст (как город) с птичьего полёта, шире и дальше трепетного треугольника ограничений, и тут же, опять очутившись в замкнутости этого треугольника, зарывается в подробности, ничего большего, чем сгустки взблескивавших крупиц, не замечает, упираясь то в одну, то другую невидимую точку со слепым упорством крота, который не знает, что ещё поджидает там, за осыпающейся границей хода.
Дал чёрт с талантом родиться! Краткость и жизнь, склочные, в повышенных тонах выясняющие отношения сестрички неразлучны, вцепились друг дружке в волосы, а он разнимает, безуспешно уговаривает, ищет компромиссную основу для перемирия, а время уходит, совещание сомнений затягивается, писать надо, однако, не разняв, не утихомирив – не начать даже.
Поэзия – концентрат; ёмкая, краткая, индивидуальная и вдруг достигающая общезначимых высот формула чувств. Но он-то худо-бедно кропает прозу, терпеливо выводит какие-то значки на странице тетрадки, становящейся быстро черновиком, сравнивает варианты, сокращает дроби смыслов (возводит в куб, извлекает квадратный корень), его увлекает (куда-то) двусмысленный (Лера права!) процесс доказательств, а саму формулу, прозаическую, если он её выведет, он готов будет привести в конце и даже почтительно обведёт формулу рамкой.
Общение со стихами обогащает, но, замечено, с какого-то момента разлагает прозу. Нужна осторожность, тогда стихи помогут, благосклонно что-то подскажут, хотя и у поэзии, оперирующей «единственными» словами и их, слов, единственно возможными порядками, свои трудности. «О, если бы я только мог, хотя б отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти», а тут, не потеряв головы, не восемь волшебных строк написать надо – целый роман, и стоит ли удивляться, что проза, не расставаясь с многословием, порой становится избыточно (?) игровой, умозрительно (?) сконструированной, неоправданно (?) узорной и – с достойной лучшего применения педантичностью – напоказ сшитой белыми нитками.
Так бывает, но не упустим из виду, что с ходу бросающиеся в глаза критикана белые нитки служат автору дразнящим оружием; это своего рода красный плащ матадора, грациозно-ритуальное искусство которого, кстати, так ценил любитель праздников и лаконичного (телеграфного) литературного стиля…
И что с того?
Автор – во всеоружии приёмов?
Ну да, колчан, полный стрел; но – прицельным приёмом больше, приёмом меньше, а в суть никак не попасть…
Не лучше ли сразу поверить, что вопреки своим вкусовым причудам и отсебятине автор тоже что-то когда-то читал из всеми чтимых кумиров, и, отбросив бычье упрямство, стоит всматриваться вместе с ним в события, факты, улавливая их контрасты и аналогии, чтобы (заранее?) увидеть-нафантазировать общий, организующий текст узор смыслов и формальных признаков, в котором всякая чёрточка уже наделена сквозным назначением, – ну да, текст един, всякая мелочь имеет продолжение, рифмовку с чем-то удалённым, сбывшимся или предстоящим, дабы активизировать весь узор гипнотическими повторами значимых элементов, приобщая к тревогам будущего…
Хотя мы, влетая в будущее без оглядки, вытаптывая его, оставляя позади, бездумно превращая в прошлое, каждый раз проскакиваем предупредительные сигналы… Наблюдая за потешной балансировкой прыгающего по волнам лыжника, перечеркнул страницу крест-накрест.
Да, невнятица.
И номер такой не пройдёт, прошлое напомнит в нужный (самый неподходящий) момент о таких сигналах, оставшихся позади, неожиданно впрыгнет на плечи, придавит, пригнёт, заставит вспомнить-ужаснуться и – забросит вперёд новые сигналы-предостережения.
Так-то: в жизни, которой живём, не замечая её, и без всяких умствований всё сцеплено, тайно взаимосвязано и текуче; всё, чем живы, одномоментно протекает в большом времени индивидуального сознания, где нет случайностей, ни одной – всё, что было и есть, любая мелочь, вдохновляющая ли, удручающая – начало, что-то ещё случится, жди продолжения.
Да-да, не грех повторить, так и в городе: по мере развёртывания пространственной композиции происходит сравнение интуитивно ожидаемого с увиденным, подтверждающее или опровергающее сигнал пластического фрагмента-извещателя, и связанное с ним первоначальное предчувствие, в результате чего фонд накапливаемых зрительных впечатлений поэтапно реконструируется, а смена кадра, происходящая при переходе с одной промежуточной позиции на другую (заворот за угол хотя бы) становится визуальным стимулом для дальнейшего движения. Это универсальные закономерности восприятия композиции, работающие как в городе, так и в литературном тексте, без учёта их – не заронить волнение, главное для прозы. Волнение, колокольчик, неожиданный звонок в дверь, а кто за дверью – ха-ха, не почтальон ли? – пока неизвестно, но ожидает встреча, что-то случится, и тревогой надо бы пронизать каждое слово, строчку, факт, событие, сцепив их между собой вопреки пространственно-временным промежуткам, разрывам-пробелам, видимому отсечению связей в наспех собранной схеме: избегать фарфоровых, мешающих пропустить ток волнения изоляторов, не разбивать текст на герметичные отсеки, художественный текст – не подводная лодка, для плавучести нужна глобальная открытость смыслов, образная система сверхпроводимости, света, бегущего по включённым в единую цепь фрагментам. Нет главного и второстепенного, тусклых минут и звёздных часов; изнанка и лицо – продолжающие одна другую поверхности ленты Мёбиуса, фон плавно вывёртывается на передний план, две стороны медали сливаются в одну, третью, всё важно – точка, запятая, точка с запятой… Сшибка и покой, напряжение, интуитивное угадывание сквозной темы и – тайна: как всё же складывается главное впечатление?
Из какого равномерно распределённого словесного материала кристаллизуется решётка поэтики?
Благодаря чему, по словам кого-то из древних, искусство не выговаривает и не скрывает, но – знаменует?
Пытаясь проникнуть хотя бы в прихожую тайны, читал эпический роман, ту его главу, где рассказано о путешествии проданного в далёкую страну мальчика – путешествии тягуче длительном, предначертанном высшим смыслом, узором судьбы, нарисованным Богом; тяжеловесная мудрость отца, тупость и, оказывается, функционально прозорливая враждебность братьев, действенная типология характеров, неспешное, как укачивающий шаг верблюдов, развёртывание спрятанных в тёмном начале начал содержаний, звонок-гонг здесь, сейчас звучит или доносится сквозь века бренчание колокольчика на шее верблюда, которого ведет чувствующий свою избранность мальчик? Предназначение, открытость судьбы в грядущее, звонок… или так настойчиво бренчит колокольчик, неправдоподобно далёкий?
Услышал-таки звонок…
Открыл дверь, удивлённо повертел длинный конверт, в целлофановом, с закругленными углами окошке которого увидел вдруг (обухом по голове?) типографски набранную свою фамилию, имя, странный обратный адрес, странную, словно произносимую с забитой горячим песком пустыни гортанью фамилию отправителя, имя его, выплывшее из библейской, но, выходит, чем-то родственной и ему, атеисту и космополиту, исторической глубины; пугающе многозначительный, выводящий из размеренного чтения манновского «Иосифа…» конверт: вызов.
Сам виноват, искусственно поднял давление; драматизирует любую безобидную ситуацию, вот и выбит из колеи, как на качелях: уехать – остаться, и раскачивается туда-сюда, а ничего не меняется, и литературную задачу поставил себе чересчур сложную, толчёт воду в ступе, даже никак начать не может, опутанный сетью предварительных рассуждений, столько страниц испорчено… Да, придётся вычёркивать, как вычёркиваются сейчас дни. У заключённого хоть есть срок, а ему-то срок не объявлен; загнал себя в угол, жизнь и замысел, всё сильнее подчиняясь необъяснимой самому воле, сжимают тисками. Пора начинать, а он всё ещё не решил с чего, и между тем садистски подкручивает на тисках ручку винта и – не шевельнуться, больно, а время идёт, течёт, сыплется, тикает, метроном отбивает ритм, качается взад-вперёд маятник в полом теле собора, а земля тем временем вертится, не ждёт.
Мне Брамса сыграют – я сдамся, я вспомню упрямую… ……… и кровлю, и вход… ……… полутёмный… и комнат питомник, улыбку, и облик, и брови, и рот… ………… С чего же начать?
Всё просто: ослепляющий солнечный зайчик и – заодно – маятник (Фуко), привязывающий к ритмике мироздания; колебания внутренние («Я» – ещё и мембрана?) и внешние, вечные, но входящие в резонанс с сиюминутными.
Собор – вот и завязка?
Да, собор.
Свой собор?
О, разумеется. О чём же речь?
И этот грандиозный (крупнейший в православном мире?) собор, «присвоенный», «свой», подаренный стечением обстоятельств, не открыточный, принадлежащий всем ахающим и охающим, а именно «свой», начинённый нежданными деталями, будто бы наспех «упакованный», он не смог бы забыть…
Ещё бы, повезло увидеть собор таким, каким не могли увидеть его другие, и если указала ему судьба путь на Запад, роскошный златоглавый собор со всеми его неподъёмными пластическими и декоративными богатствами, представшими перед ним в столь необычном обличье, тоже подлежал бы нелегальному – мимо таможенников и пограничников – вывозу за кордон.
С детства побаивавшийся в незнакомом пространстве темноты Соснин, как бы пересиливая инерционный страх, отставал от группы сокурсников, с которыми направлен был в Исаакий на обмерную практику, и бродил по затемнённому собору один, безотчётно полюбил его, проникся его излучающей цветистый сумрак тайной, начал было считать, что знает этот собор так же хорошо, как мог бы знать его какой-нибудь скоротавший здесь долгую череду дней своих настоятель, или (аналогия с Квазимодо коробила) проще: смутно воображал себя необходимым пусть всего-то на месяц обмерной практики, но живым приложением к собору и продолжением его, чутко улавливающим пульс неподвижности, ритм беззвучных каменных вдохов и выдохов, жутковатые, как крики совы ночью, звуки – скрипы и хлопанье створок, посвисты сквозняков, беспокойное, словно ворочанье спящих в бараке или казарме, копошение голубей.
Действительно, многое успел увидеть в соборе, узнать, запомнить; его переполняли-распирали впечатления, как если бы огромный собор уместился в нём.
Однако вопреки чрезмерностям всего, что уже увидел, узнал, он вдруг спотыкался о порог нового впечатления, обнаруживал в себе восторг и благоговение пилигрима, случайно заглянувшего из солнечного дня во тьму за приоткрытой массивной дверью и ослеплённого великолепием иконостаса.
Соснина, с самоотречением молодости молившегося тогда, по окончании первого курса архитектурного факультета, на новомодную геометричность коробок, вопреки сыплющимся в доверчиво оттопыренные уши предупреждениям о дурном вкусе, отсутствии чувства меры и прочих грехах, якобы отличавших громадину Монферрана от другого, прекрасного и гармоничного (как безоговорочно считалось), с закруглённой колоннадой, воронихинского собора, Казанского, властно притягивали тускло мерцавшие малахитово-золотые внутренности Исаакия, мощные гранёные пилоны главного нефа, волнующее смешение стилевых рисунков в декоративном убранстве, бесстрашные, вроде бы поверх правил – и многозначительные! – наслоения живописи, скульптур, пластических профилей и деталей, позволявшие вследствие демостративных перегрузок композиции вообще отделить это неумеренное пиршество форм от скудных тогда ещё профессиональных представлений Соснина, после разоблачения «архитектурных излишеств» верноподданно замыкавшихся на уютно-р-революционном в те годы идеале строгой и лаконичной, почитавшей простоватые тектонические зависимости, «хорошей» архитектуры.
Да, собор жил сам по себе, в новомодные – единственно верные – правила и нормы, само собою, не вписывался, а растянувшаяся надолго послевоенная реставрация многое ещё скрывала от любопытных глаз в исполинском соборном чреве, лишала его завершённого парадного блеска, но зато и на каждом шагу добавляла что-то к изначальной его безмерности, многократно усиливая в путешествиях по собору загадочность зрелища.
Недостроенная сокровищница?
Недограбленная гробница?
Или – вот и пространственная графика трубчатых железных лесов терялась где-то там, в голубовато-пыльной подкупольной выси, как если бы и впрямь собор ещё только рос, строился?
Или, напротив, разбирался на части, да так, что их, демонтированные части эти, к чему-то тут же пристраивали?
Забыв про тетрадку, море и рощу, забыв даже про рюмку с недопитым коньяком, погрузился в давние впечатления.
…Стоило, однако, сделать неверный шаг в сторону с любой из взаимно перпендикулярных осей симметрии – и мнилось уже, что это не конкретный (уникальный!) собор, зашлифованные камни которого можно потрогать, а изобильный до чрезмерностей собирательный образ собора, сконцентрировавший в себе непостижимое и неописуемое богатство архитектурных форм – как фасадных, так и интерьерных: всё, что когда-то было придумано, вычерчено, отлито, вылеплено, высечено, расписано – вместе, скопом, в антизаконно-причудливой уплотнённости и изукрашенности, причём всё это зримое многообразие хотя и кое-как, словно наспех, но – полностью упаковать не успели? – для пущей таинственности было лишь фрагментарно, там и сям, прикрыто, обёрнуто, занавешено рогожей и мешковиной.
Так всё же строился-собирался собор в восприятии-воображении или разбирался на части?
О, раз за разом он, обходя собор, спускаясь и поднимаясь по лестницам, коллекционируя головокружительные ракурсы, задавался этим вопросом. Формы и красочные пятна мозаик и облицовок пребывали в движении, в непрестанном становлении, как если бы развёртывался вокруг не материальный ансамбль из каменных форм, подчинённых вполне строгому крестообразному плану, а зримая метафора замысла, самого процесса длящегося Творения, сращивавшего пространственные фантазии Монферрана с фантастичной инженерией Бетанкура.
Да, именно так: ощущал, что творение длится сейчас, на его глазах!
Переливающееся в сумраке сверкание драгоценностей, цветовые вспышки, контрастную игру фактур тут и там перечёркивали грубые щиты и раскосы дощатых, в щетине заноз лесов, тире и дефисы перекидных мостиков и тут же, в зрительных наложениях, клети других лесов, трубчатых; роспись арочных сводов, позолоченное руно волюты, зашлифованный малахитовый ствол внезапно выглядывали из прорех в защитных полотнищах рогожи, мешковины, которые, кое-где отцепившись, криво свисали откуда-то сверху, словно древние прохудившиеся знамена, штандарты, или топорщились морщинистым выменем. Он невольно принимался угадывать по блеску позолоты и малахита в дырах рогожи, каковы же они, обёрнутые ею, рыжей рогожей, колонны; и невольно опять-таки думал: а заплатами пустот в красочной клетчатке иконостаса – изымались или добавлялись какие-то элементы изобразительности?
Метафора становления, метафора замысла, метафора вымысла, домысла…
Промысла? Да-да-да, главное в том, что это была метаметафора-метаморфоза.
Но был ли в неудержимом метаморфизме вроде бы статичного зрелища хоть какой-то порядок?
Пышность и изобильность зрелища, загадочное и тревожное (?) сочетание многоцветных камней и позолоты, прямых и упругих линий, дуг лучковых фронтонов, пилонных выступов, карнизов, ниш, фактур порождали самые разные ассоциации и вдруг начинали восприниматься как фантастический натюрморт, каким-то образом скомпонованный не столько из обломков архитектурных форм, сколько… из обломков стилей, и потому Соснин попадал в плен эклектического, а может быть, уже тогда, в середине девятнадцатого века, напророчившего краткий расцвет модерна (и даже постмодерна) разнообразия, порывавшего с монопольно-канонической скукою классицизма.
Впадая в транс от попутных видений, он не мог не увидеть собор иначе, совсем не таким – «законченным» и при всей пышности своей будто бы каноничным, – каким станут вскоре, после реставрации, предъявлять его экскурсантам.
Но тогда ни экскурсантов, ни служителей культа – на везение – не было.
День за днём в полном одиночестве (за компанию со сквозняками) путешествовал он по лестницам и переходам собора, словно по артериям непостижимо-сложного, чудесно окаменевшего организма и лишь ненадолго выбирался из взблескивавшего сумрака на свет божий – загорал на горячих сковородах медных, в изумрудных лишаях патины кровель или вспоминал-таки о рулетке, линейке, карандашах, выполнял урок: забравшись на наружные леса, прислонённые к доверенному студентам-обмерщикам западному портику, прикладывал рулетку к модульону, затем – к промежутку между модульонами, затем проводил на бумаге размерные линии, записывал цифры или, раскатывая по фризу рулон кальки, копировал загадочное посвящение, набранное славянской вязью: «Царю царствующих».
Вскоре, однако, отложив блокнот с обмерными эскизами, зачем-то ощупывал гладкую и прохладную (в тени) поверхность фриза, выступающие из-под фриза вогнутые абаки коринфских капителей, а поднявшись по металлической стремянке, связывавшей разные уровни лесов, в остром углу фронтона машинально проводил пальцем по сходящимся на ус линиям гуськов и полочек. И однажды в этой соблазнительной точке схода, в вершине фронтонного треугольника, его, выскочив из-за спины, неощутимо схватил за руку пушистый солнечный зайчик – схватил, подержал, отпустил, игриво попрыгал на отвесной фронтонной плоскости, потом бесстрашно-весело заплясал над мраморным обрывом карниза, а когда Соснин обернулся, зайчик, соскользнув с модульона, слепяще резанул по глазам – высунувшись из арочного окна последнего этажа дома, темневшего напротив собора, круглолицая девчонка забавлялась с зеркальцем; еле слышно прыснул далёкий смех, проказница растворилась в чёрном омуте комнаты.
И где, где пушистый прозрачный зайчик?
Только что дрожал, прыгал…
Отвлекла: внизу выруливал из виража, огибая угол собора, синий троллейбус, напротив хмурился тёмно-серый фасад, расчленённый рядами арочных, в обрамлении пилястрочек окон, правее – ещё два дома, за ними – кипящие на солнечном ветру бульварные липы и игрушечный Конногвардейский манеж, ещё дальше – макетно-маленький жёлто-белый Росси, блещущая Нева; да, троллейбус благополучно зарулил на бульвар – не пора ли вернуться вовнутрь, в соборные сумерки?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































