Текст книги "Пицунда"
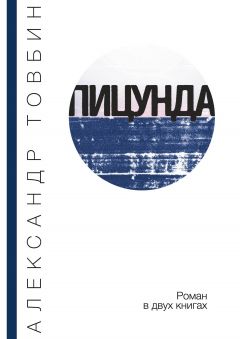
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Трактуя редкий для века некоммуникабельности феномен, Воля бурчит об однополом влечении, посмеиваясь, воспроизводит вечную тухлую новеллку о Создателе с раздвоившимся замыслом, о двух разобщённых мужеских половинках. Ещё бы такую аномальность не обмусолить! Напомним: чуть забархатится сезон, Митя уже вибрирует: пора б Илье прилететь, не объявился ли, ждёт, ждёт, всех напрягая: Гия предупреждён немедленно сообщать, Милка не дремлет в жарком беспокойном дозоре. Сам-то Митя, как и она, кстати, мерзляк, пригребает пораньше, в сентябре, чтобы погреться, в тёплом море наплаваться, да и сентябрьским инжиром полакомиться. О, дело тёмное, прикидывается заинтригованным Воля, жить без Ильи не умеет, а всего на три-четыре дня пересекаются – встретятся, пройдутся-прогуляются, пропоёт Митя обновлённую вариацию старой песни, расскажет старые-новые свои византийские байки, и прости-прощай до будущего сезона. С Ильи-то, прохладного ангела, какой спрос, с чего бы ему привычку октябрьскую менять, зато горячий однокашник-партнёр вполне может, если так уж его гнетёт желание пообщаться, сдвинуть к октябрю отпуск, продолжает следствие Воля, не иначе как Митяй сентябрь ангажирует, чтобы и правда всласть инжиру налопаться, а скупое мужское чувство на лёгкий дессерт оставить. Уму непостижимо – чаша весов с приторными подгнившими фигами перевешивает прочное межчеловеческое… Пусть странность, да ещё гиперболизированная Волей так, как Воля один умел, но Митя-то с младых лет исключительный сладкоежка – цукаты, нугу, рахат-лукум в пугающих количествах поглощает, ириски, тянучки, дрянные соевые помадки, батончики в карманах размякают, потеют, и рот полон, жуёт, жуёт, как только зубы не сгубит, все – свои, ни дупла, ни щербинки, ни желтинки, чудеса! А в сумке – кулёк с поджаренным арахисом припасён, и ромбики козинаков, и чурчхелой девушек Митя угощает, будто раздаривает удлинённые украшения из нанизанных на нити орехов – шариков-бусин, распирающих тесные, розовые, приторно-резиновые, отлитые из густого виноградного сиропа чехольчики.
Восточными сладостями забаловал Митю в пору счастливого детства дед, прожжённый шахер-махер, который, согласно неафишируемому семейному преданию, заправлял в Тифлисе публичным домом, пока большевистская революция не отменила несправедливости. Нарушив стыдливое молчание родственников, Митя шумно гордится предосудительно-разудалым дедовским поприщем, уверяет, что именно из авантюрного нрава предка прёт неукротимость его натуры и оттуда, оттуда же, из горячего родственного истока, бежит бурливая, как Кура, кровь. И поёт-распевает Митя, что, хотя рождён он сырой зимой у Маркизовой лужи, власть над ним берёт кавказский зачин, всё ясней ему год от года, что здесь, на легендарном берегу слепящего Понта, – его желанный солнечный дом. (Увидев, спустя годы, Митю во главе аморфной группы экскурсантов на площади, я подумал, что приговор судьбы вполне может являться в образах давнего, легкомысленно выболтанного и вдруг сбывшегося желания). Мать Мити, грузинская еврейка, в молодости была модной характерной балериной, танцевавшей с Чабукиани. Понятно, у кого нескоординированный Митя унаследовал шарнирную подвижность членов? Отец, краснофлотский офицер, вышел из круга петербургских интеллигентов, но, судя по затёртому фото, которое Митя зачем-то возит с собою в отпуск, тоже был отнюдь не рюриковских кровей: жгучий черноглазый брюнет в парадном морском мундире с надраенными пуговицами заразительно, белоэмалево скалится в недрогнувший объектив. Отца Митя живьём не помнит, тот всё уходил, уходил маневрировать и бабахать в море, а в начале войны утонул со своим эсминцем, когда балтийские корабли перегоняли из Таллина в Ленинград. Но мать перманентно воскрешала образ весельчака-острослова, души кают-компании, запевалы за полночь затягивающихся пиров – отца всегда окружали преданные друзья, он всегда восседал в торце ломящегося стола, и не приходится сомневаться, что неистовая весёлая широта украшает Митю по сыновнему праву. До чего ж любит он вкусно поесть, пображничать, вечно от него вином с барашком попахивает, и угостить любит, готовит – пальчики оближешь, мясо замаринует, чесночком нашпигует… Илья едва ль яичницу сумеет съедобно пожарить, а Митя до тонкостей владеет рецептурой кавказской кухни с её травами, приправами, подливами, соусами, пышной режиссурой блюд, ароматов. А как колдует над шипящей сковородой – пришёптывает, будто заговаривает процесс… Кулинарные Митины таланты сродни гурамовским, ого-го, на кухне ли, у костра – Митя с Гурамом достойнейшие соперники. Всего по пятёрке с носа, а обалденно пиры-пикники закатывают, стряпая в четыре, попарно соревнующиеся руки. «Конкурс великих поваров-самоучек!» – трубит Милка, свернув ладони у рта. «Вперёд, вперёд, пролетарские бонвиваны!» – подхватывает Воля, с усилием отрывая от земли сумку с провизией. И Владика в покорного гнома сгибает пудовый рюкзак, и топают по жаре, и дикий жор нападает, долго потом в рот ничего не взять, кроме боржоми да фруктов. Правда, союз непревзойдённых кулинаров распался уже, давно это было, когда Митя один приезжал, без Адочки, на литфондовскую цепь сейчас его посадившей. А всем фруктам, как верно Воля усёк, предпочитает Митя инжир, изобильный сентябрьский урожай оптом бы закупил. От полных тазов, которыми уставлены рыночные ряды, идёт головокружительный дух, словно варенье варят; осы гудят, как провода под током, выбирай, пробуй на ощупь, на вкус сладчайшие зеленовато-охристые плоды с широкими трещинами или целёхонькие, тёмные, лиловатые с налётом голубизны, густеющей на заострённых пипочках: отколупнув пипочку, легко-легко сдирать влажную, мелко-рифлённую, с бело-розовой подкладочкой кожицу. Но в том беда, что на жаре спелый инжир вмиг скисает, и в пик созревания Митя непременно наведывается к Пату, чтобы полакомиться с дерева редкостным сизо-чёрным сортом с кроваво-краплачной, душисто-медовой мякотью, просеянной чуть поскрипывающими на зубах жёлтенькими крупинками.
У разных лет свой помол – крупнее, мельче?
Огонь, вода, песок…
Да, песок!
Если время-песок пропиталось слезами, кровью, его высушивают, прокаливают в адской лаборатории.
И потом песок с учётом ёмкости колб отвешивают фунтиками… Весы, простенький транспортёр-рольганг.
Судачат женщины в фирменных голубых халатиках, автоматически снуют руки.
Как в фасовочной универсама.
Что же такое время, из чего состоит? Заведённо прокручивается день за днём лобовой вопрос.
И я, конечно, избегаю некорректных прямых ответов.
Виляю, путаюсь в отговорках, мол, мне ясно пока лишь то, что вода, огонь, песок – как и прах, пепел – благодаря пластичности, текучести, трепетности служат времени материально-метафорическими дублёрами.
Как, впрочем, и слова…
Моё время, во всяком случае моё время сейчас – состоит из слов, из потока слов; слова в тексте-потоке тоже пластичны, текучи, трепетны, слова струятся, я, бывает, ими захлёбываюсь…
Слова, опять и опять повторяю, хотя давно в этом себя убедил, как нельзя лучше воспроизводят и передают текучесть.
Но слова, конечно, – мой, сугубо индивидуальный носитель времени.
Что же до общепринятых носителей, неметафорических, натуральных, да ещё успешно опробованных в истории часовых механизмов, то…
Не скрою, обаятельные заблуждения прошлого мне ближе точного знания, которым хвастает нынешняя самонадеянная наука.
Сидя у костра, я тоскую об ославленном учёными флогистоне.
Глядя на круговой, ошаривающий ночь прожекторный луч, грущу о погибших тихо-мирно корпускулах.
Ей богу, мне теплее без строгой пустоты реакций и формул, записанных символическими крючками, без валентностей, распадов, выносящих Вселенной свой приговор.
И конечно, я втайне надеюсь, что есть ещё не распознанный, ещё не разоблачённый наукой элементарный носитель времени; повторно признаюсь: меня, гораздого испить суховатой мистики, давно клонит к простецким, не чурающимся вульгарного материализма соображеньицам.
Недаром я предпочёл огню и воде песок, обходящийся без приводящих-передающих механизмов-посредников, состоящий из вполне ощутимых, отделяемых одна от другой кварцево-кремниевых частиц – песчинок.
Их можно размолоть почти до полной невидимости, снабдить проникающими зарядами…
На ладони у меня несколько песчинок.
Ловлю блеск еле заметных кристаллических граней.
Ну а песчинки, напомню, для меня – аналоги слов.
9
– На дне найдены остатки волнолома, защищавшего бухту, в которую заходили целые флотилии античных судов; это были корабли с каменными якорями грузоподъемностью до ста тонн, тогда как колумбовская каравелла «Санта Мария» брала на борт всего семьдесят тонн. Озеро Инкит, по-видимому, служило внутренней гаванью Питиунта, предполагают, что её связывал с морем канал, который пока не обнаружен…
И прежде чем убежать, чтобы выметнуться из колеблемой бирюзы, полететь за глиссером, Милка Илью провожает жалостливо, по-матерински: худой, как жердь, сутулый, хоть бы приосанился, расправил плечи. Приторможенные движения, негромкий тягучий выговор… Живой, а будто забальзамированный. Типичная вялость флегмы, однако болотные глаза подожжены изнутри, но что огонь запалило – не распознать, не лезть же в чужую душу, в потёмочки, где и чёрт ногу сломит. У кого-нибудь перечень невзгод вроде как на лице набран открытым текстом, наболевшее не прячется под развесёлой или ещё какой маской, в общем, тут, глядишь, воспалилось, там ранка – промывай, забинтовывай добрым словом. А когда ни открытого лица, ни защитной маски, когда только какой-то глубинный очажок тлеет и чувствуешь, что неслучайных тревог набежала тучка, остаётся присматриваться, разгоняя муть, ленивые домыслы: так-так, улыбочка беспомощная, и мысли, похоже, мучительны, как медленное, по капле, кровопускание, ну а возбуждение грустных глаз, оглаживающих мироздание сожалеющим благодарным взглядом такое… какое бывает, наверное, за мгновение до катастрофы. Но злополучное это мгновение тянется, тянется, катастрофа медлит, не разражается, и невольно успокаиваешься – пронесёт, лишь блажь какая-то донимает, самовнушённая чепуха, раньше ли, позже выгорит мировая скорбь, выговорится, облегчив душу, упрямый молчун или хлопнет чачи стаканчик, отчудит какую-нибудь глупость ради нервной разрядки… Ан нет, дни летят – да что там дни – годы! – а непроницаемо что-то терпит, загадка. Вахтанг, одержимый физиогномикой, штудировавший сию летучую науку по модным в начале века томам, дабы овладеть важной, несправедливо забытой оснасткой дипломатического искусства, которому он отдавал свой талант, как-то трепанул между прочим, что астеники с кислыми минами непроизвольно взрываются и во избежание группового увечья лучше от Ильи держаться подальше. Ох-хо-хо, что только не вышучивалось тогда, но никто не извлекал из шуток проницательных серьёзных суждений; гасли фейерверки острот, но никто тогда не замечал, озаряли ли они, давние фейерверки, будущее, вызревавшее в каждом. Да и смешны теперь подпёртые задним умом сожаления, коли повелось от века сперва промаргивать, а потом вздыхать, заламывать руки. И опять-таки – уместно ли на курорте гадать о мотивах чужой изводящей грусти, сочувствовать бог весть какой прошлой или предстоящей беде, без сигнала SОS навязывать помощь… Умора – спасать, если не просят. Нет, тут рецептик прост: защемило внутренней травмой – докапывайся как сам себе аналитик до лечебной истины подсознания, не выплакивать же в жилетки соучастникам беспутных забав смутную боль томления – не вняли бы, обратили в повод для зубоскальства. И вообще Илью бы не выручили ни сердобольное участие, ни касса взаимопомощи. Что за резон пенять чёрствым, жадным до утех курортным знакомцам? Добровольно взвалив на себя выдуманную ношу, Илья одиноко тащит, тащит её и тащить будет до конца, непомерно шаг за шагом утяжеляя, как тащат только свой, невидимый другим крест. Чем, как тут поможешь? Горькая нелепица: всерьёз гибнуть, замыслив всё понарошку!
Собственно, тетрадку, в которой, возможно, и содержались какие-то объяснения и внутреннего состояния Ильи, и каких-то отражений на его лице этого зыбкого состояния, пусть и мельком, видели многие – толстенькая такая тетрадка с тёмно-зелёной обложкой, встрёпанная, с закрученными углами; записав что-то, он, казалось, испытывал минутное облегчение, обводя туманным взором шумное, пёстрое, оплетённое растениями, огороженное ящиками с пламенеющими цветами кафе. Славное местечко, обзорное, как у Милки, но в укромной угловой изоляции, никто не докучает, хорошо, рядышком журчит питьевой фонтанчик… Особенно здесь хорошо в двухчасовой обеденный перерыв, когда, накачавшись шампанским, из кафе выметаются балдёжники в плавках и воцаряется густая зеленовато-сумеречная тишина. Сырая свежесть поднимается от побрызганных плит, блестит стекло сувенирной лавки с уснувшими пауками-трещинами, на чистых столах нехотя шевелятся блики, пятна света, пучки теней… Двигали стулья, галдели, и вдруг – дремотная тишина, даже у воробьёв передышка, собак вконец развезло, налопались объедками, выкатили к солнцу розовые раздутые животы.
Только море лениво плещет.
Море…
Мне обязательно подай море.
Я привередлив.
Горы, пусть самые величественные – приманка не для меня.
Если я и обладаю духовным упорством, то упорство это какого-то другого, не столь очевидного, я бы сказал, проявления, чтобы с тяжеленным рюкзаком и альпенштоком лезть, карабкаться, преодолевая кручи, ступая шипами ботинок по ползуче-сыпучему краю пропасти.
Другие вершины меня зовут…
А в степях, полях я тоскую.
Я не приспособлен дышать полынной горечью голых мест, мне неуютно от статичной пустынной безграничности, одинаково распахнутой во все стороны.
Я также равнодушен к глухим лесным дебрям – простирающимся, необозримым, многослойно наползающим на горизонт синеющими зубчатыми контурами.
Для меня бесформенная густая чащоба – та же пустыня, те же наслоения горных складок, подводящих к вершинам; и ничем непроходимость хвойно-лиственных чащ с буреломами не отраднее, чем плоская низменность или гордая вознесённость хребтов и пиков.
Не знаю, среде ли, наследственности обязан я зыбкостью запросов и настроений, зато знаю твёрдо, что и для относительного душевного равновесия мне необходим плеск, блеск меж стволами: край земли, граничащий с водой, небом, стык стихий, неумолкаемый труд природы, трёх её стихий сразу.
Не водная гладь сама по себе нужна, нет, не реки с озёрами влекут меня на свои травянисто-песчаные берега.
Море…
Странно.
Самая сочная, яркая – сочнее и ярче, чем на фотоплакате в кафе, что называется, вырвиглаз – смесь ультрамарина, кобальта и лазури слепила меня на Ладоге. Нежнейшие перетекания сиреневого и розового окрашивали тихими вечерами онежские шхеры, волжские плёсы.
А покорило – Чёрное море.
Безмятежное.
Настороженное.
Грохочущее камнями, бьющее в душу, приподымая стиль, точно набат, накатом.
Тихо, тихо-тихо в кафе, если, конечно, Тима-капитан, Милка, прочие дикие вопёжники-поддавалы не раздухарятся, будто это их последняя встреча, а завтра – потоп, обвал, грибовидная гибель… Ох, какая тут может быть тишина, если душевный завод у Тимы на всю катушку?! И рассаживаются-то кутилы-хитрецы не на виду, а за комодистой стойкой Раи-мороженщицы, от причала ни хрена не узреть. Тима – кэп отменный, сверхопытный, не допустит салаг из своей команды даже издали глазеть на непотребные капитанские возлияния. Да и подставляться больше ему не стоит, он же не враг себе, и так погорел уже: вместо выгодной, с валютными суточными, океанской загранки с экскурсиями профсоюзников вдоль абхазского бережочка плавает, разве что ближнюю бухточку, направляясь в Мюссеру, где дача Сталина сохранилась, позволено ему в путевом листе пересечь до наступления темноты. Вот и на суше он теперь осторожничает, на воду дует… Итак, подходишь – пусто, лишь дымки вьются. Ну, известное дело, думаешь, обслуга, одурев в запарке у большущей раскочегаренной плиты, перекуривает на сквознячке у буфетной двери. Вот и насвистываешь себе маршик тореадора, бодренько спешишь прохладиться под дышащим плющом – и напарываешься, как бобик. Поздно прятаться, загарпунили, тянут – вздымай стаканы с коньяком, закусывай разносолами из капитанской заначки, тут тебе баклажаны маринованные, помидорчики-огурчики с перцами, влажными травами, и обязательно копчёная рыбина лоснится золотом – есть ход у Тимы на рыбзавод. А кухня кафе, забыв о перерыве, вовсю пыхтит на ударной вахте: цыплята под грузом жарятся, потроха варятся, чад, стук ножей, взрыв невиданного и перед красными датами трудового энтузиазма. Баграт-хачапурщик, наглый неподъёмный лентяй в грязно-белой спецовке, расстёгнутой на мохнатой потной груди, обычно к дверному косяку прирастает, на эмансипированных баб в шортах-маечках, что мельтешат в кафе, пялится – широкие чёрные, как у днепропетровского вождя, брови вздыблены, ручищи в карманах под фартуком, экспрессивно расписанным жиром и томатной пастой, а уж если Баграт на кухне окапывается для трудового подвига, так у этого прохвоста через час-другой, когда капитанских едоков ублажит, уже и горелой хачапурины не допросишься. Бараньи глаза выкатывает на жалких просителей, тычет в остывшую плиту, башкой мотает: то дрожжевая закваска кончилась, то электричество отрубили… А тут прыгает между духовками с противнями, как наскипидаренный, – ещё бы, не постные лепёшки по сорок шесть копеек печёт-штампует. Противни особым, припасённым для своих, жиром смазывает, тёртого сыру-сулугуни щедро, от души, накладывает для дорогих гостей, любовно взрыхляет вилкой сырные продолговатые холмики, кисточку в натуральнейшее, слегка растопленное масло макает, словно лакирует вылепленные чудеса, с творческой придирчивостью художника осматривает, прежде чем в духовку отправить, полуготовые произведения… И вот уже жёлто-румяные красавцы жаром пышут, Баграт сам их на плоских тарелках подносит под бурю аплодисментов. Мэри-посудомойка, большеголовая, дураковатая карлица, окосело лыбится – уже угостилась, ей много не надо, аппетитненькая Раечка аккуратненький, с кружавчиками, передничек сбросила, завивку оправила полной ручкой – всё едино службе хана, гуляем, и буфетчица Верико, статная, горбоносая, с нитками серебра в смоляных, гладко зачёсанных волосах тоже подсаживается. Шум, гул, звон, хочешь сказать – других перекричи. Что за случай такой, что за внекалендарный праздник? Да просто всех друзей приглашает Тима на рюмку чаю (разлюбимая его шуточка), а дальше – катится, катится кутёж. Если б не такая жарища, что у Раи холодильный агрегат лопнул и мороженое растаяло, самый бы раз про снежный ком вспомнить: Владик с корта трусил – завернули, и Волю, Валяна… Ещё два стола пристроили – демаскируя неурочный банкет, предательски столы торчат из-за стойки. Это уже не шуточки, тут не рюмочкой чаю пахнет, похоже, Тима на сэкономленном мазуте левый рейс в Афон закосил и угощает крупно, тем паче закрытие сезона пора справлять, пока дикари родимые, интеллигентные братишки и сестрёнки, не разлетелись. Не гудеть же потом со смурными алкашами из профсоюзников! Правда, чем не отвальная – ведь не одна Милка солнечные денёчки досчитывает. Тима ведь и сам здесь гость, лишь на тёплые месяцы он прикомандирован-пришвартован к мысу и скоро ту-ту-у морскими ухабами в порт приписки, в моросящий Сухум на зимний ремонт, на политлекции про американский империализм, повышающие квалификацию… А начали-то с малого, как бы и впрямь по рюмочке, ещё по одной – и вот уже растёт гордый лес пустых бутылок из-под того самого коллекционного коньяка, который был не дурак посмаковать Черчилль. Самопроизвольно вакханалия раскрутилась. «Экспромт, какой экспромт!» – вопит Милка; зонт, тряпки – на скамье, на минутку покинула солнышко, чтобы за компанию пригубить, да так и просидела в купальнике за изобильным столом ультрафиолетовые часы, теперь вот инфракрасные на обжираловку тратит, рдеет под сине-зелёным плакатом, рекламирующим восхитительный мыс, и огненные волосы взбиты, спутаны ветерком. Да-да, форменная копна, которую сочное типографское море омывает дополнительным цветом, роща темнотой оттеняет; вот бы щёлкнуть на «кодак» и новую рекламу по всему миру развесить в конторах Кука! Кавардак, обслуга с клиентурой братается, забыв родовое взаимное отчуждение! Всем душевности не хватает, а тут бери её, сколько надо, мало – добавят. И чем же хуже персонал общепита отпускников-отдыхающих? Не свободные, что ли, и они граждане, не вправе ли, как хотят, законным обеденным перерывом распорядиться? А приговорены по струнке ходить… «Ну уж, по струнке, – шлёпая Раечку по коленке, гогочет Тима, – вконец нас, безответных, замордовали ненавязчивым своим сервисом, а плачетесь, бога бы побоялись…» И весело всем, легко, и за солнечную Абхазию как не выпить, чтобы Мэри криво рот растянула, от счастья забалдев, закивала, закивала, ну нет мочи голову удержать. И Милка, не сбавляя темпа, за замечательную дружбу грузин с армянами предлагает, чтобы никому не обидно было, а ей в ответ – за шустрых москвичей с квёлыми блокадными ленинградцами, без чьих, московско-ленинградских, зарплат было бы аборигенному населению не прожить. И заодно – за победы еврейского оружия, как они их под водительством одноглазого генерала, а? Так их, так басурман проклятых, разрушителей храмов, а тебя, Мэри, хоть аллаху молишься, не касается это, не дуйся, ты хорошая, добрая… И расчувствовашись, Мэри вываливает на стол горой отборную «изабеллу» – приторговывает из-под полы на площади, а тут – даром, плевать на дневную выручку. И все-все, растрогавшись, шумно тянутся с Мэри чокаться, и глиссерщик Боря-Борух, тёмно-коричневый крепыш в широкополой колониальной шляпе-хаки, купленной у запившего офицера-афганца, – ноль внимания на растущую очередь водных лыжников: подождут буржуи-бездельники. И побоку предосторожности, раскочегарились, на причале уже каждый тост слышен – Тима бдительность утерял, травит во всю глотку, будто до упора корабельную трансляцию запустил. Вот уже и набережной сорокаградусные пары достигли, сам Красавчик сунулся нюхнуть – нет ли какой диверсионной угрозы. Но его такими развесёлыми поддачами не пронять, не сухой же у нас закон – отваливает за розовой, как варёная колбаска, немочкой, и – пей-гуляй, за детей-родителей-дедов. Степенная Верико молодой бабкой стала, ей скандируют истерические приветствия – до дна опрокидывает, сверкает коронками. А в тупом багратовском взоре что-то осмысленное мелькает, пьёт медленно – поминает, наверное, вырезанных турками предков. «Да-а, разные народы по шарообразной матушке-земле ходят», – басит Тима, подступаясь к перещеголявшим раскраской тропических бабочек, цветки и раковины филиппинским красоткам: страсть как хороши девахи, всласть насмотрелся в заморских рейсах. Раечка усмехается: уж не только насмотрелся, бесстыжий, не прибедняйся, у-тю-тю, грозит наманикюренным пальчиком, а Тима – вот артист! – засмущавшись, неловко ловит Раечкину белую ручку, чтобы виновато жирными губами поцеловать, и будто краснеть собрался, хотя и так медно-красный, и, как оскорблённая невинность, потупился, запинается, мол, простите великодушно, не в ту степь зарулил, и перемахивает со скользкой темочки к прославленным на весь цивильный мир хилерам, умеющим оперировать невымытой рукой без наркоза. И поглядывает, поглядывает ехидненько – что многоуважаемый Валентин Иванович сказать соизволит? В его учёный медицинский огород камушек… А Валян на стол наваливается, трясётся в беззвучном смехе так, что тарелки звякают, и ладонь выставляет – не дорос наш профессор-нейрохирург до понимания таинственных восточных умений. А краснорожий Тима в раж входит, жуликоватые глазёнки из набрякших век выпрыгивают, будто у рака. Поводит он ими, выпученно-округлившимися, туда-сюда, туда-сюда и утрирует, как эстрадный пародист, крылатую скороговорочку Владика: ка-ра-ул какие пиастры хилеры загребают, Рокфеллерам и не снились… И все покатываются, скрючиваясь, корчась от хохота, Баграт кашлем захлёбывается, так его с удовольствием по спине дубасят, Рая со смеху слезу смахивает, ресницы потекли, утирается батистовым платочком с вышитой монограммкой. Ох, колотится Воля и страшенно очки наводит, ох, плохо наша хохочущая бандочка кончит, и совсем уж плохой конец берётся придумать то ли в духе Бунюэля, то ли Фассбиндера. И доволен Тима – упились, объелись до одури, так пусть понадрывают животики для ускоренного пищеварения. Влажный, поросший редкими волосёнками кончик Тиминого носа потешно вздрагивает, ох, Тимина это стихия, его, его – табачная труха, пепел, дым – сладкий, едкий, струящийся, смешивающийся с коньячными испарениями. И весь божий мир, что мы видим вокруг, расстаётся с прочностью, неподвижностью, дрожит, плывёт, и даже перевитые побеги плюща к Тиме прислушиваются, а не к пению ветерка. В кайфовом ударе мужик – сигаретку ещё не дососал, а уже машинально достаёт новую, обминает, и молчит, блаженно затягиваясь, утопая в клубах. Даёт отсмеяться, отшуметь вволю и вдруг: мишпуха, ша! И наново травить принимается про дорогущие, добываемые с превеликим риском в топкой глубине джунглей плоды-соки, которые едят-пьют, зажав носы, так убойно дурманит запах, блуждающий меж утончёнными ароматами и тошнотворной вонью. И не только дурманит, но возбуждает, да так, что последние хиляки бесятся от стократно возросшей мужественности, а обезумевшие коханки без терзаний с религиозно-нравственной нарезки срываются…Тима опять скашивает блудливые зрачочки к Рае, а та, подозревая, что дальше ждёт, машинально юбку одёргивает, будто оголилась до неприличия. По-мхатовски выждав паузу, Тима возвращается, как ни в чём не бывало, к расписным на манер сувенирных куколок филиппинкам, которые в отличие от распущенных европейских курвочек с клиентом сверхкротки и ласковы, а когда обнимают… Пусть не подумает кто худого, он насмотрелся их, но, увы, не распробовал: про объятия восточных чаровниц скупо поведал Тиме знакомый поднаторелый штурман одесского сухогруза, списанный, кстати, за сердечные грешки на сушу с лишением партбилета, так как чересчур шустрого морехода трипперком наградила бойкая служанка хилтонского отеля в Лхасе, где судно забастовку докеров-кули пережидало. Так вот, коли верить влипшему в историю штурману, косоглазо-кроткие куколки, тающие в объятиях и что-то покорно по-своему пролепётывающие или мяукающие тихо песенки, откусив дьявольского фруктика, орут, если выпадают в блаженство, как драные кошки в марте. Да, серьёзно кивает Воля, хотя не Лхаса, а Москва в качестве океанского порта пяти морей во всемирных лоциях значится, в целом информация пострадавшего за нежные чувства судоводителя внушает доверие: на закрытом просмотре в Доме кино крутили полулегально ленту из периода Вьетнамской кампании, так там Зелёные береты охотились за взбадривающими плодами побойчее, чем за наркотиками. И Тима, довольный чуть ли не документальным подтверждением байки, переходит, не медля, от пахучего десерта к вкусной и здоровой пище тропических стран. О, в разблюдовках пищи той он вполне компетентен – и закуски, и первое-второе распробовал он за обе щеки, уж будьте спокойны за достоверность, не дурак пожрать вкусно, много… У Баграта, хоть всю сознательную жизнь при кухонной плите состоит, с удивления отваливается челюсть, «Как, как только не стошнит», – шепчет в восторге Рая, бледнеет Верико, а Тима знай себе заливает про вяленых змей, нафаршированных червяками, про паштеты из насекомых и про гурманов, пожирающих, жадно хлюпая, мозги живых гримасничающих обезьян за специальными столами с круглыми дырками вместо тарелок, в которых зажимают выбритые черепушки бедных обречённых человекообразных, про вкусовые ощущения от деликатеса из почти что высиженных гусиных яиц – имел счастье лично отведать в гонконгском, совмещённом с подпольной курильней опиума ресторанчике: шмякнул по скорлупе, добавил пряностей, помешал ложечкой птенячий пух и мягкие косточки… Чёрт-те что едят, а повсюду – хоть чёрные, кофейные, жёлтые – смертные, жалкие существа, все равны, все под богом гуляют; Дружба, дружба, кто на ножах, пусть забудут о глупых сварах, все нации хороши, люди только бывают плохие; мир, мы за мир, хотя бронепоезд на запасном пути нетерпеливо пыхтит и подлодка надёжно охраняет наш заслуженный отдых… И море синеет, блещет, белый пароходик качается в виньетке из листьев, пусть всегда будет солнце, пу-у-сть… Тима, литой, подтянутый, вдруг расползается, размякает, еле языком вяжет, гекая просоленными анекдотцами, ещё в херсонской мореходке ухваченными. И в хохоте за хохлов-хохмачей возникает тост, раз Тима полтавский наполовину. Неужто перебрал морской волк? Багровеет сверх своей меры, про священный Байкал заводит, Милка подтягивает визгливо, и развесёлой шрапнелью снуют пичужки туда-сюда, собаки кайфуют впрок под началом Пумы… Но, как назло, двухчасовой перерыв заканчивается, простые отдыхающие хотят своё получить, а им не жарят, не разливают. Надо за море выпить, потом – за тех, кто в море, за справедливое Тимино возвращение на мостик океанского корабля, откуда завистники, пришив контрабанду и закрыв визу, сплавили в каботажное мелководье. И не тряпки, не картинки с голыми бабами подвели – Элябрику ящик напитков проспорил, хотел пофорсистее долг вернуть на глазах курорта, вот и загрузил каюту картонками с кампари на всю валютную сумму, что заишачил в рейсе. Мечтал, чтобы не только Элябрик – все друзья-горемыки, озверевшие родную бурду глушить, расчувствовали бы по-людски неподдельный и горьковатый привкус. Да кто-то стукнул, а замполит покрывать Тимины грешки испугался, узнав, что стук по морзянке до спецчасти Пароходства дошёл. А-а-а, рады стараться мусора на таможне, что-то многовато у вас друзей, на винный погреб запасов хватит… Вот и погорел, как швед под Полтавой. Но на подлодке уже склянки бьют, пора, пора открывать буфет, а не встать, хоть страждущие уже над душой нависают. Немцы-то, гэдээровцы, поджали губы и ждут смиренно, когда победители их обслужить соизволят, но свой брат, хам-профсоюзник, попёр в психическую атаку права качать, жалобную книгу желает испортить. И у глиссерной стоянки такой уже вырос хвост, что Боря-Борух сокрушённо вздыхает, шляпой покачивает. И Милка дрожащим голосом костит жлобов, персонал защищает – ну кто виноват, что сыру завозят мало и электричество отключают, лишая трудягу Баграта плана и премиальных, или свежая неурядица – холодильный агрегат давно менять надо было, так не сменили, мороженое течёт, вот-вот скиснет, даже в молочный коктейль не спустить…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































