Текст книги "Пицунда"
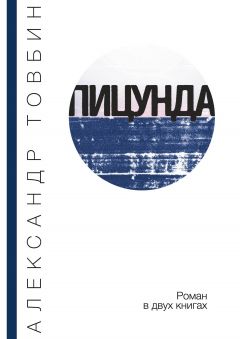
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
10
– Пористый, шероховатый морской конгломерат и легко схватывающийся известковый раствор создали каменную кладку особой прочности, которая состоит из грубо тёсанных квадров морского конгломерата с вкраплениями обкатанных рекой Бзыбью булыжников… В качестве строительного материала использовали также остатки более древних зданий. Так, при раскопках найдена кладка храма III–IV века, а в ней – мраморная дорическая колонна, которая, несомненно, принадлежала более раннему храму, разрушенному и пущенному на стройматериалы…
История иррациональна, её ход непредсказуем, а результаты – что твои взрывы, когда вдруг вверх тормашками летят самые твердокаменные миропорядки. Да, Митя в своём репертуаре, ничего себе затравка прогулочки вдоль берега Понта… И вспоминалось Илье, как нахваливала Митю школьная историчка – на лету схватывает и память редкостная. И конечно, был он в школе книгочей страстный и языки, точно таблицу умножения, играючи выучил. В университете Митя ещё и классические языки добавил, шутка ли – латынь, греческий, даже древнееврейский с арамейскими добавлениями долбил, дабы Ветхий завет, не доверяясь переводам, читать. А частенько Митя с Гурамом, благо тот, прежде чем зарыться в археологию, заканчивал восточное отделение, принимались обсуждать по-арабски спорные места из Корана. И не пропадать же Митиным знаниям в служебных учёных прениях! Ещё блаженные аспирантские годочки транжиря, мечтал Митя об объёмистом томе, соединяющем бесчисленность строгих исторических фактов, которыми полнится его память, и жанровую свободу. Но и новых фактов, включая сомнительные и один другому противоречившие, с тех древних пор добавилось много, так много, что про исследовательскую строгость Митя незаметно для себя подзабыл. Зато жанровая свобода из-за изобилия разнородных сведений делалась всё желанней и виделась ему в безбрежных вольных смешениях научного, художественного и обиходного начал – иначе не вместить было бы в текст всё, что обуревало, взбухало в памяти. «Не память у меня, – посмеивался Митя, – а информационная пульпа». И он выжидал, пока информация осядет, уплотнится, отдав лишнюю воду; замысел-то, как и пристало юности, был у Мити глобальный, да и с годами не ужимался, напротив – пучился. Мите ведь куда радостней, чем писать, мечталось, что и как он напишет, что ещё добавит, разгребая тайнички своей сверхбогатой многотемной копилки.
Впрочем, главным прибежищем своих разбросанных интересов Митя, презиравший изнурительные учёные тяжбы, которые ведут за крохи истины узкие специалисты, избрал Византию как свой обширный предмет: всю Византию в Большом времени, непреложную и эфемерную, Византию как миф, как историческую метафору.
Особенно чтил Митя годы становления Восточно-Римской империи, совпавшие с начальной фазой христианства, – время завязи и распространения святых слов и дел. Митя упивался драмой контрастных мироощущений, покончившей с ясным сознанием, упивался причудами растянутой на столетия переходности, негласным вызреванием неустранимого и вездесущего эклектизма, терпеливо возводившего храм христианской идеологии на культурно-мифологической базе язычества, когда готовые философские и художественные идеи и формы, адаптируясь к архитектонике новой постройки, обретали и новые смыслы, подобно тому как композиционное убранство Святой Софии в Константинополе преобразило колонны, извлечённые из античных руин Эфеса. Но, забираясь в древние дебри, Митя не забывал о сходствах византийских причуд с нынешними безумствами, зачитывал нараспев апокрифы, перекувыркиваясь из прошлого в современность, опаляя предания старины глубокой злободневной зажигательной отсебятиной. И всякий раз, увлекая Илью в расплывчатые свои премудрости, Митя с присущим ему азартом проскакивал тайный рубеж исторического мутирования, за которым греки третьего-четвёртого веков нашей эры превратились вдруг в византийцев и… возникла из ничего – разве разлагавшийся Рим, прощаясь, мог послать животворный импульс? – умопомрачительная империя, скрестившая позднеантичное с раннехристианским, взросшая и расцветшая на мировоззренческом двойничестве, послужившем питательной средой необъяснимо прочного, бутафорского государства. Раззадоренного византийскими парадоксами Митю не остановить, о каких он только курьёзах не вспоминает, каких историй не пересказывает и, пробуя при этом для тренажа Волин голос с прибавлением носовых тембров, разгоняется, разгоняется… Но его прыткие домыслы, его вольные параллели, пылкие гиперболические толкования опять и опять возвращаются к отлитой в изобразительную статику тягучей эсхатологии – этакому гибельному «процветанию навсегда», безудержно захлёстывающему, размывающему и дивно скрепляющему фантастический конгломерат идей, художественных творений и золочёных символов власти – конгломерат, который разваливался будто бы непрерывно, хотя не умел развалиться с треском, что называется, в пух и прах. Стоило, прослеживая в обратной перспективе биографию этой самодовольной, раздираемой противоречиями империи, довериться элементарной логике, как в любой хронологической точке слежения за ней начинало казаться, что абсурдная ритуализированная пышнятина была изначально обречена на гибель, что она неминуемо должна была давно пасть, ведь тяжёлая поступь судьбы столько раз ей обещала скорый конец! Казалось, вот-вот падёт, вот-вот, и лишь пыль подымется к небу, ан не тут-то было! Десять столетий, сверкая великолепием, продержался Константинополь на чудодейственной склейке, постигаемого рецепта которой нет! Вот уже и вороватые крестоносцы, натравленные Венецией, учиняют разгром, вот через двести лет и турки подплывают на кораблях со штурмовыми лестницами, берут роскошную столицу на абордаж. Император тем временем с величавой серьёзностью готовится к коронации: с него снимают верхнее платье, затем длинные штаны и после того надевают на него короткие штаны из малинового шёлка и обувают в сапожки, украшенные сверху богатыми каменьями. Потом его облачают в очень богатый хитон, который весь, спереди и сзади, от плеч до пояса, в золотых пуговицах, а затем надевают паллий – одеяние, подобное сутане, спереди ниспадающее от шеи до сапожек, а сзади такое длинное, что его свёртывают и перебрасывают через левую руку. И этот паллий очень богат, очень красив, а поверх паллия надевается ещё и великолепная изукрашенная накидка с орлами из драгоценных камней, таких ярких и переливчатых, что кажется, будто всё платье пламенеет. «И вот, – усмехается Митя, – наряжают отрешённого императора-истукана, точно нынче в зачарованном смрадно-стоячем времени увешивают звёздами маразматического вождя, а ощущение, что империя может ежесекундно рухнуть, так же неотвратимо, как подспудная вера в её устойчивость».
Митя, обретя собственный голос вместо Волиного, опять серьёзен, даже суров – да, помпезность, блеск золота незадолго до плачевного исторического финала слепили ворюг-крестоносцев, разжигали в жиреющей Венеции жадность дожей, а уж как торопили точить ятаганы наливавшихся этнической силой турков, которые нанесли-таки Византии смертельный удар… Но внутри империи, причём не только в канун гибели, а на протяжении чуть ли не всего нескончаемо долгого тысячелетия этот умиротворяющий беспокойный блеск, эта томительная вопиющая роскошь длящегося конца питали мажорно-болезненные настроения вечного пира, вечного наслаждения амброзией грядущего тлена и задавали особую стезю искусству, которое, возникнув как бы из ничего, как и сама империя, многогранно, скорбно-многозначительно сверкало в любом бесценнейшем пустяке, ибо тризна в праздничном тягучем ожидании смерти обставлялась куда пышней и торжественней, чем тризна по смерти уже свершившейся – убывание подлинного жизненного величия возвышало роль показного, представляемого и наделяемого символикой поэтами и художниками, чьи творения лучились новой и неизбывной знаковой подлинностью. Всюду, во всех уголках сплошь означенной и означающей, взблескивавшей многоцветьем и канонически единообразной, как бы остановленной для удобства саморазглядывания и самолюбования, как бы околдованной собственным трансцендентным назначением Византии семиотическая тирания искусства выпячивала отличительные нюансы, мелочи. Обращая внимание Ильи на чудеса общих мест впавшей в нарциссизм империи, Митя с гордостью хранителя уникальной коллекции перебирает и выставляет напоказ бесчисленные и редчайшие тонкости вязкого византийского единомыслия с его застылыми, как на причудливом параде, столпотворениями стереотипов.
Начиная от возбуждения нещадно плеваться, Митя демонстрирует открытую им – исключительное Митино открытие, увы, не оценено по достоинству учёными коллегами с куцым воображением – внутреннюю опустошённость сверхъяркой культуры, массив которой, если охватывать мысленным взором его тысячелетнюю толщу, смотрится вполне добропорядочно и надёжно. Но это, по мнению Мити, оспариваемому близорукими оппонентами, обман исследовательского зрения, испорченного лубочными диапозитивами университетских курсов. Да-да, даже непредвзятого наблюдателя ударяет по глазам экзотическими цветами и узорами изукрашенная поверхность, и он не видит уже, что массив – не массив вовсе, а густая тёмная тяжёлая пустота, распирающая оболочку муляжа – обманчивое подобие, копию, затмевающую воображённый оригинал… Тут Митя кидается напролом: в бытовых, художественных, исторических казусах Византиии ему мерещатся творческие забавы некоего небесталанного небесного имитатора, избравшего землю местом для авангардных своих поделок.
Допустим, – встряхивает головой Митя, так что чёрные глаза отблескивают синевой моря, – допустим, что создатель мнимостей, своего рода модельных слепков чего-то отвлечённого, взросшего без корней, без почвы, как бы шутки ради воспроизводит свои умозрительные пробы в брутальных материалах реальности, запускает их в жизнь, и они начинают приживаться, врастая в почву, выбрасывая новые побеги уже независимо от воли создателя и удивляя его самого аномальным даже с точки зрения сверхсмелого замысла развитием и направлением форм.
Уф, это уж ни в какие ворота… Однако, как бы то ни было, в изощрённо-жестоких шутках измышленного Митей безответственного творца можно усмотреть серьёзный урок для будущего, простецкая суть которого в том, что жизненные содержания вполне могут быть вторичны и производны от прихотей искусства. И вообще всё то, что принято именовать содержанием, в иные смутные эпохи, как открылось Мите, оказывается преходяще, а форма, это содержание организующая, наделяющая языком, на удивление прочна, стабильна и – это самое главное! – может вовсе не нуждаться в животрепещущем наполнении. Спеша хотя бы отчасти прояснить сказанное и попутно освятить своё открытие высшим смыслом, Митя безбоязненно касается космических токов, чья энергия именно в мистических оцепенениях истории – Митя, не боясь повторяться, настаивает, что Византия возникла вне исторических и государственнических правил, словно по недосмотру объективных (?) процессов мирового развития, – щедро тратится на изобразительность, на расписывание-раскрашивание, на бесшумное ли, громоподобное – не в том суть – сколачивание декораций, которыми и выступают вольные поделки упомянутого выше шутника-имитатора воображённой действительности и с которыми поневоле срастается театрализованная история и костюмированная государственность. А сама жизнь, да-да, византийская жизнь сама по себе, не зная альтернатив, настолько полно самовыражается в тисках этой тотальной сценографии, что судить о тайных её позывах остаётся лишь по ниспаданию складок паллия да насечках на булаве. В общем, ансамбли полых, изукрашенных, то каменеющих, то колышащихся, как драпировки, форм-знаков, образуя некий метаансамбль, способны многосмысленно и красноречиво говорить сами по себе, как бы не трогая привычной инструментовкой искусства ум, сердце, тёмную неразбериху инстинктов индивидуального человека, как бы забывая на время, что этот маленький и великий человек – навязчивая идея Бога, венец творения. Каждый знаковый жест, каждая культурная реплика бесконечно вариативных и самодостаточных форм ритуализует восприятие изначально запрограммированной бессодержательности. Но поскольку природа искусства, равно как и природа естественная, не терпит пустоты, эти сводимые в трансовый автоматизм ритуалы ежесекундных прочтений того, чего как бы нет, что как бы замещено многослойной цветной узорчатостью, обступавшей и теснящей жизненные пространства, порождает призрачное инобытие содержаний. Слетая с языка или с поверхности любого предмета, эти эфемерные содержания циркулируют в Зазеркалье, в мире обратных знаков, ибо обилие празднующих собственное всесилие мнимостей «как бы» не столько затемняет сущее и существенное, сколько свидетельствует о повсеместном присутствии скрытых от глаз, но вездесущих и глубоких таинств. Уф, уф, утираясь от брызг Митиной эрудиции, Илья понимает, конечно, что Митя проигрывает на нём самые рискованные и при том самые туманные из своих гипотез. Илья чувствует, что брошен в воспалённое Митино сознание, словно в бродильный чан, и барахтается, барахтается, а облака, наплывая, искушают мысль чистотою многосложных, капризно-прекрасных форм. Но ответные мысли и реакции Ильи, едва зародившись, тотчас тушуются перед феноменом иллюзорной культуры, которую в череде дутых апофеозов терпеливо выпестовала Византия. Спустя века – о, эти неподражаемые скачки, эти исторические прыжки-полёты гонористой Митиной мысли! – иллюзорность вдруг покорила благостно-блаженную… Австро-Венгрию, гениально воспетую и отпетую Музилем, а также в нищенском, огрублённом варианте по прихоте Клио прижилась в России. «Если Второй Рим упивался столь пышными фикциями, то что же сказать о Третьем, который так славен идейной бутафорией, воплощённой в самом жизнестроительстве?» – риторически вопрошает Митя и говорит, говорит с нарастающим пафосом о дряхлой химерической власти выхолощенных знаков, о сатанинских вихрях, нагоняющих туман иррациональной невнятицы, который придавливает, залепляет глаза, травит неясностями преображающей, но и пугающей критической фазы, о близости коей оповещают лишь пробегающие по коллективному сознанию судороги, уф, уф, уф…
Книги, книги.
Тянусь то к одной, то к другой умной книге в безалаберной пропылённой библиотеке, в которую превратили годы моё сознание.
Удастся ли с толком распорядиться украденными премудростями?
Или богатствами книг можно лишь восхищаться, но их нельзя трогать?
Вопросы для отвода глаз: распоряжаюсь, трогаю.
Это – как клептомания.
Блуждаю по гулким нескончаемым анфиладам; уходящие ввысь стеллажи, тиснения на корешках…
В. Шкловский приколачивает лозунг: искусство работает своим многотысячелетним всепонимающим живым архивом! Старое воскресает в новом соединении…
А. Чехов, иронично блеснув стёклышками, делает знак потянувшемуся к ружью Треплеву: нужны новые формы… Если их нет, то ничего не нужно…
А. Роб-Грийе рассудительно увещевает: глаз видит вещи, мысль их пересматривает, страсть – деформирует, и, стало быть, любое описание не оставляет за собой ничего прочного…
Перевернуть страницу?
Так-так: раньше литература сосредотачивалась на описании приключений, теперь в поле зрения – приключение описаний.
И тут же раздаётся глуховатый рассудительный голос: а можно ли изобразить время, само время?
Не дослушав, В. Набоков отбривает немецкого классика с игристой задушевностью колдуна: никогда не понимал, как это можно книги выдумывать. Что проку в выдумке – лишь бы сердцу своему позволил иметь воображение, да ещё, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины…
Сознание сплавлено из цитат – неразъёмный изменчивый коллаж, побуждающий, направляющий, оценивающий.
Мы не изрекаем своё – цитируем; новые смыслы высекаются, как искры, от неожиданных сшибок давних высказываний.
И ещё, думаю, новое, оригинальное нуждается в придыханиях синтаксиса, в актуальной одухотворяющей интонации, в том, что наделяет текст индивидуальностью. Захватывающий роман можно было бы смонтировать из цитат, не добавив к ним ни единого своего слова.
Это было бы подлинно новаторское произведение!
Но я его не создам, мне не хватит… практического радикализма.
Хотя идея такого сверхсмелого романа не отпускает, воображение опять и опять к нему подступается.
Эклектизм…
Где, когда угораздило заразиться?
Нет-нет, это не профессиональный хронический недуг зодчества, который вдруг обостряется, как боль в суставах перед ненастьем.
И не безвкусная поблажка моде, от которой можно отмахнуться и пойти дальше.
Эклектизм – это этап естественной эволюции культуры, обладающей выбором. О! Чарлз Дженкс на примере архитектуры чеканно сформулировал многое из того, что долго и бестолково толкалось у меня в голове!
Дочитав его блестящую книгу, я был обескуражен, как, наверное, был бы обескуражен провинциальный изобретатель велосипеда, если бы ему подсунули каталог последних двухколёсных моделей.
Но я и несказанно обрадован был, дочитав эту блестящую книгу.
И почти что горд.
Мне пригрезилось даже, что наше с Дженксом, утаённое от ревности коллег творческое содружество в духе прогрессивного разделения труда, координировалось с небес.
Я, скажем, сдавленный в метро, придумывал бы, что и как надо было бы смешивать в жанре новомодной эклектики, а Дженкс в своём заполненном пространственными ребусами лондонском доме или в Кейп-кодской студии с викторианской балюстрадой и модерными, поворачивающимися на шарнирах окнами, облекал бы мои рекомендательные выдумки в афористичную форму.
И похоже, литературе нынче не обойтись без трёх содержательно-стилевых элементов: мифологизма, эклектизма и пародийности.
Может быть, это не только элементы письма, но и его опоры?
Три кита современной литературы?
Невиданная плотность влияний не обеляет трусливого бескрылого плагиата.
Плагиат – это корысть и равнодушие.
А влияние – даёт импульс самобытным переживаниям.
Первым симптомом влияния для меня является возбуждение.
Бывает, и холодный, интеллектуально-сухой текст взвинчивает эмоционально, вызывает сердцебиение, жар, потливость, хоть хватайся за градусник.
Ощутив накат возбуждения, доверяюсь подлинности, органичности влияния, вселяющего отвагу, бросающего, будто первая любовь, в трепет.
Правильно, правильно – поглаживая лысину, с хитрющей своей усмешечкой опять подыгрывает рубленой теоретичностью В. Шкловский: «Для возбуждения доверия читателя ему надо сообщить лишнее».
Открываю наугад Г. Гессе: «Преодолеть болезнь эпохи не обходным манёвром, не приукрашиванием, а попыткой сделать саму эту болезнь объектом изображения».
Опять пылают лоб, щёки, горят уши.
И опять выплёскиваются бесконтрольно из соседней кладовой памяти вопрошающие слова: «Можно ли изобразить время, само время – бесплотное, всемогущее? В чём, собственно, главный инстинкт искусства и художника, их сокровенная потребность и цель? Это – длительность, стремление увековечить вещь, опыт, видение…»
Т. Манн, не только ощутивший, но и передавший стилем холод творческого горения, всё же неподражаем: «Я считаю, что великие произведения вырастают из скромных замыслов».
Подходит, подходит, умри, а лучше не скажешь!
И до чего же скромно звучит в устах автора великих произведений!
Как рассеянный библиотекарь, не помнящий, что и где у него припрятано, обшариваю верхние полки, натыкаюсь на М. Пруста: «Они, эти женщины, способные потакать нашей чувственности и мучить наши сердца, – создания нашего темперамента, отражения, опрокинутые проекции, негативы наших чувств…»
И вдруг опять прицельно бьёт В. Шкловский: «Искусство… есть задержанное наслаждение».
Здорово!
Присовокупляю!
Дыхание перехватило от дерзости девяностолетнего старца.
Так: подвижные оконца в стене плюща.
Так-так: вновь завораживает диффузия облаков.
И то мне хочется охватить-присвоить, и это…
Влечение в духе времени – гложет, гложет… как голод.
Жадно озираюсь и читаю, глотая слюни, суточные меню культуры – винегреты, окрошки, солянки, коктейли…
В тонюсенькой книжице моего покойного друга нахожу – меня колотит дрожь – прелюбопытный рецепт эклектики:
Если взять
тень стрекозы,
скользящую по воде,
а потом
мраморную голову Персефоны
с белыми слепыми глазами,
а потом
спортивный автомобиль,
мчащийся по проспекту
с оглушительным воем,
а после
концерт для клавесина и флейты,
сочинённый молодым композитором,
и, наконец,
стакан холодного томатного сока
и пару белых махровых гвоздик,
то получится неплохой
и довольно крепкий коктейль…
Горло бы промочить, – вздыхает Митя, досадливо скосившись на закрытый киоск и замедляя темп говорений. Да, не только со скачками, рывками и гиком спутанных мыслей, когда с цыганской удалью брошены вожжи логики, излагает Митя поучительные обобщающие сентенции о Византии как империи вычурных, полых, попахивающих тленом действ и форм. Вдруг в смиренной, так удающейся его гибкому голосу напевной тональности соскальзывает он к поэтическим её нормам, и говорит теперь Митя – будто орнамент вышивает по канве диатрибы. Его философско-моралистические увещевания-обличения возносят ввысь заоблачную жёсткий суховатый предмет, эдакую священную мумию академических штудий. Но впечатляющие баритональные подъёмы Митя, виртуозно разнообразя звуковую оснастку речи, укрощает снижающими интонациями задушевной устной беседы, поводами для которой служат сущие безделицы, отвлекающие, уводящие в сторону: всякий сор, текущая мелочовка, занимающая его, оживляют и осовременивают высокие понятия, пребывающие в вечной недосягаемости. И ещё в мелодичных, воспаряюще-сникающих говорениях во славу старинной, словно безнадёжно устарелой поэтики, ждущей, однако, повторного, на манер исторического бисирования, триумфа, Митя успевает приглядываться к несусветному жанру, стилю, прочим обязательным категориям вынашиваемого своего квазинаучного сочинения о поэтике. О, когда-нибудь, набравшись усидчивости, он с божьей помощью восхитит невиданным, провозглашающим новую парадигму текстом наш прагматичный, продажный, разуверившийся в чуде искусства мир… И тут будто бы окликают Митю высшие силы с этого вот снежно-белого облака – переключается внимание, ломается ритм, и опять Митина мысль скачет, кувыркается. То опережая многословную околесицу, то едва за ней поспевая, Митя даже внешне меняется: только что просторно обвисавшая на ветру марлевая рубашка обтягивает уже мускулистый торс, и он лихое представленьице запускает, быстро-быстро перебирая, а то и совмещая роли, и вот он не выпевающий вышивальщик уже, а выкрикивающий акробат…
Как напружиненный циркач с трапеции на трапецию, перелетает со своими мыслями Митя, не боясь гробануться, с одного комплекса понятий на другой. Зацепившись за закавыку какую-нибудь, задумчиво покачивается туда-сюда в плавной и размашистой амплитуде, как бы на прочность испытывает узлы невидимой худсистемы, хотя сквозь озабоченность смысловой надёжностью, конструктивностью связей во внутреннем мире гипотетического шедевра, подмигивает плутовство игрока – мол, знай наших! – легко, впрочем, переводящее гордость творца в мудро-лукавый прищур сомнений – мол, мура, братцы, нет нужды напрягаться… И все эти ритуальные попутные трюки мимики в духе амбивалентных бахвальств ловко сбивают фокус с только-только проявленного орнамента взволнованно-патетичного, искреннего высказывания. В том-то и фокус этого сбитого фокуса, плоско каламбурит Илья, внимая вполуха озадачивающей Митиной речи, что речь сия вообще не несёт направленной сосредоточенной информации, а множит информацию распылённую – смысл, раздрабливаясь, двоится, троится, мелко-мелко, чуть ли не в пыль, размалывается и разлетается, подхватываясь завихрениями сознания…
Мистика – наговорил с три короба, а ничего нет! Перемахивая из ироничного интеллектуального отстранения в исследовательскую, аналитичную одержимость и сразу же опять, с изводящей издёвкой потешаясь над собственными претензиями, язык самому себе, зарвавшемуся сверхучёному недотёпе, показывая, Митя наигранно тоскует об изначальном разладе своего гиперсинкретичного текста с формой. И пусть нет ещё в наличии никакого связного текста, а стало быть, нет да и не может быть ощутимой конкретно формы, Митя со сверхчувственной точностью ухитряется представить эту вымечтанную призрачную форму, теряющуюся в многократных переносах значений и путаницах персонификаций, как нечто до мельчайших финтифлюшек внятное его зоркому въедливому воображению. Вот ведь, если позволительно так сказать, другая сторона мистики – нет ничего, а видит! Критически, но с сожалеющей любовью, как на светлое оглушительное воспоминание – помнишь, гремят тарелки и барабаны, башка гудит, смешиваются напитки, мотается огненная гривища Милки, – посматривает Митя на неловкую, увёртывающуюся, не идущую в руки форму, посматривает по-хозяйски, будто всё-всё, что составит эту вожделенную неуловимую форму будет вскоре безраздельно принадлежать ему, ибо именно он творит из разрозненных, живших когда-то данностей что-то новое, возникающее на его глазах сейчас, здесь. Он ведь не только циркач, не только актёр, меняющий маски, но и режиссёр: он следит из кулисы за первым прогоном формальной своей находки, а видит весь ансамбль таких находок в возбуждающей премьерной отточенности, и даже цельней и ярче, ясней, чем какую-нибудь сценку минувшей молодой бесшабашности, о которой зачем-то вспомнил. Вот она, форма, поймалась и проявляется с резкостью и отчётливостью вся-вся, но счастье – выразительным пожатием плеч Митя даёт понять, что он отнюдь не счастливей других творцов, – недолго длится, тут же видит Митя изъяны пойманной формы, видит, что не то это, совсем не то, что затрепетало было в расставленных воображением силках, и пора опять понуро, если не обречённо, начинать искать что-то иное, прочно скреплённое, без дураков достойное его замысла. Оказывается, мало картинных промельков, нужна рама.
Наблюдая за говорливо-мимическим Митиным формотворчеством и возвращаясь почему-то усталой мыслью к таинственным сгущениям пустоты под муляжной коркой концепта, Илья продолжает свои догадки и догадывается… Не первый сезон вышагивает с Митей вдоль набережной, наслышан всякого, вот и догадывается, что вовсе не убогие распри формы и содержания, в дрожь бросающие провинциальных «ведов», способны раздразнить Митю. Как бы не так, судя по словесному слалому, он ломает голову о несуразности сложной, витиеватой, для собственного ублажения выдуманной задачки; отнюдь не планы содержания и выражения он, щеголяя структуральным жаргоном, тщится сопрячь, но разнесённые во времени сущности. А если попроще, поконкретнее Митины амбиции расшифровывать, то получится, что рвётся он к внутренне конфликтному союзу пёстрых – научных и бытовых – непостижимостей современности с установочной архаикой ранневизантийских словесных памятников, в долгих блужданиях по страницам которых он набрёл-таки на неисчерпаемые, хотя до сих пор не востребованные выразительные ресурсы.
Так вот, догадливый Илья обгоняет очередной приступ Митиных признаний в сокровенных творческих планах. Всегда с Ильёй так: читая ли, слушая, он обгоняет мысленно развёртывание смутного текста и гадает, что его в конце ждёт, поспешая к последней главе, фразе, точке. Но далеко ещё до развязки, далеко… И вот ведь странность: вроде вперёд заманивают обещаниями чуда утомительные Митины говорения, а на том ловится Илья то и дело, что в никчёмно-растерянном удивлении как бы назад глядит, как если бы по клубам отработанного пара разгадывал ресурс и назначение неизвестной машины. Митя же, искосо, исподлобья-слепяще обжигая Илью чёрными фарами, всё поёт, поёт о композиционных несводимостях и безыдейных напряжённостях будто незадачливых художественных нововведений, обещающих невиданную, между тем, гармоничность. Поёт о твердейших – куда алмазу! – византийских канонах, якобы идеально охватывающих-оформляющих вспененно-сиюминутную переливчатость, что бродит в смятенном современном сознании. О, опьяняет Митю сверкание молодого вина в старинном бокале, а Илья – у кого что болит – костит про себя неукротимый идиотизм, с которым пластичнейший материал бетон заливают в прямоугольные железные формы-противни. «Айда к нам, Илюшка, пока от учёного акына не опупел!» – орёт с пляжа, завидев неразлучную пару, Воля, и подмывает солнечно-прозрачную даль глазурное море, и тёплый ветер выгоняет из рощи блестящие осенние паутинки. А Митя всё мусолит драгоценнейшие, с патиной, эстетские обретения древних, прилаживая их так и эдак к своему опрокинутому в византийскую поэтику замыслу, и опять придирчиво посматривает на причудливое мимикрирующее твореньице, опять, склонив слегка голову, его, нерождённое твореньице, с разных сторон обходит, будто вот оно, искомое единство разновременных противоположностей, и ничего не стоит потрогать сие сверхинформативное, сверххудожественное единство, погладить, назвать своим… И вот уже свято верит Митя, что заёмные формы, раздавшись и растянувшись под давлением его разностороннего вдохновения, уже стали его созданием, его одного, независимого от исторического сонма известных и безвестных соавторов, с которыми надо было бы делить славу. И поскольку сомнения всё же не покидают его, головой уже Митя покачивает, как недовольный исключительно собой творческий индивид, а Илья, ощущая во рту безвкусную наукообразную сушь, машинально шлифует свои догадки, самопереводя их на внятный ему язык. Отыскивается сверхубедительное объяснение как мысленным нетерпеливым забегам вперёд, так и недоуменным оглядываниям. К чёрту пованивающий техницизмом отработанный пар, к чёрту машину, когда есть поточнее образ, – ведь ищет Митя, как пить дать, какую-то вневременную субстанцию, выявляемую и всякий раз конкретизируемую формой, а до этого опознающего акта абсолютно прозрачную, словно отсутствующую. Да-да, ищет он нечто неопределимое, но определяющее, как наследственный код, скрытно бытующее во всех жизненных фазах любого произведения: нечто присущее томлениям замысла, затем преображающееся импровизациями и технологическими операциями создания и воплощаемое наконец в чарующем готовом творении – допустим, в каком-то прекрасном телесно-мраморном храме, – а потом, спустя годы, в веках забвений и разрушений подспудно, беспокойно, чуть ли не с нарастающей интенсивностью живущее, будто вечная вольная память, в бесформенной, обветренной, засасываемой землёй руине, в которую храм, коли о нём зашла речь, превратило время. Так вот, догадливо посмеивается Илья, Митя соединяет клокочущий неуправляемой энергией, алчущий большой формы замысел с неотвратимо печальным распадом формы, как если бы из начальных устремлённых к совершенству неопределённостей создания он сразу норовит перескочить к другой неопределённости, к какой-то итоговой словесной руине, минуя при этом в многословных полётах фантазии готовое произведение как промежуточный и несущественный этап творчества.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































