Текст книги "Пицунда"
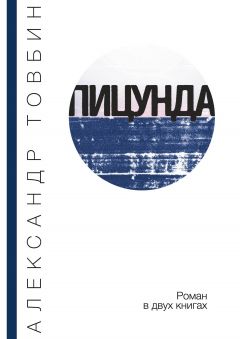
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Внешнее, внутреннее?
Или внешнее и внутреннее, лицо и изнанка, подкладка… субстанции, как и поверхности ленты Мёбиуса, перетекающие одна в другую, по сути образуют единство?
Короче, отправлялся за неожиданностями в новое путешествие…
В один прекрасный день, забираясь всё выше, решился на штурм изнутри; это была незнакомая альпинистам попытка проколоть изнутри полую рукотворную гору-сферу и очутиться снаружи: на воздухе, на вершине сферы, у светового надкупольного фонаря, под крестом, на окружавшем фонарь тесном балкончике.
Когда лестница стала уже и круче, отвратительный бордель голубей подсунул ему вместо порога притолоку, он больно ушибся и подумал было, что ещё не поздно обратиться в бегство, спуститься (признав поражение?), но понадеялся всё же, что как-то всё обойдётся с небесной помощью. Упрямо лез и лез ввысь, ещё выше, ещё, духота сгущалась, но пока он ещё мог терпеть, карабкался. Становилось уже невыносимо жарко, он начинал задыхаться, но удушье опередил кошмар заполненной миазмами плавящегося голубиного помёта газовой камеры, и всё же из последних сил – вверх, к бледному струению света; к пропылённым лучам уже ближе, гораздо ближе, чем к клубящейся тьме внизу… Однако как же хочется прыгнуть вниз, броситься, пусть и превратившись в мокрый мешок с поломанными костями… Есть ли шанс выбраться из этой удушающей жаркой тьмы, глотнуть свежий воздух?
И почему – молния в гаснувшем сознании – девчонка из дома напротив, казалось, тонувшего в тени собора, достала его отражённым лучом?
Случайность?
Вновь мелькнула в окне с сияющим кружочком в руке, глаза повторно залепил солнечный зайчик… Прохладный ветерок гулял снаружи, на лесах портика, и перед ним, ослеплённым, вырос густой влажный лес, косо прорезанный голубоватыми лезвиями; за пиками елей возникла в облаке радужных брызг кипящая Ниагара… Удалось вдохнуть полной грудью, и галлюцинации оборвались; пыльный свет струился всё ярче и совсем близко, если бы хватило сил поднять руку, свет можно было бы пощупать, и где-то высоко, за блеснувшим узким стеклом, растеклось уже белёсое небо, а вот и – почему-то чудесно приблизилась – точка подвеса маятника, и вот ещё шаг всего, последний шаг надо сделать из-под паутины металлоконструкций, шаг к небу, и – удача! – не заперта створка, можно вылезти на узенький круговой балкончик, обрамляющий световой фонарик с крестом… Остался-таки внизу раскалённый купол, удалось, пронзив купол изнутри, очутиться снаружи, над макушкой его.
Только что чуть не погиб от удушья, а внизу – ноль внимания: едва различимые, суетливо-равнодушные муравьи, игрушечные машинки, троллейбус…
Шагнул из тёмной вонючей духовки в небо и, захлебнувшись ветром – испугом-восторгом? – присел на корточки. За прутьями решётки плавно, словно мощным выпуклым веером, расходилась вниз и во все стороны золотая сфера, и простирался за ней, за круговым контуром её, Петербург.
Золотая сфера оказалась огромной, невообразимо огромной.
И он был – над ней?!
Был… Это не сон? Не верилось.
Нет!
Не был, не был…
Или всё-таки – был?
Он тогда глубоко дышал и не мог надышаться, а вдыхая-выдыхая, не мог насмотреться. Теперь же, вспоминая умопомрачительное приключение своё, понимал ещё и бесценность увиденного – да, немыслимо было бы обменять это на другие города с другими соборами, пусть по-своему и прекрасными.
В странной неудобной позе, полусидя-полулёжа на узком балкончике, не решаясь встать на ноги, как если бы ему нужна была для сохранения увиденного именно с этой уникальной точки зрения долгая фотовыдержка, не мог отвести глаз от необъятной золотой сферы, неподвижно выползавшей из-под него и – зависнув – падавшей на монохромную мозаику крыш.
А внизу (на дне какого-то другого мира?), на сей раз не ведая о его, вознёсшегося, воодушевлении, медленно, с предосторожностями огибал собор очередной синий троллейбус, маленький-маленький… да-да, маршрут № 14, Смольный – Площадь Труда.
Итак, вокруг исполинской золотой сферы, на вершине которой он очутился, простиралось ячеисто-мозаичное тело города: сплочённые воедино крыши, фасады, дворы-колодцы, фактурные лоскутки парков, рукава рек, пазы улиц.
Отдышавшись, как на вечную свою собственность взглянул на Адмиралтейство с иглой, на Биржу и широченную Неву, на изящный, вытянувшийся выше облаков шпиль Петропавки. А если обойти фонарь, можно было увидеть медный (пятнисто позеленевший) купол другого собора, ультрамариновые купола третьего, колокольню Успенской церкви (ещё была!), и, в который раз обходя фонарь, угадал вдали уличную решётку Васильевского, а куда ближе была арка, выводившая на Галерную… Глубоко внизу – два взгляда в разные стороны – два разделённых собором, отталкивающихся от пьедесталов, чтобы поскакать к Неве, всадника, и где-то на границе с невским устьем – похожие на прозрачных жирафов портовые краны; романтичная ржавчина доков, стальной блеск залива, остров, там же, на продолговатом острове, снова собор…
Придя в себя, всё ещё жадно всматривался, будто знал, что первый опыт этого восторженного кругового обзора станет последним.
Город напомнил лёгкие на плакате в медицинской энциклопедии. Город был тогда ещё компактным и мускулистым, контуры его словно размывались полями и лесами, акварельно истаивавшими на границе с небом – там, куда противоестественно вытянулась теперь хлипкая, серо-грязная панельно-блочная плевра, вытянулась, уползла даже за круговой горизонт, где снова из топи непроходимых луж, на пустырях намытой пульпы, среди свалок и обломков бетонных плит зачем-то продолжал тягостно расти город, совсем иной, отказавшийся от своей исторической уникальности, как бы отслоившийся от самого образа Петербурга – величественного, исключительного, блистательного, постыдно такой же, как все новейшие бескрайние «застройки» из белёсо-серых брусков и торчков, дыряво-полосатых, словно картонных, вопреки отличиям – одинаковых, равномерно засорявших территорию, с рубероидно-битумной безнадёжностью плоских крыш, чахоточными рощицами телевизионных антенн…
Из будущего, которое уже давно стало прошлым, вернулся на ветреную вершину купола.
Тогда вокруг городских лёгких, разделённых на две половинки Невой с чёрточками мостов, действительно был резервуар зелени, дышалось вольно, жизнь удачно так стартовала – вырвался (чудом, но и не без собственных усилий) из удушающей тьмы на свет, увидел город сверху – весь город, обнимающий этот вознесённый в небо крест и узкий круговой балкончик под ним, эту огромную золотую сферу.
Но почему же так засвербило?
Вероятно потому, что в тот самый день с дразняще-слепящим солнечным зайчиком и мучительным подъёмом на золотой купол принималась искать свой петляющий и пунктирный путь наша история…
Обжигающе-приятным показался глоток паршивого коньяка; ещё один листок плюща спланировал на страницу…
И опять, опять – жанр?
Действительно, за мемуары обычно садятся на склоне лет, причём главным образом люди известные, даже знаменитые, обременённые знаниями и мастерством в прославившем их деле, знакомствами, а то и дружбами с другими знаменитостями; люди, пережившие эпохальные потрясения и волею судьбы удостоенные священного сана летописцев: их молчание считается подозрительным, им следует поскорее высказаться, все, открыв рты от любопытства, ждут, что они скажут, и всему готовы поверить: беспроигрышная позиция – писать на проценты с известности.
Впрочем, не стоит завидовать.
Рассказы одних знаменитостей о встречах и беседах с другими знаменитостями, молниеносные подмены (с ловкостью фокусника) лавровых венков терновыми, разнооттеночные намёки, мелкие уколы любви, трогательно дозированный мышьяк иронии и… Даже покаянно бухнувшись на колени, мемуарист, обречённый играть роль положительного героя, подчиняясь давлению амплуа, никогда не забывает оставаться самым умным, порядочным, смелым, находчивым, тогда как его близкие великие (гениальные!) друзья, конечно, люди прекрасные, но (как он благодаря прозорливости своей давно понял) с милыми чудачествами, слабостями, им свойственно ошибаться, правда, по пустякам, так, временные заблуждения – не смогли, не сумели, не успели, несвоевременно очаровались или разочаровались, с кем не бывает?
Бывает, только не с автором-мемуаристом – живым, благополучным, знающим, что из-под могильных плит не вышлют опровержений, и потому – безнаказанным, чувствующим себя вне подозрений.
Несимпатичная получается позиция, хотя, конечно, прибыльная.
Прибыльная, но всё-таки уязвимая.
У знаменитостей обычно много знаменитых друзей, и они все тоже за мемуары в свой час садятся, чтобы написать о тех, кого все знают, но о ком хотят знать ещё больше: что сказал, чем отобедал, где и в какой компании выпивал, кого любил, презирал, с кем и когда подрался, пользовался носовым платком или чужой накрахмаленной скатертью – все друг про друга, впадая в маразм, пишут, все на виду, всех обожают и изучают, преследуют и исследуют, обижаются, переиздают, нарушают и восстанавливают справедливость, честь и достоинство, цитируют с мюнхгаузенской убеждённостью, смело запутываются в противоречивых оценках и запускают свару: кто прав? Кто виноват? А ты кто такой? Клубок тел, куча-мала, не разнять.
А потом пыль оседает; угощая друг друга последними щипками и тумаками, отряхиваются, потирая шишки, улыбаются виновато, мирятся, а равнодушное время, пристрастно отбирая факты, расслаивает честолюбивых драчунов по категориям-номинациям: столпы нации, пламенные революционеры, гордость культуры, корифеи науки, провидцы, рупоры, знаменосцы.
Остальные, которые не рупоры, жили-были, любили, писали, пили, но шли не в ногу, не улавливали ритм – второй сорт, явно помельче.
Соснин не ко времени брался за свои так называемые мемуары: средний возраст, куда спешить?
Сам не знаменит, надежд не оправдал (пока?), те, кто его окружал и о ком можно было бы рассказать, тоже никакими геройствами не успели прославиться: люди как люди, кому они, кроме самого рассказчика, интересны?
В том и преимущество писания для себя – никто не осудит, не усомнится в правдивости, не встанет на защиту какого-нибудь обиженного кумира.
Во-первых, кумиров у него нет.
Во-вторых, какая обида вообще могла бы возникнуть, если он никого и ничего не собирался оценивать: прав, виноват, нашёл, потерял.
Ему не чьи-то изъяны важны, не елей, а лица, словно и не связанные с реальностью, не связанные между собой, но проросшие через его судьбу.
Всё прочее – до лампочки. Мемуары, где есть только мемуарист? Ну да, сказка про белого бычка: автор-мемуарист (он же – романист) со своим «раздробленным» (на три лика) «Я» в писаной торбе, да-да, все лица – фас, профиль, три четверти – «Я».
Нонсенс!
А что? Нонсенс как жанр…
Отрешённый и опустошённый, едва слыша, как перебирает-просеивает гальку уставший прибой, бредёт в перерыве между дождями по безлюдному пляжу…
И вспоминает, вдыхая влажный пряный октябрьский воздух субтропиков, мартовское утро с морозцем и, как ни странно, с радугой – утро, когда шёл к метро, а раздумья ни о чём и обо всём сразу расплёскивались, выплёскиваясь из растревоженного сознания.
Что всё-таки это могло быть…
Спонтанное портретирование сознания?
Или всего-то – мешанина из смутных предчувствий?
Тогда ещё не получил вызова, но испытал опережавшую рутинный эпизод «доставки корреспонденции» интуитивную встряску и неожиданное чувство готовности, которое не знал тогда, к чему приложить; теперь-то он понимал, что внезапный напор противоречивых импульсов и картин, словно взявшихся ниоткуда, призван был расшатать внутренний мир, чтобы перенастроить его. Это и стало отправной, «толчковой» точкой, а уж явление почтальона с конвертом – лишь достоверное (оформляющее) следствие того внутреннего толчка…
В то утро (до вызова) словно предугадал нынешнее своё состояние, тасуя картинки ночных кошмаров и обыденной яви, невольно производя критическую инвентаризацию своего «Я»: попутных идей, ощущений, допущений, желаний; к тому же тот насыщенный смутными страхами и надеждами внутренний, казалось, спонтанно изливавшийся монолог был какой-то подоплёкой всего того, ещё непрояснённого, что сейчас (после вызова) он так хотел написать и, значит, хотя бы отчасти прояснить.
Монолог, произнесённый не вслух, произнесённый про себя, про себя…
И… внутренний гул беспокойно оповещал его в то утро на пути к метро о поджидавших его творческих передрягах?
Да, и раньше нечто похожее на эмоциональное оповещение-предупреждение с ним бывало, но – перед важным архитектурным проектом.
А в то мартовское утро взбаламученных чувств и беспричинных страхов, выходит, перед проектом романа?
Выходит, так.
В том-то и фокус – романа про себя!
И значит, романа про своё время и про свою память?
И вдруг: чтобы справиться с сосущей пустотой одиночества вовсе не обязательно выгодно выглядеть на чужом фоне; он ведь не перед историей пытается оправдаться, как знаменитые мемуаристы, а перед собой, и чтобы искупить смутную вину, никаких не надо аплодисментов, наград, ропота, гонений, усмешек – только бы, поднявшись над биографией, вот-вот разломающейся на «до» и «после», оправдаться перед собой, сказать (опасаясь пафоса) о том, чем, хотя и пустой, переполнен.
Но – старая заунывная песня! – сказать сложно.
Размышлявшие об искусстве и помнившие об аристотелевском мимесисе нередко (и почему-то не опасаясь прямолинейности) уподобляли искусство отражающему действительность зеркалу.
Только (не всё так просто) не стационарному зеркалу, с неразборчивостью зеваки запечатлевающему, что попадётся, а зеркалу, способному двигаться, колебаться, поворачиваться, отбирая фрагменты действительности, достойные отражения.
Скорей всего, именно на такое волшебное зеркало остроумно и ненавязчиво намекал родившийся здесь и всю взрослую жизнь проживший там двуязыкий романист, когда уже на первой странице «Дара» писал о дрожащем, ломающемся, покачивающемся в такт шагов вместе с берлинским небом и ветвями платанов дубликате внешнего мира в зеркальной дверце переносимого грузчиками через тротуар платяного шкафа.
Впрочем, не без остроумного намёка на метафоричность выписанная житейская сценка и образ искусства как отражателя жизни сошлись вполне закономерно.
Пытаясь, однако, следовать определению искусства, с которым трудно было бы не согласиться, Соснин не мог представить себе причудливо пританцовывающий зеркальный механизм, перед которым, чтобы получить искомое отражение, должно было каким-то способом располагаться, как перед фотокамерой, его, Соснина, апатичное, возбудимое, холодное, расплавленное (какое ещё?), простуженное, лихорадящее из-за им самим взбитой температуры сознание.
Да-да, не привычный внешний мир отражался, а непостижимый индивидуальный внутренний объект – сознание!
Эгоистически опрокинутого в себя Соснина сейчас мало занимала окружающая действительность как объект, на который, очнувшись (о, вдохновение!) от летаргии обыденности и удивившись, умилившись, поразившись, кладёт глаз художник.
Вот писал, например, пейзажист из окна мастерской своей пасмурную, с баржами, Сену на фоне серого (бурого) Нотр-Дама или – переместившись в пространстве – слепящий бирюзой и бликами Неаполитанский залив.
И что же?
Перед пейзажистом были «объекты» натуры, и тот, волнуясь, дрожа от восхищения, пропуская через магический кристалл внешние свето-цветовые сигналы, заворожённо накладывая на холст трепетные мазки, преображал эти реальные объекты индивидуальным видением, пока они, став отражениями в зеркале искусства, не повисли на нейтральной стене музея.
Ещё раз: по сути, были два объекта: один – действительность, другой – зеркало, то есть фактически сам художник со всеми трепетаниями и всплесками его бесконечно сложного внутреннего мира.
Эфемерное «А», дрожа от волнения-возбуждения, отражало относительно неподвижное, материальное и лишь в кое-каких контурах и оттенках (тень, свет, облака, лазурь) меняющееся «Б». Классически ясная, ещё Аристотелем предложенная схема взаимодействий искусства и жизни; настройку её, конечно, можно варьировать, меняя фокусировку, но принципиальный смысл её не изменится, и это – главное.
Соснин же, избегая классически ясных схем, чувствовал, что на сей раз придётся расплачиваться за идею-казус дорогущей ценой, ибо он угодил в какую-то безнадёжную, затягивающую, как водоворот, историю: два объекта («А» и «Б») упрямо совмещались в одном; причем совмещение происходило в самом Соснине, и этим странным гибридом (действительность + её вибрирующее отражение) оказывалось его и без того перегруженное, донимаемое аритмичными импульсами, да ещё – какая неосмотрительность! – превращаемое в динамичную систему зеркал сознание.
Его лечить надо, а тут неразложимая на простые элементы задача: отражать, оставаясь объектом отражения; зеркало, поставленное напротив зеркала?
Заколдованный круг, оказывается, и не круг вовсе, а заколдованная (неразмыкаемая) ловушка замысла; тиски художественных обстоятельств зажали, не шелохнуться, но хоть мысль ещё могла двигаться и вот – беззвучный щелчок – попалась в свой же капкан: психологическая головоломка.
Картина как произведение искусства и, стало быть, как образное отражение действительности, и она же, картина, – как натуральное зеркало?
Ну да, и на кой ляд тут вопросительный знак…
А если иметь в виду не образный отражатель, а буквальный, если это – картина-зеркало…
Или – зеркало как картина?
Ну да! Хлопнул ладонью по лбу, вспомнив.
Загадка зеркала издавна – правда, как-то издали – интересовала его, теперь же он столкнулся с нею вплотную. Лицом к лицу лица не увидать, но он увидит, иначе – не написать, все усилия будут напрасны, если сейчас не определить для себя, что искусство, а что жизнь, как одна реальность, натуральная, отделяется в восприятии от другой, иллюзорной, как проникают они, разные реальности, одна в другую – быть может, по законам диффузии?
Думал, строил предположения, однако размышления продвинула знакомая картина, которая поразила даже просвещённую публику на полуофициальной и шумной, как всё полуофициальное, выставке художников-нонконформистов; ну да, Дом культуры имени Газа, петля очереди, внутри – толчея вокруг непризнанных гениев, вспышки блицев.
Феномен отражения, его многомерности, конечно, не разгадал, но увидел волнующую дилемму в новом ракурсе, подсказавшем ещё один, и не исключено, что решающе важный, опорный образ.
Зеркало – картина в картине?
Нет ничего более двусмысленного и неблагодарного, чем пересказывать живопись, но придётся.
На чёрном фоне, фронтально – четыре большие угреватые, с блуждающими по лысинам бликами, почти одинаковые головы; четыре почти одинаковых, отличающихся лишь лёгкими, кривящими тонкие губы гримасами, лица-маски, попарно повернутых к центральной оси (горизонтальный формат), в надежде увидеть её, вертикальную ось, хотя бы боковым зрением.
Перед ними – покрытый белой скатертью стол, перед каждой из голов-бюстов – по серебряному подстаканнику, в руке у каждого из сидящих за столом в скрюченных пальцах маленькое зеркальце, в котором – тщательно выписанное тончайшей кисточкой отражение подстаканника.
Тревожно, неприятно даже.
Однако чем же их, четверых, так притягивает незримая ось симметрии?
А вот чем: между парами отглаженных лессировками физиономий в картину, в чёрный её фон вставлено – по оси симметрии – настоящее, в настоящей латунной рамке зеркало – реальный предмет-отражатель, встроенный по прихоти художника в живопись. Зеркало как картина в картине: в зеркале то замирает, то движется переменчивое осколочное отражение бегущей в никуда жизни, которое – той же прихотью художника – в восприятии сращивается с изображением, меняя в каждый момент впечатление от написанного краской. В картине рождается симбиоз станковой живописи со случайными отражениями в зеркале; симбиоз этот отменяет и без того хрупкую границу между изображённым и подлинным.
Эка невидаль, скажут (кто скажет? Неужели потянуло на диалог?), такая граница – условность, а каждый потребитель искусства где хочет, там её и проводит в индивидуальном сознании…
Только здесь – иначе: реальный предмет-отражатель (зеркало) вмонтирован в традиционно, по сути, с тщательностью старых мастеров выписанную фигуративную композицию, сюжет которой (кощунство – сюжет в живописи!) задаётся и развивается, по-видимому, волнующей игрой многократных, непрестанно обновляемых отражений; активно взаимодействуя со статичным полем картины, они (каждый раз с невольным участием улавливающего замысел живописца зрителя) создают целостный и изменчивый, динамичный образ.
Парадоксальный сюжет дробления и – одномоментного – созидания-ускользания вещного мира не случайно волновал многих.
Уже упоминавшийся платяной шкаф с берлинским небом и ветками платана в зеркальной дверце – символическое (?) начало романа, – пересекающий, покачиваясь, тротуар, когда шкаф от мебельного фургона к парадному дома несут грузчики, лишь задаёт зыбкую тему.
А вот, к примеру, её развитие в другом романе – оголение желаний и нервов в призрачном, теряющем материальные очертания интерьере: двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отражённая в нём кровать, та же кровать в шкафном зеркале…
Или:
В трюмо испаряется чашка какао
Качается тюль, и – прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.
В случае же нашей картины с органично встроенным в неё зеркалом канкан отражений не описывается, не изображается, как изменчивая принадлежность внешнего мира, а перебрасывается внутрь произведения – была граница между искусством и жизнью, а теперь её благодаря выдумке нет?
Взаимная проницаемость двух по разным законам живущих сред – искусственной и естественной?
Ещё задолго до шумной выставки ходил вокруг да около загадочной картины, приглядывался.
Как-то прислонённая к стене картина стояла вертикально, четыре яйцевидные головы торчали влево из скатерти нелепыми консолями (тёмные рубашки сливались с фоном: чёрное на чёрном); заделанные в стол крючковатые кисти рук синюшными пальцами с Китаем микробов под каждым ногтем сжимали всё те же написанные масляной краской четыре зеркальца, в которых застыли завитки перевёрнутых (как и всё прочее) серебряных подстаканников.
И тут же визуальный алогизм предложил другой образ: чёрный фон стал протёртым мокрой тряпкой пластиковым полом морга, почему-то потемневшая скатерть превратилась в покрывающий уложенные в ряд тела, полуистлевший, тускло мерцающий пятнами лампадного жира и стеарина, землистого цвета саван, подстаканники, оказывается, уже не подстаканники вовсе, а опрокинувшиеся широкие подсвечники… Ко всему из-под корочки лака сквозило холодом, что, впрочем, было вполне естественно, ибо низкая температура функционально необходима этому помещению.
И только зеркало равнодушно поблёскивало: его заполняли паркетные, убегающие вверх ёлочкой под слоем красноватой мастики дощечки настоящего пола.
– Ну и холодина, б-рр! – поёживаясь, в комнате появилась жена художника, накинула на плечи шаль, захлопнула форточку. – Такой мороз, простудиться можешь…
Что-то промямлив, смущённо отошёл от картины.
Да, ещё раз, ещё раз: иллюзорность живописи как таковой – и материальность-реальность зеркала, встроенного в иллюзию…
Новое слово?
Спустя какое-то время, когда картину, перевернув, повесили в нормальном положении напротив стола, он, приглашённый в гости, нет-нет да посматривал на картину сбоку и опять-таки находил внутри латунной рамки одну лишь пустоту ожидания, однако собирались гости, и вот уже он заметил, что в зеркале мелькнули жёлтый пушистый рукав, клетчатая, расклёшенная штанина…
Сидели за столом, болтали, смеялись, а он оглох, язык проглотил?
Стараясь не упускать из вида всю картину, вдруг заметил меж двумя парами оцепеневших голов, в зеркале, толчею мужских и женских затылков, а в прорехах между их силуэтами – языки света на белой льняной скатерти, на реальном, данном нам в ощущение столе, за которым сидели гости, тоже длинном, параллельном картинному, сервированном уже для чаепития: тарелки, чашки, бутылки, рюмки, блюдо с тортом из «Севера», два точно таких, как те, что были написаны на картине, серебряных подстаканника.
Натуральная и написанная скатерти сливались, столы – реальный (настоящий) и картинный (ненастоящий), – словно вплотную сдвинутые длинными сторонами, продолжали один другой, превращались в один стол, широкий, на противоположной стороне которого в глубокой перспективе зеркала даже неожиданно увидел себя, растерялся, неловко дёрнулся, капнул на настоящую скатерть вишнёвым вареньем.
Хотел было схватить бумажную салфетку, передумал, снова промелькнул в зеркале, застрявшем между лысинами болванов; словно подчиняясь чьей-то команде, изогнули в гадких усмешках тонкие бесцветные губы, презрительно уставились на него – не отражённого, а сидевшего за столом – восемью одинаковыми плевками глаз; не желали, наверное, чтобы из недоступной им глубины зеркала он увидел их сзади, но всё недоступное и необъяснимое всегда упоительной щекоткой соблазняло его, и поэтому, наверное, услужливо свёрнутая воронка трансцендентного смерча без промедлений засосала в зазеркальную, полную космической пыли даль. Однако, едва его растерянная физиономия, эскортируемая – слева и справа – гнусными оскаленными масками, заняла почётный центр композиции в зеркале, трусливый поршень всесильного разума (зачем связываться?) стал неуклюже выталкивать его отражённую ипостась обратно в безопасную жизнь; он снова дёрнулся, со вздохом облегчения исчез из картинного зеркала, представлявшего каверзно путаный мир искусства, с покорностью принялся, как все, жевать, выпил вина, удачно врезался в разговор (провёл пересекающиеся параллели между Дали и Босхом), успокоился, аппетитно перекатывал таявшую во рту сладковатую массу – какой чудесный вечер! – наткнувшись языком на спешащий в дупло зуба цукат, заметил заодно, что ест торт («Сластёна») с чужой тарелки, смешался, прикусил язык, бормоча извинения, поперхнулся, пришлось отшучиваться – опять, мол, кондитерская клептомания, волнуется, теряет контроль, так же, как уже бывало когда-то с Кирой в пустом, декорируемом к Новому году еловыми лапами баре «Астории».
Тогда, под стук молотков, была хоть понятна причина волнения, здесь-то, в гостях, что сбивает дыхание, неужели так пробирает живопись?
Снова приказал себе успокоиться, перестал ёрзать, машинально зачерпнул из розетки варенье, осторожно отодвинулся вместе со стулом от привлекательной тарелки (соседки?), тут же увидел, что вдвинулся в зеркало, и, взятый в латунную рамку, панически сплёвывая вишнёвую косточку, не попал в поднесённую ко рту чайную ложку – косточка покатилась, дробно подпрыгивая, по полу.
Столы сдвинуты, скатерти смыкаются, но ведь и разделены они странным образом, по зыбкой границе; одну скатерть можно потрогать (дана в ощущение), другая – изображена…
Сидят, сверля зрачками, четыре одутловатых, мертвенно бледных болвана с ненастоящими зеркальцами в руках, за ними, четырьмя картинными головами, в настоящем и тоже картинном зеркале – реальный затылок кого-то из тех, кто пьёт чай, сидя напротив, но за этим же, материальным – потрогал – столом; он наливает сухое вино горбоносой, загорелой – коктебельский загар? – женщине, они чокаются, глядя глаза в глаза; он выпивает, она только пригубливает, улыбаясь, ставит бокал на скатерть, заговорщицки прикрывая оставленную вареньем кляксу…
Парадокс возвращал к началу.
Себе на беду сел напротив зеркала, польстился на лишнюю точку зрения – теперь он одновременно и здесь, на чаепитии, и там, в картинном зеркале; рассматривает окружающий мир обыденности изнутри его, из жизни, и извне, из зазеркалья, как будто бы из искусства; взгляд мечется туда-сюда, а он пытается искренне, для себя определить, что именно в нём, этом совместившем две точки зрения взгляде, истинно, однако даже на простой вопрос не может ответить: сколько видит он подстаканников? Четыре, написанные колонковой кисточкой, тускло поблёскивают, как настоящие, на написанной скатерти, ещё четыре – отражённые в ненастоящих маленьких зеркальцах, которые сжимают эти омерзительные типы в своих скрюченных пальцах, итого восемь, и ещё два, настоящие, но отражённые в настоящем – картинном – зеркале; всего, значит, десять, ну а всех вместе, с двумя реальными подстаканниками, с теми которые можно трогать, осязать, вставив тонкий стакан, налив заварку и кипяток, можно даже пить чай, – двенадцать.
Но:
– Илья, передай, пожалуйста, подстаканник, – и нет его больше в зеркале, исчез, словно и не было, осталось одиннадцать.
Что же прочно, надёжно, реально и не зависит от пиратствующих на стыке искусства и жизни сил?
Опять попытка – невольная – с негодными средствами: давайте хотя бы эксперимента ради сделаем по умозрительному стыку разрез, разделим таинственный гибрид на две сущностных половинки, не позволим искусству и жизни смешиваться, пора наконец добиться ясности, заменив противную рассудку хаотичность взаимных перетеканий хотя бы подобием порядка.
Сделали разрез, отделили: на настоящем столе всего два настоящих, старинных, серебряных, хоть завтра в комиссионный – антиквариат дорожает, много дадут – подстаканника; сейчас разливает хозяйка чай, один подстаканник со стаканом достался загорелой горбоносой женщине, её подстаканник – рядом с чашкой Соснина; между стаканом в подстаканнике и чашкой только вазочка со злополучным вареньем.
А вот на столе, изображённом на картине, – четыре подстаканника, тщательно выписанных, внешне неотличимых от настоящих, хотя их не взять в руки, и ещё четыре – их уменьшенные, но не менее тщательно выписанные двойники-отражения в зеркальцах, застрявших в скрюченных пальцах.
Так сколько всего подстаканников, восемь или четыре? Принять ли всерьёз отражения ненастоящих подстаканников в ненастоящих зеркальцах или посчитать фикцией?
Одни скажут, что изображено всего четыре предмета, остальные – это они же, только в качестве отражений.
Другие возразят, что и четыре картинных предмета, и их, этих предметов – тоже картинные – отражения, подчиняясь замыслу и кисти художника, образуют единую композицию, значит, подстаканников восемь и спорить не о чем.
Хорошо, пусть четыре, пусть восемь, а всё-таки, если один из двух реальных подстаканников в реальном, хотя и картинном, зеркале промелькнёт, его как – считать?
Зеркало ведь тоже художник включил в композицию на равных правах со всеми прочими её элементами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































