Текст книги "Пицунда"
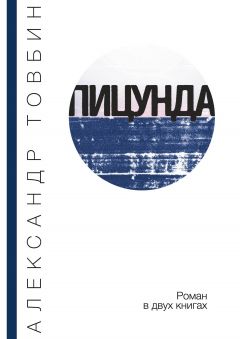
Автор книги: Александр Товбин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
А время летит, летит, вон, Боря-Борух понуро поплёлся свой крылатый катерок запускать, и с Тиминого прогулочного судна тоже склянки вслед за подлодкой бьют, только по-особенному, условным сигналом, и тут же команда бешеной музыкой оглушает про миллион алых роз. Пора отчаливать, народец толпится на палубе, торопится за кровные денежки к дачной сталинской обители сплавать, Мюссерой полюбоваться, где у гэбистов в бывшей даче вождя шикарный санаторий теперь, а окрест – сбегающие к морю ущелья друг с дружкой замысловатою красотой спорят. Пора, пора, но надо допить, доесть, договорить, а там пусть хоть ногами вперёд выносят, ну ещё по одной – и завязали, всего-то по одной… Но профсоюзник, шавка паршивая, своё гавкает, свиньи, хлев развели и ветеранской книжицей потрясает. Воля усмиряет нервного ветерана, обняв за плечи, трогательной сказкой про сбор интернациональной семьи детдомовцев после сорокалетней разлуки. Но пора, как ни тяни вкусную резину – пора, не надышишься перед смертью. Мэри нехотя встаёт объедки сгребать, Баграт, матерясь потихоньку, уже мажет противень вонючим жиром, мол, получите, гады-профсоюзники, раз добиваетесь, по печени канцерогенными порциями. И ещё по одной, только по одной, молит Милка. Ох, банда ненасытно-неугомонная, подхихикивает Воля, в таком цейтноте не те, что надо, концы отдашь… И всё-всё, баста, Тима напружинивается вмиг, стряхивает со штанов пепел, тройной кофе заглатывает и – ни в одном глазу, воскрес, бежит, бежит, застёгивая на бегу китель с шевронами… И тут у него с ногами что-то невероятное начинает твориться, заплетаются кренделями – коронные его штучки-дрючки, сейчас, наверное, бандершу-паникёршу представит. «Держите меня, держите, – заходится Рая, – обязательно он что-нибудь под занавес отчудит, чтобы всем удалось кипятком пописать!» Точно, точно: плечи оплывшие совсем опустил, локотки к чудесно распухшим бокам прижал, как бандерша, вся из себя невинная, в благородном пансионе воспитанная, пальчиками одними отщипнул воображаемую юбку и приподымает подол, чтобы туфли в складках не путались, и семенит, семенит ножками, и задом, задом покачивает, мол, вам-то, благодарные зрители, ещё догуливать, остатки сладкие допивать-доедать, а в моём безупречном заведении пожар с наводнением, спасайся, кто может. (Давненько эти беспричинные пиры отшумели, никого уже из тех, кто пировал за теми сдвинутыми столами, нет, непрочным оказался приморский рай, развеялись все радости, как радужные колечки дыма – поймав кайф, Тима неподражаемо формовал их вздрагивающим приплюснутым носом. Но в снах, которыми меня настигает прошлое, я вижу своих крикливо-развесёлых беспечных сотрапезников там, далеко-далеко, в пятнистых играх теней и света. Они, словно почуяв неладное на пике счастья, тянут руки ко мне, взывают о помощи).
Пресный жизненный опыт не позволяет мне написать о бурях, кораблекрушениях, достойных настоящих романов.
Куда там! Призрак морской болезни следует за мной неотступно, даже мысленно отплыть не решаюсь.
Сижу, наслаждаясь бездельем, у прихотливого сине-зелёного колыханья.
Сижу, смотрю.
Смотрю как море, этот водно-солёный генератор метаморфоз, работает; катит валы, испещряется барашками, переливается красками и лишь ненадолго, выслужив передышку, застывает зеркалом, в которое падает высокое небо.
Но и в истоме тихого отражения пульс неугомонной стихии бьётся в непрочной волнистой кромке.
Обманчиво-послушное, море с лепетом льнёт к ногам, ласкает тёплым солоноватым дыханием, хотя скрытая мощь угадывается даже в сгибах мягких голубых складок, которые непрестанно обращаются в пенный искристый прах.
Переменчивое, необъяснимое.
Жидкий – колеблемый и плещущий – малахит?
Шлифованная сталь?
Рифлёный свинец?
Грозно налетел ветер, нагнал туч, перекрасил день.
Черно-зелёные грузные водные склоны в оспинках начинающегося дождя.
Хмурые рытвины до горизонта, встрёпанные орды седых безумцев…
Гул, рёв, всхлипы…
Остервенело вздыбленное нависание волн над пляжем.
Тяжёлый тупой удар.
Хаотичные буруны пены.
Перестук камней, шипение тянущихся вдоль берега и исчезающих округлых плоских зигзагов.
А в лоснящемся откате каждой новой волны, в студенистой колебательности промежутка между ударами о берег всплывает вдруг и взбалтывается жёлто-серая муть, будто из камбуза судна-невидимки за борт выплеснули помои.
Наутро тихо опять, светло – после шторма как-то по-особенному светло.
Утка-нырок утюжит в нежной испарине бледно-голубой атлас, удивлённо вертит изящной чёрной головкой, ныряет; да, солнечная немота удивления после мрачно-тревожной, нескончаемой канонады.
И чем яснее, прозрачнее дали, тем туманней от счастья мозг.
Опять блаженство, опять ласкают безответственные мысли о рае.
А за спиной – изгибистая линия сырых буро-зелёных водорослей, ломких ракушек, огрызков груш, кусков целлофана, вспыхивающих, как выброшенные прибоем медузы.
Линия, измерившая силу вчерашних волн.
В размаривающем блаженстве наново разгорающегося дня любуюсь переливчатой мозаикой, которой выложено темнеющее по мере углубления морское дно.
И с сожалением думаю: почему не писал я утренних акварелей – лёгких и чистых, окутанных влажной жемчужной дымкой?
И вот я словно пишу их, пишу теперь, навёрстывая упущенное, вторя кистью отдающимся в сознании ударам ли, вздохам волн – море тихое-тихое, это я волнуюсь.
И чем выше солнце, тем богаче палитра, три главные краски – густо-синяя, сочно-голубая, тёмно-зелёная – переливаются в оттенках. Я наношу натёком розовато-тёплое марево над камнями, прерывистым суховатым мазком протягиваю по подкладочному тону воды оставляемый прогалами щетинной кисти искрящий солнечный след; впрочем, я не пишу – смотрю.
Едва шелохнувшись, просвеченная лучами литая толща воды оптически сминает ровную, одна к одной, калиброваную гальку.
И вот уже восстановлена чёткость.
Шарики покрупнее, крапчатые, точно бобы рассыпали сушить под водой…
И ещё крупнее, яйцевидные.
Правильные овалы булыжников.
Смотрю на колеблющееся дно и встречаюсь взглядом с сонмом подмигивающих глаз – больших, малых, плотно сросшихся в распластанный невиданный орган зрения.
Совершенство зашлифованных форм.
Безупречная сортировка.
Переливчатая гамма оттенков; а поверх – весёлая, как взблескивание смальты, игра бликов.
Учусь гармонии, рождённой вдохновенным штормовым хаосом.
Перебираю гальку, как чётки.
Когда смачиваю, естественные цвета проступают сквозь белёсый налёт соли.
Графитно-серые, с изумрудными крапинками, бежевые, коричневые окатыши опоясаны ремешками, оплетены тонюсенькими белыми нитями.
Изукрашенные частицы гремящего единства, живущего в унисон с волнами.
Кидаю один камушек, другой… Их с еле слышным всхлипом проглатывает стекловидная масса, обещая с оказией вернуть на берег.
Гребешок матовой ленивой волны заворачивается бутылочным блеском в испещрённую сверкающими бороздками трубочку.
Волна застывает, твердеет, но – словно нехотя – разлетается в солёную пыль осколков, как брак стеклодува.
Нет, это брызги живой материи!
Опять, опять померещилось, будто, расплескиваясь, полоснул испытующим растёкшимся взглядом зеленоватый холодный глаз.
Набожно склонив голову, вымаливаю прощение.
Уподобления малахиту, стали, свинцу, даже зеркальному стеклу оскорбляют море неодушевлённостью.
В переборе изменчивых впечатлений, к которому сводится львиная доля моих приморских трудов, мне чудится, что передо мной простирается то умиротворённо-плоское, то упруго-мускулистое, напряжённое, а то и разъярённое существо в обширных лишаях пены.
Льнёт, лижет, бьётся в припадочном недоумении полный неизрекаемых тайн лемовский океан, мыслящий и глубокий, изъясняющийся на языке неведомых мне созвучий, утончённых аллитераций, но не способный, несмотря на буйное своё любопытстве, постичь бессчётные человеческие несообразности.
Или озадачен чем-то своим?
Уязвлён?
Волнуясь, торопится выговориться, излить душу, а в него я, праздный зевака, бросаю камни?
Вспоминаю об отрешённости природы…
Только нет ли и у неё, природы, своих горестей, болей, незаживающих ран, к которым я по неведению или эгоизму не испытываю сочувствия?
Не бог весть какой приплод созерцания.
Но нашёптывает, рокоча в ушных раковинах, неуравновешенный морской глас, что жизнь природы со всеми её треволнениями вряд ли замыкается в круговерти материальных обменов.
В духовном смысле она длится параллельно неосознаваемым, но многое в жизнях наших разрешающим контрапунктом.
А так – тихо-тихо в кафе в часы перерыва, ветерок прошелестит листьями плюща или отклеившимся краем рекламного интуристовского плаката, прожужжит оса, пёс со сна тявкнет – и опять тишина. Даже Милка, разомлев на своей скамейке, голоса не подаст, смаривает и её мёртвый час, растянутый на два часа. Тут-то и выпадает Илье писать-записывать без помех, пока не возобновляется гам-тарарам. Если же не в перерыв заходит в кафе и его столик занят, терпеливо прихлёбывает кофе там, где найдётся место, а только облюбованный угол в зелёной тени освобождается, поспешно пересаживается… За набережной соблазнительно выгибается пляж с удушливыми ароматами кремов, лосьонов, гомоном, смехом, а он смотрит на море, на облака, что еле заметно плывут вдали, задевая у горизонта волны; вытаскивает из сумки тетрадку, корябает что-то…
«В юности, когда сочиняют лирические шедевры про страдания молодых вертеров, похоже, упустил время, – изображая печальную задумчивость, вздыхал Воля, – а сейчас сразу в Нобелевку целит эпическим сочинением, мальчонке ведь за сорок уже. Что всё-таки он пишет, зачем? Кто знает, как-никак в свободной стране обречены жить», – провозглашает далее Воля святое право на суверенный бзик. И потом, попробуй-ка уцепись за Илюшкину писанину, когда штатные заводилы ни на миг внимания не отпускают – Милка трясёт, Пат выдрючивается, Воля направленными взрывами остроумия учиняет обвалы хохота, и привычная забава, едва затухнув, тут же заново разгорается – все, кому не лень, друг друга, передразнивая, изображают, на бровях стоят, как расшалившиеся непослушные дети, вот и не задержаться никак на проходном фактике Илюшкиного хоббизма… Ладно, пока не вышел во властители дум, и кто знает, сможет ли заинтриговать своей писаниной, – чай, не новоявленный Сименон для макулатурной серии детектив строчит…
До чего же неблагодарная роль у резонёра собственных начинаний! Мысль юлит, боязливо утыкаясь в маленькие открытия, лишая твёрдости руку. Зрительная память до сих пор позволяет листать страницы с нервными, неровными, как ряды старой каменной кладки, строчками, разгадывать – пусть безуспешно – ребус вынесенной за скобки жизни. Но как же не полюбопытствовать – что он там сочиняет? Избави бог в душу лезть, ни-ни, и про внутренние жжения-тления ни гу-гу, и не кидать же спасательный круг медвежьей услугой, коли Воля раз и навсегда упредил, что в свободной стране всякий сам за себя в ответе… И всё же, всё же – какие правила на курорте, где исключения ключом бьют? Не весь же отпуск бурлеск бушует в Милкиной режиссуре – в антрактах в самый раз дух перевести, задев мимоходом престранный фактик, и конечно, конечно, насмешечки задевали, случалось, поверхность фактика. Как-то на променаде в тихий омут с чертями и эпистолярными признаниями дамам сердца пробный шар катанули, так Воля шар отбил, напомнил, что Илья однолюб, у него с Митькой роман до гроба, – и ответвились в перипетии утончённых натур, в парадоксы морально предосудительных, возбуждённых талантами мужских союзов, перемыли выдающимся гомосекам косточки, а в кафе завернули промочить коллективное, как сказал Воля, горло, так Верико, пусть и своим, а скисшее до уксуса Цинандали со сладенькой улыбочкой налила да ещё по мягкой шоколадной конфетке с гнусной начинкой на тарелку бросила вместо сдачи. Владик дулся, Воля адвокатствовал – мол, торговую службу дружбой с отдельными кудесниками прилавка и кухни в наш жестокий век не перешибить, законы ненавязчивого сервиса беспощадны… А в кафе гудёж, будто саранча кормится, Челентано с Высоцким спорят на голосах. Никто и не заметил, как тематическая нить оборвалась, но Илья не в обиде – рад, что отстали, угощает всех фейхоа, разложил плоды со злополучными конфетами на тарелке, красотища, коричневое с зелёным, удивительную угадал гамму, эстет, молол с полным ртом Воля, а Митька, ненароком на табло глянув, заторопился, поскакал ужинать.
Подвиги героев, жития святых, вечные книги, триумфальные арки, колонны, да-да, памятники времени…
Только к чему это я, словно старый урок перед экзаменом, повторяю?
А-а-а, чуть было не забыл.
Время, самовыражаясь, тяготеет к пышности, монументальности, так… неужели вечна и повсеместна эта показная мажорность?
Мне, однако, всё интереснее – здесь, в прибрежном кафе, да и в курортных его окрестностях – подсматривать за скрытной дегероизацией времени.
И при этом отыскивать стиль, в котором уместно было бы отформовать, к примеру, памятник праздности – счастливому легкомыслию, патологической раскрепощённости как тел, так и умов.
Илья досадует на дырявую память; стоит замешкаться, не занести промелькнувшую картинку в тетрадку – пиши пропало. А Митина память лучше машинной, накопительные и поисковые средства – сверхсовершенные, ассоциативно-автоматические, то, что вдруг понадобилось, по невнятному импульсу ли, намёку из самых дальних углов памяти вытаскивают. Но и тут всё не слава богу, что не надо – тоже вытаскивают, так как накопление опережает критично-поисковый отбор. Раздражает Митю безалаберная избыточность памяти, назойливость бессчётных её подсказок, лишающих мысль манёвра; не может Митя свободно импровизировать, как Воля, так, чтобы для самого неожиданно мысль лилась, расцвечивалась: стопорится фантазия, барахлит какой-то клапан в образном полушарии, и может Митя, копаясь в колоссальном запаснике памяти, лишь перекладывать, перефразировать уже освоенное, известное, не дано ему исторгать дерзкие содержания-откровения. А когда мысль, самоповторяясь, идёт по кругу, это инерционное прокручивание непременно обедняет, затирает язык. Из досадного индивидуального своего изъянчика Митя склонен делать безутешные глобальные выводы, ибо не только мысль нагнетает жизненную силу в язык – язык, органичный и гибкий, по обратной связи напряжённо преобразует и обогащает мышление, а жёваная словесная омертвелость, которой вынужденно пробавляется человечество, навязая в зубах, попусту изводит энергетический потенциал сознания. И говорит, говорит Митя о том, что болит, одно и то же повторяя-переиначивая; ступая след в след за гностиками, Митя не прочь постращать всесилием зла, его движущих, неслышно скрежещущих, невидимых рычагов, тогда как подлинная опасность подстерегает гомо сапиенс в бескровном пассивном слове, которое – нудно ли, ублажающе-приятно, не суть – мельтешит изводящим жизнь агентом энтропии. «Слова, слова, слова, вот бич», – выпаливает Митя, давая в то же время понять, что личный его порок тавтологии, пусть и обязанный главным образом гнусному генетическому выпаду в игре бездушных случайностей, при всём при том является и объективным симптомом хронического общественного недуга, так ли, иначе, но неуклонно усугубляющегося то густеющими, то разжижаемыми выбросами словесной невнятицы, которая на каком-то этапе деградации мышления и языка уже начинает моделировать по собственному бесформенному подобию самую жизнь, угрожая уже не только духовному здоровью индивида, не только изящным искусствам, но и полноценному бытованию всей культуры. Почему греки числили персов варварами? В переводе варвар – это безъязыкий, но разве у персов не было языка? Был! Была замечательная поэзия, но персы не знали артикулированного языка общественных и межличностных отношений, что в итоге их погубило… После искрящего этого пассажа, не больно-то связанного с предыдущим и не спещащего ухватиться за растрёпанный хвост последующего, Митя, теребящий на курточке молнию, явно озабочен внутренними разрывами, лакунами, которые превращают его сознание в несусветную рвань. Он, силясь сшить расползающуюся материю, поспешно накладывает освобождённые от смысла слова в качестве швов, заплат, творит иллюзию целостного высказывания. «О, можно говорить, говорить… с проглоченным языком», – как бы демонстрируя порок в действии, гордо, хотя и не без иронии провозглашает Митя, искренне досадуя, поносит последними словами природный изъян и мазохистски наслаждается утаиванием или даже исчезновением смысла, лелеет искусство обращения чего-то значимого в ничто, бог знает как прививающее тёмному, логически непросвечиваемому излиянию высокие свойства текста, превышающего себя. А поймав недоумевающую искорку в ублажённом говорениями взгляде Ильи, не медля затмевает её ответной белозубой улыбкой, внушает, как на гипнотическом сеансе, что есть, есть престранные прозаические опусы, бесценный смысл коих не постигать надо, тужась умом, – бесполезно! – а чувствовать как поэзию. Тут Митя ухватывается, наконец, за пассаж, который бесформенно маячил-поджидал впереди, и многозначительно на миг замолкает, дабы и в необязательном понимании молчаливого собеседника всё же кое-как уложилось, что многословная безъязыкость равно чревата как для обделённого, отдельного индивида, чей незавидный жребий именно он, Митя, волею судьбы вытащил в этой жизни, так и для всей погрязшей в бескультурном самодовольстве общественности.
Впрочем, недолго предаётся Митя эсхатологической панике, и не похоже, что жестоко комплексует, завидуя лёгкой Волиной импровизационности. Не в Митином духе на своих изъянах всерьёз зацикливаться – попрыгунчик, летун, ему лишь бы перемахнуть через еле ощутимый, больше ему, нежели другим, досаждающий затор образного мышления – ускоряясь, самостийно-напористый, чрезмерный, как всякая стихия, речевой поток несёт-волочит, что попало, подмешивает, сгущает и угрюмую философичность, и тоску новороманистов… Бывает даже, обгоняя лишними словами отставший, так и не обретя метафорической ёмкости, смысл, поток вовсе вырывается из логического канала, разливается неудобоваримой информационной перенасыщенностью. Так, по крайней мере, Илье мерещится, когда захлёстывает, а отфильтровать, усечь, что к чему, не пускает собственная рассеянность. В общем, если Митя и упивается самобичеванием, то делает это не без кокетства, ожидая как бы, что минусы, которые он себе ставит, Илья по доброте душевной переправит на плюсы. Да и весёлый Митин нрав, эмоциональность страхуют от долгой и безнадёжной сухости – архив не нужных никому сведений, этакая волнительная свалочка, подтрунивает Митя над своей памятью, вздыхает, что хоть и прыгуч отменно, а не дано выше головы прыгнуть, и опять-таки нет как нет чувства формы, и опять же способности быстрые поисковых средств превышают сноровистость компоновки найденного. Митя силится раскачать приторможенное барахлящим клапаном образное мышление, а попутно не отказывает себе в удовольствии свалочку переворошить – неугомонность эта для него вроде тенниса, беготни. Владика с Гешей, как ни пыжься, не перебегать, но старается; так и тут: нулевые шансы выправить природный огрех и с Волей как увенчанным болтуном сравняться, но почему бы не попробовать? И дерзает Митя, запускает в курортный обиходец игру, витиевато названную им подключением к токам чужих сознаний, превращает в умственные разминки пародирование других, перво-наперво вызов бросая Воле.
И продлевается достоинством недостаток – затруднена на свои, выношенные темы импровизация, так проклёвывается в Мите искуснейший имитатор. Легко переняв Волину манеру интонационных нажимов, спадов, пауз, вряд ли подчиняет Митя чужой говорливый опыт решениям каких-то чётких внутренних задачек самоусовершенствования – заводится на радость компании, подключаясь к озорному обезьянничанью, каким грешат начинающие актёры, готовые окарикатурить первого встречного. Ну а Воля, благо образное его мышление ничем не ущемлено, а язык без костей болтается, проворно поднимает перчатку, запевает Митькиным баритоном византийские стихи или что ещё подходящее из его онаученного репертуара, и понеслось! В один прекрасный денёк облетает кафе мягко-протяжное Тимино геканье, хотя Тиму уже часа два как благополучно раскачавшееся море мотает в рейсе. Валян к новенькой игре приноравливается, сам же Тима, приплыв, гениально копирует скороговорочки Владика, елозит по гогочущим физиям шаловливыми глазками, потешно вскрикивает высоким срывающимся голоском, будто бы кукарекает – ка-ра-ул, ка-ра-ул, а, Владик? О, Владик-имитатор долг не задерживает, в Тиму перевоплощается и басисто врубает по корабельной трансляции: «К северу от чудесного мыса, на котором рекордно быстро благодаря заботам партии и правительства вырос этот комфортабельный красавец-курорт трудящихся, поднялись также не менее комфортабельные дома творческой интеллигенции – писателей, журналистов, кинематографистов» и в микрофон громоподобно откашливается. «Ой, рехнёшься с вами», – беспомощно машет белой полной ручкою Рая, не рабочее место теперь у неё, а бесплатный театр, умора! Бойко обмениваясь ролями, каждый, кому не лень, представляет теперь, что бы кто мог сказать, рассказать, ответить. Постепенно игра-забава соскальзывает в становящуюся привычной мешанину голосисто запутанного вещания, не разобрать, кто есть кто. «Долой индивидуализм, да здравствует коллективная мысль, коллективный язык, будущее за выразительным синтезатором сознаний, за слитным хором голосов, присутствующих друг в друге! – восклицает Воля и приосанивается, подкручивает усы Мите, обнимает за плечи соратников, сплачивая их в могучую киногеничную кучку, словно пробил исторический час и на них всех, усталых первопроходцев, наезжают учуявшие сенсацию телекамеры. – Перед вами, – срывается на крик Воля, – экспериментальное содружество мифологических героев новой плеяды, мы мыслим и, стало быть, существуем сообща, как многоголовая гидра…»
И почему-то в разгаре этих гоношисто-шумных веселий, рождённых коллективным изустным творчеством, припоминается всегда Илье популярнейшая Митина затея далёких школьных лет, когда они были одноклассниками, – затея, скрасившая скуку стольких уроков сочинением на маленьких, с записную книжку, страничках бессюжетных рассказиков. Митя, глядя в потолок, зачинал, следующую фразу кропал другой, Толька Шанский к примеру, третий, пусть Валерка Бухтин-Гаковский, ходко развивал написанное по своему разумению, четвёртый, допустим, Антошка Бызов, резко обрывал или поворачивал сюжет, чтобы загнать в тупик пятого, того же Илью хотя бы… И так, порхая с парты на парту, расцвечивалась загадочными смысловыми оттенками увлекательнейшая абракадабра. Но на этом Митя не успокоился – укрупнил жанр и, превратив рассказики в главы, втянул в сочинение огромадного р-р-ревелюционно-безоглядного романа и соседние классы. Бывало, не в перемену даже, а – для нагнетания риска – во время опроса или контрольной опасно путешествовала в уборную испещрённая чернильной тайнописью очередная страничка, чтобы дождаться в щели за слезливым бачком над унитазом курьера параллельного класса, где должны были позаковыристей гнать свою главу, которую затем тем же путём, симулируя рези в желудке, надо было, не мешкая, переправить для продолжения в параллельный класс. И хотя Илья по обыкновению посвящал уроки машинальному рисованию рожиц на ворсистых розовых промокашках, его тоже не миновало участие в захватывающем Митином начинании. Выходило, как ни отверчивайся, что давным-давно, ещё и близко не познакомившись, они, оказывается, были уже соавторами одного текста.
Странно сошлось здесь всё, в одном месте.
Учащается сердцебиение, расчищаются перспективы; дремал весь год и вдруг – пробуждаюсь.
Странно, именно здесь сошлось… Даже лес, горы манят, а не отталкивают.
Хотя здешняя роща – лес редкостный, почитаемый как святыня: монументально-лепные сосновые космы – знак сказочного, вечного леса, стволы все наперечёт, с номерками на жестяных, вдавленных в кору бляшках.
А горы…
Изогнувшаяся над бухтой оснеженная гряда-хамелеон – виновница приступов головокружения как поставщик разреженного чистого воздуха.
Как символ недосягаемости.
Искал уединение, тишину.
А нашёл сомнительный уголок, где разгулялась цивилизация.
Ничего себе творческая обитель, фи!
Попробуй-ка накатай что-то стоящее на модном курорте, примелькавшемся на рекламных плакатах, открытках, в телевизионных сводках погоды…
Вот она, сквозь поредевшие карминные соцветья, цепочка клетчатых корпусов с – пошловатыми, как грузинские кепки-аэродромы, – козырьками, пририсованными к верхушкам коробок непритязательной посохинской цангой.
Жалкие на вид – картонные? – корпуса, карточные домики эти, не убрать.
Даже зимний свирепый шторм, как ни бился, не смыл картонно-бетонную накипь, накрепко вросли корпуса в каменистый мыс.
И рекламный синий плакат, тот, что красуется над прилавком, где торгуют мороженым, размножен, расклеен повсюду, зовёт всех приехать и насладиться.
Кичливая праздность.
Толчея у касс удовольствий.
А я пишу здесь – такая вот, уценяющая мой пантеизм, блажь.
Булькает питьевой фонтанчик.
Трутся боками, мотаясь вверх-вниз у причала, горластые катера.
За рваным окном в подвижной стене плюща пестрит набережная.
И пальмовые листья блестят, как связки стилетов. О, даже истоптанные, занюханные тропики фантастичны! Как понятно мне здесь, даже в этих довольно-таки жалковатых субтропиках, волнение таможенника Руссо!
Буль-буль-буль… хрустальная струйка.
В грубо сколоченных ящиках вянут мохнатые, так и не распустившиеся бутоны.
Округло-перепончатые, уже окаймлённые охрой листья накрывают опавшие огневые толстые лепестки – южная герань догорает.
Обрамляющие кафе цветочные ящики из года в год те же, их лишь перекрашивают к началу сезона в тёмно-зелёный цвет.
А вот мебель…
Отжили свой век большие столы с потрескавшейся, отслоившейся тут и там фанеровкой, глубокие, тяжёлые, с искромсанной кожемитовой обивкою кресла на тонких железных ножках.
Где они?
Сбежав с холстов Дюфи, уже белеют в кафе шаткие круглые столики, субтильные дырчатые креслица.
Не хуже, чем на прочих Ривьерах.
Да ещё над пластмассовой мебельной штамповкой повисло топорное, залицованное чёрным металлом электронное чудо-юдо, вздрагивающее, точно живое существо, при перемене минуты, градуса.
Вокруг пьют, жуют.
Но мне хоть бы хны: безразмерный роман вспухает…
Есть в моей привязанности к этому общепитовскому творческому Эдему что-то постыдное.
Вот если бы засесть в какой-нибудь высокогорной глубинке, да ещё чтобы снежная лавина отрезала пути к отступлению, тогда бы выносилась настоящая книга.
Или вести бы дневник, набираясь животворных народных баек и живых впечатлений, на диком северном бреге, бриге, затёртом льдами, и прочая, прочая.
Похвально было бы очутиться и в срубе вовсе невзрачной, трогательной до озноба заброшенной деревеньки – в горемычной затерянности средней полосы, в берендеевских чащах с глухариными токованиями, у утиных заводей мещерских озёр, болот; осесть бы в глуши, писать-страдать, кропя бумагу слезой, душещипательно, как другие…
Да хоть и у себя дома примоститься бы с тетрадкою где попало – и то достойнее пошло бы дело; кстати, был бы и блёклый залив в стекле, ржавые доки.
А я расписался здесь, в эпицентре курортного китча.
Нелады со вкусом?
Или в другой разок, когда Илья по привычке бумагу марает в своей тетради, подсаживаются всем кагалом, мирно базаря. Тут и Тима, точно по вредному заказу, причаливает усталость снять после рейса, китель угрожающе расстёгивает, глазки выкатывает, приглашает честной народ скромненько, без фанфаронства, коньячком обмыть доблестное перевыполнение экскурсионноге плана. И покоряет компашку, как всегда, Тимино располагающее радостное радушие. Уже и сумерки ложатся на плечи мягкой лиловой шалью, сигареточные торчики ало вспыхивают, румяня лица, и вот уже разом – электричество врубается, вот уже закачались, дробясь, лампы, фонарики в жидкой смоле у полукружия берега, и закрадываются световые чешуйки в листву, и теплятся квадратами лоджии, и цветисто-едкая неоновая рекламка задрожала и дрожать будет до утра над крышей «Руна», обведённой тонкими стеклянными сосудами-трубочками… И кажется, что снаружи, в чёрно-лиловых бархатных сгущениях вечера, мельчают, удаляясь, эти огни, а кафе – иллюминированная палуба вожделенного круизного лайнера, а все мы – вытянувшие счастливые билетики пассажиры – плывём, плывём, целя в расколотую морской рябью луну, бездумно, но сплочённо плывём, под хмельком, сквозь музыкальные всполохи, и Тима-капитан за штурвалом лайнера, и прощальным маячком подмигивает нам с верхотурки «Руна» бар Элябрика… Не маячком – бардачком, посмеивается, почёсывая исполосованную тельняшкой грудь Тима: наверное, на Элябрика зуб по-прежнему точит, как-никак из-за него погорел, сгубил карьеру. Или, может быть, в глубине прещедрой души лишь слегка завидует нарастающему успеху везучего малого? Успехи Элябрика на устах у всех, завидущих: недавно вот итальянскую машину гоночных форм обкатывал, пускал пыль в глаза на самом широком участке сухумской дороги между гагринской и пицундской развилкой и поворотом к Рице. Вот и разъехидничался безлошадный Тима, про степенных гаишников в чинах травит, которые движение услужливо перекрыли, пока Элябрик к рулю и тормозам привыкал. С двух сторон пробки, а он гоняет туда-сюда, сверхсильный двигатель ревёт по-самолётному, ошпаривает прижатое к скалистому склону стадо реактивной струёй, сенсация светской хроники. Милка кивает – шикарную, хоть в ретрокино снимай, подружку гонщика изображала – и кутается в просторную шерстяную кофту. После сидения на солнцепёке бьёт её жестокий озноб, зуб на зуб не попадает, дробь вместо слов, вот она и изъясняется, как немая, кивками, пожиманием плеч, взмахами рук. А Воля её мимику и жесты озвучивает подробностями. И луна уже блещет где-то высоко-высоко, и ты, слушая и уже ничего не слыша, выплываешь из этого наэлектризованного вечернего уюта в долгий, впитавший столько тепла и света день.
И годы-сезоны облетают, как листья… Сколько минуло – семь, восемь или десять уже? Не заметил, как разменялась ещё десятка, да и не было, не было причин замечать, от тридцати до сорока всего, всё впереди, путы быта пока не впились, шагаешь бодро, размашисто, вперёд, вперёд, дыша полной грудью, да так, что рёбра потрескивают. И мнится, что вот-вот сбудутся-прояснятся обещания детских снов, не впустую тратишь решающее десятилетие, обживая уникальный уютный уголок, который выгородил для себя в мироздании. А время, конечно, летит, свистит, как обманно освежающий, хотя недобрый, конечно же, ветерок, но, слава богу, где-то вроде бы сбоку и мимо летит-свистит – щадит, не остужает наивного пыла каверзный сквознячок, не спешит отнять надежду на чудо встречи со смыслом жизни. Нет, нет, ты весь во власти преувеличенных ожиданий, всё ещё бодрящих желаний, ты по-дурацки упоён предстоящим, вперёд, вперёд, а глаза застилает инфантильно-счастливая синева неведения, унаследованного у юности! Под инерционными наплывами грёз ты не замечаешь, что перерождаешься, что гены развёртывают рутинную программку старения, а судьба подводит наклонную плоскость под ноги, этакий невидимый пандус: на него лишь остаётся ступить. И ты, быть может, даже ступил уже на него и скользишь, скользишь к уготованному концу… Однако абстрактные страхи пока не трогают разум, ты словно наглотался веселящего газа: беспричинно захлёстывают если и не подлинные восторги запоздалых щенячьих игр, то хотя бы свежие ещё воспоминания о них, пьянящие, как школьная вечеринка в складчину, где ты, раздухарившись, долдонишь искромётные спичи. И конечно, эта весёленькая вспышечка доверчивой велеречивой глупости льстиво облучает тебя именно здесь, в заповедной солнечной бесконфликтности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































