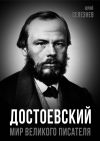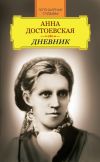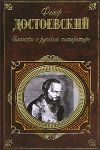Текст книги "Пророк в своем Отечестве"
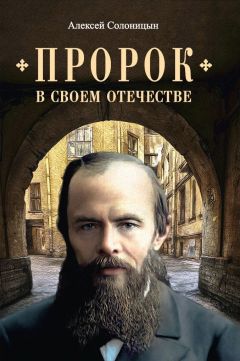
Автор книги: Алексей Солоницын
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Глава третья
Двадцать пятое января. День. Александр Баранников
Полковник Никольский раскидывался то на диване, то в креслах, ходил по комнате – вообще, чувствовал себя как дома. Даже приказал чаю, сушек, похрустывал ими, предлагая тем же заняться и Александру. Полковнику очень нравилась беседа с «просвещенным коммерсантом», и он, оказывая расположение «новому приятному знакомству», стал рассказывать о некоторых обстоятельствах своей службы, чтобы «не скучно было, пока мы проведем выяснение».
Александр, однако, не слишком поддерживал беседу, понимая, что полковник просто тянет время: видимо, он располагал сведениями, на которые крепко рассчитывал. По крайности, выяснение личности Александра очень входило в его планы, иначе он не держал бы его здесь битых три часа.
Полковник Никольский уже знал, что Григорий Иванович Алафузов действительно живет по Ямской улице, в доме на углу Кузнечного переулка, и что он приехал из Ставрополя как будто бы по коммерческим делам; но уж больно не хотелось Никольскому останавливаться на поимке одного Фриденсона, когда клюет вовсю и рыба ловится, – опыт жандармской службы подсказывал ему это.
Очень занимателен молодой элегантный господин: как-то легко отвечает на все вопросы и способен поддержать любую тему в разговоре. Именно такой господин как раз и может играть очень серьезную роль в тайной организации. А если так, то тут без крупного выигрыша никак не обойтись. Ах, награды, награды! Ну почему они всегда так притягательны?
Но не в них одних дело: во всю свою службу полковник всегда чувствовал себя прежде всего патриотом, слугой царю и Отечеству. Да и нравственные принципы: ну как эти фурьеристы[19]19
Фурьеристы – последователи, приверженцы коммунистического учения Фурье, утверждавшие, что только при свободном проявлении человеческих страстей возможна гармония в мире. См.: Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / Под. ред. А. Н. Чудинова. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1910.
[Закрыть] смелее высунут головы? Эдак ведь покачнут основы самой добродетели и морали; для них даже царя убить – вроде как геройство совершить, тогда как это есть самая тяжелейшая преступность…
Как человек практический, полковник Никольский полагал, что с обыском у Алафузова тянуть нечего. Только всё надо сделать аккуратно и тихо, скрытно. Чтобы рыбку не спугнуть. Вот почему пришлось выжидать и маневрировать, развлекаясь с задержанным разговорами, чтобы квартирку его в это время очень внимательно посмотреть.
Посмотрели, ничего путного не нашли. Однако взяли фотографии. Теперь их предъявляют в Петропавловке – глядишь, кто-нибудь и скажет, что за фрукт этот Алафузов…
Да, однако всё надо делать быстрее. Этот молодой человек уже намекал, что у него есть знакомства значительные, могут взгреть за то, что задержал… Впрочем, всё скоро разъяснится – надо быть терпеливее…
– Вот вы, Георгий Иванович, живете рядом с известным писателем, – рассуждал Никольский. – Надеюсь, поддерживаете с ним отношения? Ну, разумеется, без всякого там амикошонства[20]20
Амикошонство (от фр. ami – друг и cochon – свинья) – чрезмерная фамильярность, бесцеремонность в обращении.
[Закрыть], а так, с почтением и для душевного комфорта… Нет, я понимаю, они народ чрезвычайно занятой, однако и не без фраппировки[21]21
Фраппировать (от фр. frapper – бить) – неприятно поражать, удивлять, ошеломлять.
[Закрыть] общества. Представьте, буянят иногда, что называется, при всем честном народе… Один газетер в ресторации мамзель укусил. Но я не о том веду речь. У нас, знаете, сюжеты! Вот бы господам писателям к нам пожаловать и поглядеть. Впечатлений-то! Иначе, Георгий Иванович, создается мнение, что как бы из пальцев высасывают… Вы не согласны?
– Я не писатель, господин полковник. Что до сюжетов, то ведь есть же и газетные отчеты.
– Не то, не то, – замахал руками Никольский. – Отчеты к публикации просматриваются… и очень основательно. Хотя кое-что просачивается, разумеется. Но в самом общем виде. Вот, например, дело Григория Гольденберга… Не знакомы?
– Так, читал кое-что.
– «Кое-что» – это вы хорошо заметили. Именно так у нас и знают. А вот я сейчас подробностей вам подсыплю, и крайне занимательных. Потому что вы мне нравитесь, Георгий Иванович. Да и должен же я вас отблагодарить хоть как-то за то, что вы помогаете нам в деле государственном. Хотя для вас и утомительно сидеть здесь со мною…
– Беседа с вами – занятие приятное, однако есть и дела. Я вам уже говорил, что у меня необычайно важное свидание и отменить его никак нельзя.
– И не отмените, любезнейший Георгий Иванович. Вот вы послушайте мою поэму, и будете ее потом часто вспоминать. Благодарить даже, может, будете, – сказал полковник неожиданно серьезно и веско. – Хотя, разумеется, я никакой не поэт и даже не претендую, – опять продолжил он с оттенком шутовства. – Но суть, суть интересна, как я думаю, чрезвычайно. Итак: киевский купец второй гильдии – отец нашего героя. Семья немалая – шестеро детей у купца Гольденберга, а сверх того еще и приемная дочь Фишман. Факт показательный: то есть человек добр, коли берет еще и приемную дочь к шестерым своим деткам. Крещеный, со своей национальностью порвал. То есть порвал в смысле религиозном, и никак больше. Дело у него идет довольно хорошо, детки растут, надежда и опора стареющих родителей; представьте, с каким трудом этим-то родителям приходится держать дом в Киеве и выводить деток в свет Божий. Особые надежды они возлагают на сына Григория – он, кажется, удался: и собою хорош, и манерами, и осанок несколько приличных успел где-то схватить. Одним словом, надежда. И что же эта «надежда»? Да вдруг фраппирует наповал и отца, и мать. Втекает, как ручеек, в реку этого «нового поколения». Вы извините меня за слог, Георгий Иванович, но я обещал поэму – потому и стараюсь. Одним словом, становится революцьонэром!
Александр много знал о Гольденберге. Делая крайне заинтересованный вид, он вглядывался в глаза жандармского полковника, стремясь скорее понять существо «поэмы».
Глаза у полковника карие, довольно крупные, и, когда он закруглял фразу и поднимал бровь, в левом глазу вспыхивала искра – вроде как он сигнал подавал: вот, слушайте, это необыкновенно важно и имеет для вас последствия.
– Представьте, дорогой Георгий Иванович, действует Гольденберг с большим мужеством и хладнокровием. Убивает князя Кропоткина и скрывается с совершенством виртуоза. Ну, это вы знаете. Однако след его случайно обнаруживается на елисаветградском вокзале. По пустяковому подозрению он задерживается. Гольденберг сопротивляется отчаянно, отстреливается, но всё напрасно! И всё из-за чемодана. Потому что там знаете что было? Не знаете? Нет, не прокламации, а взрывчатое вещество!
Об этом Александр знал слишком хорошо…
Полиция, схватив Гольденберга, переправила его в Одессу.
После взрыва 19 ноября под Москвой внимание к Гольденбергу стало особенно повышенным – полиции казалось, что именно Григорий даст самые нужные показания о Льве Гартмане[22]22
Гартман Лев Николаевич (нем. Hartmann; 1850–1908) – русский революционер-народник, заграничный представитель партии «Народная воля».
[Закрыть], которого полиция считала инициатором взрыва.
Начальнику Киевского жандармского управления Новицкому удалось установить личность задержанного на елисаветградском вокзале. В этом ему помог купец второй гильдии Гольденберг, отец Григория…
– Тут и есть самая интересная часть поэмы, Георгий Иванович. Отец пытается спасти сына, наставить его на путь истинный. Увы, не удается! Сын упорствует, чем отягчает страдания отца. А детки-то его остальные, детки! Представьте, все они до единого, включая приемную дочь Фишман, стали революцьонэрами! Каково? Ну не сюжет ли для вашего любимого писателя Достоевского? Я, когда читал у него про этих флибустьеров, как он их называет, прямо восторгался. Хотя, признаюсь, страшновато. Уж очень он их выставляет… с подробностями. Это лишнее, особенно про кровь. И главное, без противовесу. Вы согласны?
– Не совсем, – ответил Баранников.
Он прошелся по комнате и как бы случайно глянул в окно. Внизу, у подъезда, стояла коляска. Два жандарма о чем-то переговаривались, довольно оживленно, даже с жестами.
– Федор Михайлович большой психолог и легко может обвести нас, бедных читателей, вокруг пальца. Может, например, дать дурных качеств человеку с хорошими убеждениями. А у кого же дурных наклонностей нет? Можно их выставить как карикатуру… Понимаете? Например, взять хоть и вас, жандармского полковника, и изобразить в комическом виде, тогда как вы человек явно хороший. Вот и получится, что жандарм – эмблема ретроградности.
– Позвольте, да кто ж ему это разрешит?
Полковник встал и тоже подошел к окну.
– Вас что-то заинтересовало?
– Разумеется. Что это они там актерствуют? Ладно, пусть их. Так как же, полковник: может человек с хорошими убеждениями сам по себе быть плохим? И наоборот: у хорошего человека могут быть скверные убеждения?
– Ни в коем разе! Кесарю – кесарево, а Богу – Богово.
– Ну, значит, вы невнимательно читали Достоевского… Однако что же ваша поэма? Вы, кажется, остановились на полдороге?
– О да, многое еще впереди, – сказал Никольский, размышляя, «клюнуло» или «не клюнуло». В том, что у «Алафузова» богатые и родовитые родители, он ни капли не сомневался. Возможно, именно через них и придется действовать. Понял ли это сыночек? – Отец Гольденберга очень помог нам, но не во всём. Вот ваш Достоевский совсем не знает методу, особенно новейшую, сыскной работы…
– Позвольте, почему «мой Достоевский»? Мы просто соседствуем.
– Это я к слову. А надо бы ему знать: очень глубокие психологи случаются среди нас, то есть государственных людей. Ну что такое этот… как его… ну, в романе о преступлении, где студент старушку кокнул… Да, Порфирий Петрович, совершенно верно. Козявка какая-то с претензией. Хотя и не без способностей, но козявка, согласитесь. Другое дело Одесского военного суда господин Добржинский[23]23
Добржинский Антон Францевич (1844–1897) – российский государственный деятель, действительный статский советник, директор Департамента полиции в 1896–1897 гг. В числе наиболее громких дел, которые ему доводилось вести, – дело террориста-народовольца Г. Д. Гольденберга – убийцы харьковского генерал-губернатора Д. Н. Кропоткина. Удостоверившись в неэффективности силовых методов воздействия, Добржинский сумел обманным путем убедить Гольденберга дать показания, в которых последний подробно описал биографии, личные качества и приметы всех известных ему 143 членов «Народной воли», что позволило царскому правительству развернуть охоту на них.
[Закрыть]… Не слыхали?
– Нет, не слыхал, – сухо ответил Александр, поняв, куда теперь клонит Никольский.
Добржинский сыграл свою роль артистически, ничего не скажешь, – об этом Баранников знал. И в самом деле надо быть незаурядным психологом, чтобы человек, попавший в твои сети, до самого смертного часа не видел этого, а верил тебе, как другу. Антон Францевич сумел изобразить из себя крайнего либерала, чуть ли не борца за идею, лишь по обстоятельствам, «пока» служащего царю. Он понимал, что Гольденбергу надо выговориться, хотя бы и здесь, в тюрьме, и показать, что он – герой. Была у террориста склонность к эффектной позе, и этим Добржинский воспользовался блестяще. Постепенно Гольденберг доверился ему полностью. В потоке речений он стал называть имена, факты. Добржинский всё туже затягивал сеть и всё ближе подтаскивал к себе жертву. Григорий привирал, фантазировал, но Добржинскому теперь нетрудно было отличить правду от вымысла. Гольденберг запутался окончательно. Его предательство оказалось беспримерным.
– Ну, а как закончил он, надеюсь, вы знаете? – спросил Никольский.
– Кажется, повесился?
– Именно повесился, как Иуда. В камере. Однако оставил тетрадь – называется «Исповедь». Знаете, Георгий Иванович, стилист он неважный. И психолог неважный. То есть с точки зрения его собственного рассуждения… А вот что касается описания поведения окружающих людей, фактов… Вы меня понимаете? – опять спросил полковник чрезвычайно серьезно.
– Вполне. – Баранников закурил и сел в кресло.
«Надеется, что я изложу все факты сразу, чтобы потом не мучиться и не вешаться в камере», – подумал он.
В комнате появился жандарм, и Никольский вышел с ним в коридор. Вернулся всё с тем же серьезным видом, теперь, правда, даже несколько торжественным.
– Пора нам ехать, Александр Иванович, – сказал он. – Не подскажете ли куда?
– Разумеется, в ваше жандармское управление, – спокойно ответил Баранников.
– Что же вы не спросите, откуда мне известно ваше имя-отчество? – Никольский с нескрываемой насмешкой смотрел на Баранникова.
– Да чего же тут ставить вопросы? Дело нехитрое; мою фотографию вы предъявили провокатору, вот и всё. А фотографию взяли в моей квартире, пока мы тут с вами поэму слушали. Как там самочувствие вашего подопечного?
– Хитро, господин Баранников. Хотите, чтобы я назвал фамилию и таким образом попался к вам на крючок? Вы же не знаете, кто с нами сотрудничает.
– Если и не знаю, то скоро узнаю.
– Любопытно.
Никольский пропустил Баранникова вперед и грозно сказал жандарму:
– Наблюдать скрытно и вдумчиво! Никаких лежек на диване, никаких отлучек!
– Мы люди опытные, ваше превосходительство, – вяло ответил немолодой уже жандарм с усталым и обрюзгшим лицом.
Другой жандармский пост Никольский оставил в квартире Баранникова.
Глава четвертая
Двадцать пятое января. Ночь. Федор Достоевский
Наконец-то наступила желанная тишина. Горят свечи, от их огня на просторный стол ложатся светлые круги, белеет стопка бумаги, темно-вишнево отливают корешки книг, чай хорошо заварен и горяч.
В такие часы пишется лучше всего: ничто не отвлекает, мысли как бы стекаются в одну точку, и перо начинает быстро бежать по листу. Тут надо только поспевать, отделать и обточить можно потом, а теперь, пока голова ясна, надо писать, писать, писать! А то болезнь налетит, молниевой вспышкой осветит всего тебя изнутри и бросит оземь и начнет выкручивать каждую твою клетку, каждый мускул. Измочалит, истреплет, отпустит…
Последнее время, правда, припадки случаются редко. Но вот когда боли другие, ничтожные, отвлекают и раздражают, когда чай кажется спитым, чернила жидкими, листы корявыми (с пятнами даже попадаются), тогда хоть караул кричи. Вроде бы мешают мелочи, глупости, а из них складывается настроение. Если же хорошо всё сошлось, глядишь, настроение такое, когда ты способен выразить всё, что пригрезилось. Из пустоты вдруг выйдет целый характер, а то заговорят, затараторят сразу множество людей, и получится большая, шумная и совершенно живая картина.
Чаще всего ему приходилось силой вгонять себя в такое настроение, чтобы работа шла. И хотя тысячу и один раз казалось, что ни за что не добраться до конца, ни за что не справиться с тем, о чем начал писать, он всё равно брал в руки перо, в каких бы ужасных, порой даже чудовищных положениях жизни ни оказывался.
Бывало, одна глава печаталась, другая шла по почте в журнал, третья только писалась, а чем всё должно было завершиться, он и сам знал только в самых общих чертах; но надо было торопиться, торопиться, потому что в деньгах нужда была каждый день. Где уж тут до отделки, шлифовки, когда деньги, полученные вперед, уже были истрачены и жить было совершенно не на что. Оставалось надеяться только на следующий аванс от издателя, и об этом авансе, часто ничтожном, приходилось молить чуть ли не на коленях.
Да! Просил же однажды в письме пятнадцать рублей у Краевского[24]24
Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – русский издатель, редактор, журналист, педагог; известен как редактор-издатель журнала «Отечественные записки».
[Закрыть]. О, если бы он располагал достатком, как те литературные баре, которые бранят его за хаос, за неотделанность слога, такой ли еще силы достигли бы его книги, какая, несмотря ни на что, в них есть?
Да что такое эта обточенность, это ювелирство?
Глядишь, обточено, со всеми онёрами[25]25
Со всеми онёрами (устар. шутл.) – со всем, что полагается, со всеми полагающимися принадлежностями.
[Закрыть] сделано, а вышла лишь искусная вещица. А он сознательно и всегда боялся именно вещиц и хотел, чтобы сама природа, сама стихия бились бы, как острые камни, друг о друга, – вот тогда во всей шири и покажут себя характеры русские…
Теперь надо писать новый роман – наверное, последний. Героем будет самый любимый, самый дорогой сердцу человек – Алеша Карамазов.
Он считал его как бы действительно живым и именно родным человеком. Как раз Алеша жизнью своей должен доказать, что думает он, Достоевский, о новом поколении и судьбе России.
Так, и никак иначе. Ведь они, эти мальчики, давшие клятву на могиле Илюшечки[26]26
Имеется в виду заключительная глава романа «Братья Карамазовы».
[Закрыть], – Коля Красоткин, все его товарищи, Алеша Карамазов, – и есть новое поколение; куда пойдут они, такою и станет Россия.
Вот замысел: будущее России и назначение ее среди всех народов мира.
Пора бы приступить к роману, но есть еще «Дневник», его тоже не хочется оставлять – есть возможность сразу говорить по самым главным вопросам дня. Никто не верил, что «Дневник» у него пойдет. Как так: вместо целой редакции разговор ведет один писатель. Да будь он семи пядей во лбу, прискучит с первой же книжки!
Однако не прискучил, подписка на «Дневник» растет… Первая книжка «Дневника» на этот год закончена (с цензором только уладить!). Можно готовить план романа.
Федор Михайлович прошелся по комнате, присел в деревянное, без обивки, кресло, стоящее у стены. Кресло это нравилось ему своими узорами: спинка была сделана резными кругами, а над ними – обрамление в виде русского девичьего кокошника. Вот ведь: простое кресло, а не назовешь его вещицей; скажешь – кресло, потому что сработано оно уверенной, мастерской рукой.
Он прислушался: показалось, кто-то ходит рядом.
Анна не спит?
Но шаги как будто другие, не женские шаги, хотя и осторожные…
Или почудилось?
Он подошел к двери, приоткрыл ее. Тихо. Взял свечу и неслышно, как он умел, пошел по комнатам.
Анна спит. Спят дети – дочка Любочка (Лилечка, как он ее звал), сын Федя. В комнате кухарки Матрены тихо; и у горничной Дуни тоже тихо.
Он опять услышал шаги.
Это ходят в соседской квартире. В какой же комнате? Да ясно в какой – у Георгия Ивановича Алафузова.
Достоевский вернулся в кабинет. Скрипы его ужасно раздражали, и, зная об этом, Анна Григорьевна следила за тем, чтобы все дверные петли всегда были смазаны. Он еще раз отметил, какая у него прекрасная жена: ничего не забывает из того, о чем ее просят.
Мысль эта появилась и исчезла, а думалось теперь неотрывно о соседе. Население в квартирах разное, пестрое: есть солидные господа, есть чиновники, есть люди совершенно неопределимых занятий. Дом громадный, и по жильцам его, пожалуй, вполне можно составить представление о всём государстве сразу. А если рассмотреть каждого человека в отдельности, да повнимательней, о, тут уже не только Россия предстанет…
Соседнюю квартиру номер 11 нанимает мещанка Прибылова. Сама сдает комнаты, на полученный доход и живет.
Одну из комнат у Прибыловой снимает молодой человек с чрезвычайно привлекательной, характерной внешностью. Люди именно такой наружности еще с юности нравились Федору Михайловичу. Ну, например, Николай Спешнев[27]27
Спешнев Николай Александрович (1820–1882) – русский вольнодумец и революционер, один из петрашевцев. деятель. Этот человек вошел в историю как русский революционер-утопист, глава так называемого революционного кружка петрашевцев, по делу которого проходил практически весь цвет русской интеллигенции 30-х – 40-х годов XIX в.: Ф. М. Достоевский, А. Плещеев, С. Дуров, А. Баласогло, И. Ястржембский и др.
[Закрыть]. С ним он познакомился у Петрашевского[28]28
Петрашеский Михаил Васильевич (1821–1866) – русский мыслитель и общественный
[Закрыть]. Крупные, чуть даже навыкате глаза, густые длинные волосы, благородство осанки. Петрашевский говорил много, а его слушали как бы вполуха; Спешнев говорил мало, но столь веско и сильно, что уже нельзя было забыть того, что он сказал. Под влияние Спешнева Достоевский попал совершенно и по доброй воле – только арест разлучил их.
Или вот Владимир Соловьев[29]29
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – русский религиозный мыслитель, поэт и публицист, литературный критик; почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900). Стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX в. Оказал влияние на религиозную философию Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Сергея и Евгения Трубецких, Павла Флоренского, Семена Франка, а также на творчество поэтов-символистов – Андрея Белого, Александра Блока и др.
[Закрыть] – те же темные прекрасные глаза, та же гордость осанки, глубокий ум, хотя очень молод, двадцать три года всего…
Лицо, осанка, походка у молодого соседа были такими же, как у тех людей, к которым Федор Михайлович привязывался всем сердцем.
Именно о нем, Георгии Ивановиче Алафузове, дворник Трофим Скрипин сказал:
– Федор Михайлович, с молодым барином из одиннадцатой квартиры беда. Жандармы явились с обыском.
Достоевский даже вздрогнул: возвращаясь с вечерней прогулки, он как раз подумал о разноликих обитателях дома, в котором жил. По выражению лица и по голосу дворника было видно, что он сильно обеспокоен положением молодого господина, потому и взял на себя риск сказать Федору Михайловичу о случившемся.
– Ничего, голубчик, это еще не беда. Вернее, не вся беда. Может, это только так, у них бывает. А коли хуже будет – ты мне скажи. Непременно скажи.
Дворник низко поклонился.
Разговор этот был в седьмом часу, в девять Достоевские обычно укладывали детей спать, теперь двенадцатый.
Легко понять, почему молодой человек сейчас в смятении. Наверняка он член какого-нибудь кружка, а то и общества.
Иначе зачем бы с обыском? Хорошо, коли они, молодежь, в своем кружке пока еще только рассуждали, обтачивали мысли и решали, как жить. А если он из тех, кто уже решил, как действовать? Ведь этот недавний взрыв в Зимнем[30]30
Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. осуществил Степан Халтурин. Это был террористический акт, направленный против российского императора Александра II, организованный членами организации «Народная воля».
[Закрыть] – дело их рук, они даже и не скрывают, печатают отчеты в своих тайных типографиях.
Ну вот взрыв. Хотели убить царя, а убили совершенно неповинных простых людей. Да если бы и самого царя убили, что изменилось бы? Ничего. Только пролилась бы кровь еще одного человека. О, как они не понимают, что террор ужасно бессмыслен! Будто на смену одному узурпатору не приходит другой! Будто в истории тому нет примеров! Ну почему они столь недальновидны?
Достоевский подумал о том, что его Алеша обязательно пройдет через террор. Как прошел раньше через монастырь. Да, русскому человеку много надо, и многое ему суждено пережить. На малом он не помирится.
Разве и сам он, молодым, не ходил так по комнате? Не бились разве ему те же мысли в виски, что бьются теперь соседу?
А потом пришли и увели, и была Петропавловская крепость, Семеновский плац и ожидание последней минуты жизни, и вот она, эта минута, и конец, конец!
Даже при одном воспоминании холод прокатывается по сердцу. Унизили, заставили пережить минуту ожидания смерти, а потом объявили о царской милости…
Но разве не радовался он, что остался жить? Разве не вселилась в него неизвестно откуда взявшаяся вера, что всё вынесет, всё стерпит и, очистившись, перестрадав, придет к какой-то высшей мудрости?
Да, такая вера была! И на каторге, среди горя, уродства, надсады, нечеловеческих страданий вера эта не слабела, а укреплялась.
Он прошел весь ад, но достиг ли успокоения за всё выстраданное? Достиг ли той высшей олимпийской точки, с которой, не шелохнувши ни одним мускулом лица, можно изрекать истины?
Эта точка годится лишь для людей с осанкой пяти камергеров, которые еще при жизни могут брякнуть: «Вот мы, великие люди»… Встречал, встречал он таких людишек!
Но если душа у тебя живая, способная чувствовать не только собственную боль, то к этой высшей точке будешь идти до самого последнего часа…
Ну что ему, писателю, до человека, который ходит за стеной?
Вот тут-то весь и вопрос.
Бывает так, что идея падает на человека, как камень, и раздавливает его. И всю жизнь человек корчится под этим камнем, а освободиться не может.
Но бывает и так, что не идея съедает человека, а он сам наполняет ею душу, и она как бы раздвигается, становясь всё просторнее. Так происходит, когда сама жизнь продолжает питать идею, бесконечно ее совершенствуя.
Идеи действительно носятся в воздухе, но только по своим законам. Идеи заразительны, и даже самые высшие из них могут передаваться людям самым простым, совсем необразованным. Если б это знали те, кто думает, что их мысли доступны только им подобным!
Подлое, мерзкое либеральное отродье. В мундирных мыслях, с мундирными сюжетами в литературе, с мундирной «натуральностью» в речах!
Достоевский заметил, что ходит по комнате. Подошел к столу, глотнул чаю. Совершенно неожиданно и даже как будто не к месту вспомнил, как вот так же ходил ночью по комнате у своих родственников Ивановых. Сестра его, Вера Михайловна, была замужем за статским советником, врачом Константиновского межевого института Александром Павловичем Ивановым. В семействе этом было много веселой молодежи, и поэтому Федор Михайлович любил бывать у них – племянница Сонечка особенно ему нравилась. В ту пору он похоронил жену Марию, брата Михаила, друга своего и сподвижника Аполлона Григорьева. Три смерти за какие-то полгода… Когда он бывал у Ивановых, сердце его немного остывало от горя. Ну, а спасался работой: писал «Преступление и наказание».
В небольшой дачке, где он спал и писал, на ночь к нему присылали лакея. И вот однажды лакей решительно отказался идти к Федору Михайловичу:
«Они убийство готовят. По ночам не спят, ходят и говорят об этом».
Воспоминание прилетело и унеслось…
Он решил сделать запись и стал листать тетрадь. Взгляд его остановился на одной из заметок, сделанных недавно, и рука замерла, не перевернула страницу.
«Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, как положено в “Инквизиторе”… которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить! “Инквизитор” и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя бы научно, но не столь высокомерно по части философии… И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик я верую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла… В ваших душах такие трущобы мрака, которые никакой свет не озарит. Кого же вы просвещать думаете, кого?»
Федор Михайлович захлопнул тетрадь и отшвырнул перо.
Перо это было особенное и очень для него дорогое. Оно состояло из деревянной вставки, в которую и закреплялось собственно перо. Вставочка же, помимо основного своего назначения, служила Федору Михайловичу для набивания папирос. Он любил покупать табак, гильзы и сам набивал их. Занимался он этим даже с удовольствием, потому что во время набивки нервы успокаивались, мысли переставали разбегаться и сосредоточивались.
Кроме того, вставочкой он дорожил еще и потому, что к ней привык, – ну, как ребенок привыкает пусть к старой, пусть к истрепанной, а всё равно любимой игрушке.
Вставка покатилась по столу, ударилась о чернильный прибор и упала на пол.
Слышно было, как она прокатилась еще и по полу.
Писатель хотел поднять ее, но тут опять послышались шаги. Вот ноги как бы споткнулись обо что-то; потом еще громыхнуло.
Обыкновенно сосед вел себя тихо, по ночам не ходил; а если и ходил, то шаги-то были другими. Да-да, более деликатные и совсем не такие тяжелые!
«Как же я сразу не обратил на это внимания? – подумал он. – Сейчас что-то столкнул, уронил… Да это же смазные сапоги! О Господи! Да они у него засаду устроили. Самого-то увезли, а тут подсадили утку. Господи, я как чувствовал! Как знал заранее! О нет, тут не фантазии, не литература. Сама жизнь фантастична – пожалте, за стеною засада, и там сидит жандарм!»
Кровь бросилась ему в голову, он встал, прошел к окну и отодвинул штору; форточки нет, открывать окно – целая история, так хоть у подоконника постоять, тут воздух чище.
Что же это? Точно все с корней соскочили. Ведь он, этот молодой человек, с его осанкою, лицом, манерами, наверняка родовой дворянин. А коли живет на такой квартире, следовательно, скрывается. А коли его арестовали, следовательно, вступил в дело нешутейное, чрезвычайное…
Вот как! Это поразительно, именно фантастично, что и теперь, когда ему пятьдесят девять лет, за стеной ходит жандарм! Жандарм, разумеется, жандарм. Раз Алафузов снял всего одну комнату, то наверняка скрывается, это определенно так… Или нет? Просто надел сапоги, чтобы теплее было…
Он ядовито улыбнулся этой своей мысли. Как же, держи карман шире. Умиротворяй себя.
Во-первых, коли бы замерз, надел бы валенки, и его шагов не слышно было бы совершенно. Во-вторых, именно жандармы ходят так тяжело. Да и спотыкаются, потому что комната незнакомая.
Да-да, так.
Достоевский вспомнил, как пять лет назад, в Старой Руссе, когда пошел к исправнику оформлять бумаги для поездки за границу, выяснилось, что полицейский надзор над ним не снят.
И эта черта характерна! Улыбочки, поклоны, заверения, что от писаний его в восторге, а за спиной слежка, надзор – как за бывшим ссыльнокаторжным («сильно каторжный», как грустно шутили они в остроге).
В какой же клубок всё переплетено у нас в России! Христианство сшибается с социализмом, кто за Руссо, кто за Фурье, кто за Канта; один студент вместо икон установил на киоте книжки Бюхнера, Фохта и Молешотта[31]31
Представители вульгарного материализма. Вульгарный материализм – название, под которым известно философское течение в рамках материализма середины XIX в. Название принадлежит Фридриху Энгельсу. Возникло в период Великих открытий естествознания XIX в. Теоретическим предшественником вульгарного материализма был французский материалист П. Кабанис, главными представителями – немецкие ученые К. Фохт и Л. Бюхнер, голландец Я. Молешотт. Названные авторы занимались прежде всего медициной, анатомией и физиологией; философские занятия вытекали из их научно-биологической деятельности.
[Закрыть]. Ну додуматься же! Либерал служит осведомителем в полиции, Анна Философова, жена военного прокурора, прячет у себя революционеров; всё кипит, клокочет. Но из горнила этого не может не выйти та великая идея, на которой сойдутся все русские люди.
И опять, в который раз в жизни, Федор Михайлович почувствовал себя не только в самой гуще, но и в самом центре грозных событий. Успокоиться он не мог и решил писать: работа изнуряет, зато после наступает покой.
Он вернулся к столу и потянулся к перу, но не нашел его на привычном месте. Тут же вспомнил, что вставка упала; взял свечу и стал осматривать пол. Вставки нигде не было видно, значит, она закатилась под этажерку, стоящую у стены, слева от стола. На широких полках этажерки лежали книги, стоял фотографический портрет Анны Григорьевны в овальной рамке.
Достоевский попробовал сдвинуть этажерку, но она не поддавалась. Надо было убрать немного книг, но ему это и в голову не пришло, и он напрягся. Этажерка чуть подвинулась, а он напрягся еще сильнее, почувствовав, как кровь опять прилила к голове. Увидев свою вставочку, поднял ее и положил на стол. Потом взялся за этажерку, чтобы поставить ее на место.
После того как этажерка придвинулась к стене, он сел в кресло за стол. Снова раскрыл тетрадь, на этот раз на том месте, где была заметка о русском народе и вере его. Федор Михайлович сосредоточился и тут почувствовал, как что-то теплое, нежное даже, коснулось губ, бороды. Сначала он не придал этому ощущению никакого значения, но оно повторилось вновь и уже сильнее. Он провел ладонью по бороде и машинально посмотрел на пальцы: они почему-то потемнели. Тогда писатель поднес пальцы ближе к свече и увидел кровь.
Вынув из кармана платок, он вытер бороду: весь платок стал красным. Осторожно встав из-за стола, он подошел к дивану, прилег, запрокинув голову. Он понял, что у него внутри лопнул какой-то сосуд, потому и пошла горлом кровь. Глотая ее, он успокаивал себя: ничего, сейчас пройдет, ничего.
Слава Богу, смазные сапоги перестали мерить комнату.
Он закрылся одеялом и решил спать. Через некоторое время кровь перестала идти.
Федор Михайлович задремал, а потом заснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.